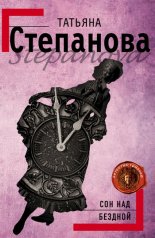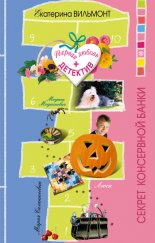Корабль мертвых. История одного американского моряка Травен Бруно

Бруно (Башфул) Травен
…Теперь я отлично понимаю, что последняя война велась только для того, чтобы фараоны в каждой стране получили право спрашивать про мою корабельную книжку. До войны этого никто не делал, и люди жили счастливо. Всегда подозрительны войны, которые ведутся за свободу, независимость и демократию. Они стали такими с того дня, когда пруссаки повели первую освободительную войну против Наполеона. Хорошо выигранная война навсегда лишает людей свободы, потому что выигрывает именно война, а свобода всегда проигрывает. Yes, Sir.
Бруно Травен
Однажды немецкий писатель Вольф Бреннике, автор замечательной повести «Сделано в Колумбии» (из-за которой колумбийские власти в свое время всерьез рассорились с властями ГДР), рассказал мне такую историю. Близкий его приятель где-то в начале тридцатых годов прошлого века сбежал из впадающей в фашизм Германии, много плавал по морям, в конце концов добрался до Мексики. Слоняясь по порту Акапулько, услышал: «Вы немец?» – «А вы?» – «Американо», – ответил человек с сильным немецким акцентом. И спросил: «Умеете обращаться с пишущей машинкой?»
Приятель Вольфа умел.
Дом американо был уединен, его окружал густой сад.
На рабочем столе стояла машинка «Рейнметалл» с немецкой клавиатурой, стопками лежали копирка, хорошая бумага. Пока хозяин готовил кофе, приятель Вольфа пробежал несколько исписанных от руки листков. Какая-то морская история. Моряк, явно американский, отстал от своего корабля (прямо как наш герой) в негостеприимном Антверпене. Без паспорта и матросской книжки он, конечно, угодил в полицию. Ну и все такое прочее. За несколько ночей (днем американо отсыпался) приятель Вольфа отстучал на машинке сотни три полновесных страниц. В награду неразговорчивый работодатель устроил немца на какую-то португальскую посудину. И вот через несколько лет, почти перед войной (уже Второй мировой), на борту немецкого судна приятель Вольфа, дослужившийся до боцмана, нашел в кубрике затрепанную, затертую многими руками книгу.
«Меня незамедлительно потащили к первосвященнику.
– Хотите во Францию? – спросил он.
– Нет, я не люблю Францию. Французы большие привереды, всегда им не сидится на месте. В Европе они хотят все захватить, а в Африке всех запугать. Я от этого нервничаю. Им, наверное, опять скоро понадобятся солдаты, а у меня нет моей корабельной книжки. Они могут подумать, что я француз. Нет, во Францию я не хочу.
– А что вы думаете о Германии? Ох, уж эта его внимательность!
– В Германию тоже не хочу.
– Почему? Германия спокойная страна, там легко найти нужный корабль.
– Нет, немцы мне не нравятся. Когда они представляют счет, нельзя не пугаться. А когда не платишь по счету, они хватают тебя и бросают на какую-нибудь самую грязную посудину, чтобы ты отработал их нелепую стряпню. Она у них немногого стоит, но я всего лишь палубный рабочий, и мне никогда не заработать столько, чтобы пообедать в приличном немецком кафе. Я, наверное, никогда не стану достойным представителем среднего класса при таких заработках.
– Перестаньте болтать! – прикрикнул первосвященник. – Отвечайте, да или нет. Ничего больше. Хотите в Голландию?
– Нет, не люблю голландцев… – начал я, решив рассказать подробно, почему я их не люблю. Но рассказать мне не позволили.
– Плевать мне на то, любите вы голландцев или нет! – заорал первосвященник. – Это не наша забота. Любите вы их или нет, но отправитесь вы к голландцам. Во Франции вы бы устроились лучше всего, но вы не хотите туда. И Германия недостаточно хороша для вас. Тогда пойдете прямо в Голландию. Все, конец! Ради вас мы не станем перекраивать границы и заводить других соседей. Отправитесь в Голландию, и не смейте возражать! Радуйтесь, что так дешево отделались…»
Знакомые, очень знакомые слова.
Когда-то боцман переписывал их на машинке «Рейнметалл».
Теперь американо, подобравший приятеля Вольфа в порту, был знаменит.
Имя Бруно Травена (такое имя стояло на обложке) знали во всем мире. Романы «Проклятье золота» (1928), «Сборщики хлопка» (1931), «Корабль мертвых» (1934), «Сокровище Сьерра Мадре» (1935), «Мост в джунглях» (1938), «Восстание повешенных» (1938), «Поход в страну Каоба» (1958) были переведены на тридцать семь языков и расходились миллионными тиражами. Правда, при всей этой невероятной популярности, сам писатель в течение многих десятилетий оставался загадкой. «Я не понимаю, – писал он немецкому издателю «Корабля мертвых», – почему поднимается такая шумиха вокруг популярного писателя, не понимаю, почему читатели стремятся узнать, в какое время он встает, что ест, курит ли, ест ли мясо, играет в гольф или покер, женат он или холост. Я только работник, такой же, как и все. Создатель наделил меня способностью писать книги, и я обязан писать их, как был бы обязан выращивать хлеб или производить бумагу для своих книг. В этом смысле я не более значителен, чем типографский рабочий, набирающий мою книгу, или рабочий, производящий бумагу для нее. И не более значителен, чем переплетчик моих книг, или женщина-упаковщица, или уборщица типографии. Без их помощи и самоотверженного труда читатели никогда не получили бы моих книг, как бы превосходно они ни были написаны. Но я ни разу не слыхал, чтобы читатель мечтал получить автограф именно от переплетчика или от женщины-упаковщицы. Конечно, моя жизнь не разочаровала бы читателей, но она касается только меня, и я не желаю говорить о ней».
Не пролили много света на биографию писателя и заметки Бернарда Смита, в прошлом главного редактора американского издательства «Альфред Кнопф», в котором вышли три самых значительных романа Бруно Травена. В «Нью-Йорк таймс: бук ревью» Бернард Смит подробно рассказал, как работал над «Кораблем мертвых», «Сокровищем Сьерра Мадре» и «Мостом в джунглях». В процессе работы над рукописями сам Травен ни разу не появился в издательстве. Он даже ни разу не позвонил Смиту, предпочитая общаться по почте.
Разумеется, журналисты раздули волну слухов. Одни писали, что Травен – немец, что он вырос в Германии и даже принимал участие в «красной» революции 1918 года. Другие утверждали, что Травен родился в Америке, но совсем молодым ушел в море и не смог позже доказать свое американское гражданство. Третьи писали о многочисленных псевдонимах загадочного писателя, сочиняли за него множество как бы «достоверных» биографий. В статье, написанной для журнала «Шпигель», репортер Герд Хайдеманн, например, безапелляционно заявлял, что тайны Травена больше не существует. Под этим псевдонимом, указывал репортер (кстати, «прославившийся» позже фальсификацией дневников Адольфа Гитлера), скрывается некий полузабытый немецкий литератор Август Бибелие. Он приводил в виде доказательства письмо от некой госпожи Хедвиг Майер из Гамбурга. Она недвусмысленно намекала, что загадочный писатель Бруно Травен действительно может быть Августом Бибелие, ее первым мужем, когда-то пропавшим без вести. В книгах Бруно Травена госпожа Майер якобы нашла совершенно точный рассказ о событиях своего первого брака, а судьба героя из «Корабля мертвых» поразительно совпадала с биографией Августа Бибелие.
Версии сыпались одна за другой.
В журнале «Форвертс» некий журналист указывал на то, что писатель Травен живет в Западном Берлине под именем капитана Бильбо. Чехословацкий журналист Иван Ружичка писал, что Травен – это известный чешский литератор Артур Брейский, который еще до Первой мировой войны уехал в Америку. Если отнестись к псевдониму В. Traven как к анаграмме, писал Ружичка, то расшифровывается она так: «Newart В». То есть, «новое искусство Б» (Брейского). Ружичка ссылался при этом на известную склонность Брейского к мистификациям: в свое время он два собственных рассказа издал как переводы из Стивенсона… Писали о том, что под псевдонимом прячется словенский пастух Франц Травен… И о том, что Бруно (или Башфул – по другой транскрипции) – это бежавший из СССР бывший русский князь… Или один из потомков Гогенцоллернов… Или даже знаменитый Джек Лондон, симулировавший самоубийство… Особенно нашумело расследование, проведенное лейпцигским литературоведом Рольфом Рекнагелем. Он начал с изучения ближайшего окружения Травена. В частности, с Беррика Торсвана, тоже личности весьма загадочной. Жил он в Мехико, везде появлялся в темных очках, всячески избегал фотографов. Впрочем, в октябре 1959 года он все же угодил в кадр. Случилось это в Гамбурге, куда Торсван приехал на премьеру фильма, снятого по одному из романов Травена.
«Сопоставляя маршрут скитаний Торсвана по Мексике, – писал позже журналист Анатолий Медведенко, – Рольф Рекнагель выяснил, что он буквально совпадает с описанием мест и событий, встречающихся в книгах Травена. К тому же Рекнагелю каким-то образом удалось узнать, что в удостоверении, выданном Б. Травену в 1942 году, он значился именно как Б. Травен Торсван. Вместе с тем, изучая литературу периода ноябрьской революции 1918 года в Германии, Рекнагель наткнулся на статьи журналиста Рета Марута, чей литературный стиль напомнил ему манеру Бруно Травена. Выяснилось, что до Первой мировой войны Марут был актером, потом занялся журналистикой, издавал в Мюнхене журнал „Цигельбреннер”, в котором печатал статьи, критикующие милитаризм, церковь, буржуазную печать, и анонимно публиковал свои рассказы. По словам людей, знавших Рета Марута, его всегда окружала таинственность. Он заявлял, что у него „нет ни малейшего литературного честолюбия”. Рет Марут приветствовал Октябрьскую революцию в России и выражал надежду, что и в Германии пролетариат тоже возьмет власть в свои руки. И когда в стране действительно грянула революция, Рет Марут оказался в стане восставших. С 7 по 13 апреля 1919 года он даже занимал пост заместителя народного комиссара просвещения Баварской Советской Республики. В мае республика была подавлена, Марут, объявленный в розыск, через Австрию уехал по чужому паспорту, и след его затерялся. Сравнивая жизнь Рета Марута, Бруно Травена и Б. Торсвана, анализируя их творчество, сличая, наконец, попавшие в его руки фотографии, Рекнагелъ предположил, что все они – одно и то же лицо. И всех их объединяла прекрасная Мексика, ставшая второй родиной Травена. Он приехал сюда в начале 1920-х, поселился в девственных лесах Чьяпаса, среди местных индейцев. Был сборщиком хлопка, золотоискателем, работал на нефтяных приисках и заготовках леса. И много путешествовал. „Тот, кто хочет познать душу дремучих зарослей и джунглей, – говорил Б. Травен, – их жизнь и песни, их любовь и смертельную ненависть, не должен жить в Реджис-отеле в Мехико. Он должен углубиться в джунгли, полюбить их, обручиться с ними…”»
Свои изыскания Рольф Рекнагель изложил в книге «Бруно Травен. К биографии».
Казалось, тайна разгадана. Но опроверг выводы литературоведа сам Бруно Травен. В письме к библиофилу Харри X. Шварцу писатель заметил, что его имя «…вовсе не Бруно, и не Бен, и не Бенно. Эти имена и многочисленные национальности, а среди них и немецкая, есть не что иное, как досужие выдумки критиков и журналистов, которые не прочь покрасоваться в роли всезнаек. Я неоднократно выступал в европейских изданиях с опровержениями. И редакторы моих книг с первых дней наших деловых отношений прекрасно знали, что я родился в США».
Настоящей сенсацией стала статья мексиканского репортера Луиса Суареса, опубликованная в журнале «Сьемпре». Суарес утверждал, что в 1966 году ему удалось лично встретиться с автором «Корабля мертвых».
«…В небольшой комнате нижнего этажа, – писал он, – где разместилась одна из четырех библиотек писателя, меня приняла его очаровательная супруга – Роса Елена Лухан. Художник Диего Ривера, общий друг семьи Травенов, зовет ее ласково Челена. Как свидетельство дружбы с Риверой, на стене висит небольшой рисунок работы великого мастера. На нем изображена одна из тех известных лягушек, которые часто появлялись на автопортретах художника. Его же рукой сделана надпись: „Но я ее не застал. 22.08.55. Всего наилучшего Челене”. Тут же картины, гравюры, скульптуры, подаренные писателю его знаменитыми современниками. На книжных полках – произведения, изданные за рубежом. Каждая книга – в трех экземплярах. Из узкого прохода, разделявшего столовую и зал, видна стена прихожей. Стеклянная веранда выходит в небольшой сад. В другую библиотеку, из которой можно перейти в кабинет хозяина, ведет лестница. Но в кабинет вход запрещен. Это святая святых. Там писатель работает до трех часов утра. Входить в кабинет может только его жена. Сеньора Роса Елена Лухан стала женой Бруно Травена в 1956 году. До этого она была его секретарем, но и в статусе супруги продолжала вести его дела. „Для меня Травен больше, чем муж, он божество”, – призналась сеньора Лухан. Кстати, писатель всегда обращается к жене на испанском языке, называет ее „жизнь моя”, а она неизменно отвечает на английском: „дорогой”. У него средний рост, седая шевелюра, медлительные движения и усталые глаза. От правого уха тянется проводок слухового аппарата. Говорит он медленно, отчетливо произнося каждое слово, выделяя каждую фразу. Раскатистое „р-р-р” выдает иностранное происхождение.
– Сеньор Травен, почему ваше имя окутано тайной?
– Вокруг меня нет никаких тайн. Просто дюжина немецких журналов, раздувая мнимую проблему, поднимает свои тиражи.
– Но почему вы ничего не делаете, чтобы развеять легенду?
– Я никогда не буду содействовать ни созданию, ни разрушению каких-либо легенд. Для писателя главным являются его книги, а не его жизнь.
– Вы знаете, конечно, что существует ряд биографических книг о вас, например, книга Макса Шмидта, вышедшая в Цюрихе, и Рольфа Рекнагеля, изданная в Лейпциге. Baute мнение о них?
– Отвергаю.
– Критики утверждают, что писатель Бруно Травен всегда защищает точку зрения мексиканцев…
– Это верно.
– Только в книгах?
– В жизни тоже. Это одна из причин, почему некоторые из моих книг до сих пор не опубликованы в США. Вполне возможно, что я смотрю на все с мексиканской колокольни. В отличие от американских литераторов, у которых злодей всегда мексиканец, в моем романе „Белая роза”, например, таким злодеем является янки. Многое, что писали и пишут в Соединенных Штатах Америки о Мексике, неправда. Мексику надо любить такой, какая она есть. Я люблю эту страну. Я чувствую себя мексиканцем. Какую же другую точку зрения мне защищать?»
Впрочем, до сих пор неясно даже то, на каком языке писал Бруно Травен.
Тексты из Мексики в издательства приходили английские, но сам писатель указывал, что роман «Корабль мертвых», например, является всего лишь «… оригинальной английской версией». То же самое он говорил и о других своих романах. Это, правда, противоречило словам вдовы писателя Розы Елены Луджиан (Роса Елена Лухан – в другой транскрипции), которая (после смерти мужа) на премьере фильма «Мост в джунглях» в Париже, обронила, что муж ее «… говорил по-английски красиво и правильно. Он говорил на настоящем английском языке и имел настоящее прекрасное образование».
Конечно, слова вдовы тоже могут быть частью хорошо организованного мифа, но американский редактор книг Бруно Травена, уже упоминавшийся выше Бернард Смит, работая с рукописями писателя, обнаружил в них массу чисто немецких конструкций и идиом. «Что касается личности Бруно Травена, – писал он, – кажется, я могу пролить на это некоторый свет. Когда осенью 1936 года мы с супругой решили отдохнуть в Мексике, я написал Травену, что был бы счастлив увидеться с ним. Но ответ писателя разочаровал меня. Оказывается, именно на время нашего пребывания в Мексике он якобы отбывал по важным личным делам в поездку по американским штатам Калифорния, Дакота и Висконсин. Короче, Травен дружески, но весьма решительно отказал во встрече даже мне, своему редактору, так много работавшему с его текстами. Правда, в этом же письме он любезно предупреждал нас, что Мексика не безопасна, что она буквально заполонена бандитами, что их там целые орды и они представляют реальную опасность для туристов. „Но, – тем не менее, заключал Травен, – если Вы действительно хотите увидеть прелесть маленьких городов и настоящую колониальную архитектуру… увидеть дикую природу, какой Вы ее никогда не видели и не могли видеть.… если хотите отдохнуть от барабанов Армии Спасения, проповедей о Христе и болтовни о России и большевиках… тогда Вы сделали самый правильный выбор… Пошлите всех бандитов к черту и поезжайте в Мексику!”
Когда я ответил, что бандиты нас не пугают, он одобрил такое решение и сообщил, что приготовил для нас подарок.
Подарок знаменитого писателя привел нас с женой в восторг.
Он заключался в том, что в Мехико нас встретила машина и экскурсовод – молодая красивая женщина мисс Мери – „студентка Национального университета”, прекрасно владеющая английским. Она передала мне еще одно письмо от Травена, в котором он подробно (и с немецкой аккуратностью) расписал для нас экскурсии на каждый день.
Поразительно, как удачно эти экскурсии были составлены.
Тридцать пять страниц плотного машинописного текста.
Личностный, лаконичный, учитывающий все особенности бедекер.
Нам предлагался замечательный маршрут – от Вера Крус до Акапулько.
Если какой-то материал был почерпнут просто из обыкновенного путеводителя, он тут же подкреплялся обширным авторским комментарием. Скажем, о небольшом городке Пуэбло в письме было сказано: „Посетите кафедральный собор Эль Розарио… церковь Сан Франциско… и хорошенько осмотрите их изнутри. Это позволит Вам понять, почему Мексика такая бедная страна, и куда уходят все плоды трудов многих индейцев”. Или: „Непременно загляните на рынок… Там индейцы продают неприхотливые, но всегда замечательные творения своих рук… Некоторые приезжают сюда из горных районов и говорят на языках, которые любого человека могут поставить в тупик…”
Это было чудесное путешествие: машина надежна, а мисс Мери любезна и услужлива. И все же в течение всего времени, проведенного в Мексике, нас ни на секунду не оставляло странное чувство, что Травен находится где-то поблизости. Мы почти не сомневались в том, что он внимательно наблюдает за нами, следит за каждым нашим шагом. Думаю, – не без юмора замечал Смит, – он остался доволен: мы тщательно придерживались всех его инструкций, написанных поистине с немецкой тщательностью…»
«Бруно Травен так и остался личностью загадочной, человеком, никому не известным, -такими словами закончил свои заметки Смит. – О причинах его необычного поведения много спорили, строили множество догадок. Однажды вдова писателя даже намекнула, что Бруно Травен вел столь скрытный образ жизни исключительно ради забавы. Может быть… Если даже жена не захотела ничего рассказать о своем знаменитом муже, то я готов поверить. Начав такую интересную игру, трудно из нее выйти…»
Скончался Бруно Травен 27 марта 1969 года.
Прах его развеяли над тропическим лесом мексиканского штата Чьяпас.
На русском языке существует перевод «Корабля мертвых». Он сделан в 1929 году талантливой переводчицей Э. И. Грейнер-Гекк. К сожалению, перевод ее не полон, конструкция романа нарушена. Много лет я мечтал представить русскому читателю полный текст великого романа.
Мечты, как видим, сбываются.
Геннадий Прашкевич, 2006, Новосибирск
Книга первая
Остынь, девчонка, не рыдай,
Меня домой не ожидай —
В чудесный Новый Орлеан,
В солнечную Луизиану.
Случилась все-таки беда
И не вернусь я никогда —
В чудесный Новый Орлеан
В солнечную Луизиану.
Остынь, девчонка, не рыдай,
На мертвом корабле я, знай.
Прощай, чудесный Новый Орлеан,
Солнечная Луизиана.
1
На пароходе «Тускалуза» я пришел с грузом хлопка из Нового Орлеана в Антверпен.
Это был экстра корабль. Будь я проклят, если вру. First rate steamer, пароход первого класса, made in USA. О, солнечный улыбающийся Новый Орлеан, только там бывают такие корабли, не то что у трезвых пуритан и холодных торговцев басмой с Севера! А какие на нем чудесные каюты для экипажа! Их проектировал кораблестроитель, осененный дерзкой революционной мыслью, что экипаж любого судна, как это ни странно, тоже состоит из людей, а не просто из рабочих рук. Все блестит, все сияет. Баня, белье, сетки против москитов. Всегда чистые чашки, столовые ножи, вилки, ложки. Даже негритята, думающие только о том, как бы поддержать эту чистоту, все сделать так, чтобы экипаж был здоров и в добром настроении. Компания наконец догадалась, что обихоженные моряки лучше заморенных.
Второй офицер? Я? No, Sir. Я не был вторым офицером на этом корыте. Я был просто палубным рабочим, совсем скромным. Такой чудесный современный корабль в некотором смысле уже и не корабль. Это плавающая машина. Такой корабль нуждается не в моряках, а в рабочих. Даже шкипер на нем всего только инженер. И старший матрос, который стоит на руле, всего лишь машинист, я не вру. Время романтиков ушло. Да и вряд ли на морях были романтики, это вымысел. Лживые истории о морских приключениях придумывают для того, чтобы неопытных юношей вовлечь в такую жизнь, где они быстро опускаются и гибнут, поскольку их ничто не поддерживает, кроме веры в правдивость всех этих гнусных морских писак. Для капитана и рулевых, может, когда-то существовала романтика, не знаю, но для экипажа никогда. Для экипажа был только труд, в котором нет ничего человеческого. Капитан и рулевые становились героями опер, романов и баллад, но никогда нигде не звучала песенка о моряке, который постоянно занят работой. Yes, Sir.
Да, я был только палубным рабочим, всего лишь. Выполнял любую работу, которая оказывалась нужна. Например, красил борта. Машина работает сама, а рабочие должны быть заняты. Грязные борта не должны быть грязными, потому что тогда мы увидели бы на корабле лентяев со скрещенными на груди руками. А таких не должно быть. Они должны работать с утра до ночи. На судне всегда есть что-то такое, что требует покраски. Невольно приходишь к мысли, что та часть человечества, которая никогда не выходит в море, занята только одним – производством краски. Невольно преисполняешься благодарностью к ним, потому что, если краски не окажется, палубные рабочие останутся без работы, а старший офицер, которому мы подчиняемся, впадет в мрачное отчаяние, потому что некому будет отдавать команды. Разве будет кто-то платить за работу, которая не сделана? No, Sir.
Велика ли моя зарплата? Не думаю. Даже четверть века непрерывного труда не дала бы мне столько денег, чтобы попасть на приличное кладбище. Свой среди нищих трупов, это да. И только еще одна четверть века непрерывного труда позволила бы мне приблизиться к званию самого бедного представителя так называемого среднего класса. Правда, тогда я уже считался бы гражданином, потому что средний класс – главная опора любого развитого государства. Я уже мог бы называть себя достойным членом общества. Но все вместе это требует полвека непрерывного труда, не меньше. Ничуть не меньше. Может, там, в ином мире…
Нет, я не думал изучать город. Тем более Антверпен. Я его не терплю. По нему шляется много плохих моряков и всяких грязных типов. Yes, Sir. Но ничего в жизни не бывает просто. Жизнь редко сообразуется с нашими планами и меньше всего интересуется, нравится нам все это или нет. Не гигантские глыбы вращают колесо мира, а мириады мелких камушков. Сняв груз, мы должны были взять балласт и уйти с ним. В тот вечер перед отходом «Тускалузы» экипаж отправился в город. На палубе остался только я. Надоело чтение, надоел сон, я не знал, чем заняться. Нетрудно догадаться, почему весь экипаж оказался на берегу. Каждому хотелось пропустить по рюмочке, ведь дома, в Америке, нас ожидал сухой закон. Я лениво плевал с борта, и вдруг мне захотелось почувствовать твердую землю под ногами, увидеть улицу, которая не качается под ногами. Захотелось дать отдых усталым глазам, сделать себе подарок. Всего-то.
– Раньше надо было идти, – сказал старший офицер, выслушав меня. – Сейчас у меня нет денег.
– Мне нужно всего двадцать долларов, сэр.
– Пять, и ни цента больше.
– С пятеркой мне нечего делать на берегу. Нужно двадцать, чтобы завтра не болеть. Вы же знаете. Именно двадцать.
– Десять. И это мое последнее слово. Десять или совсем ничего. Хотя я могу и цента тебе не дать.
– Хорошо, – быстро согласился я. – Десять.
– Распишись вот здесь. Утром я занесу это в ведомость.
Так я получил червонец. Я и хотел всего червонец. Но если бы так сказал, то получил бы от офицера только пятерку. Больше червонца я не собирался тратить. То, что берешь в город, обратно никогда с собой не приносишь, это точно.
– Не напивайся, – посоветовал офицер. – Здесь страшная дыра.
Я обиделся. Капитан, офицеры и инженеры всегда напивались, как скоты, даже по два раза в день, а мне советуют не напиваться. Что за глупость. Я не беру этой отравы в рот. На моей родине в Америке сухой закон. Yes, Sir. Я сухой до самых костей. Можете положиться на меня.
И двинулся вниз по трапу.
2
Смеркалось. Я шел по улице, довольный миром, не думая даже, что кому-то он может не нравиться. Разглядывал витрины, встречных. Какие хорошие девчонки, дьявол их побери! Некоторые не замечали меня, но те, кто вдруг меня видел, улыбались лучше всех. Незаметно я подошел к дому, фасад которого был чудесно вызолочен. Очень весело все это выглядело и двери были широко распахнуты. «Входи, приятель, садись, забудь свои заботы!»
Забот у меня не было, но забавно показалось, что их можно вот так забыть. Ну, разве это не мило? А внутри вызолоченного дома оказалось много людей и все были веселыми, все забыли о своих заботах, вовсю гремела музыка. Я сел за стол, и стены там тоже оказались вызолоченными. Развязный парнишка грохнул передо мной бутылку и стакан. Наверное, умел читать мысли, потому что предложил по-английски: «Плюнь на все и веселись, как все тут».
Он был прав. В течение долгого плавания я видел вокруг только хмурые лица, слышал окрики боцмана и офицеров, а теперь меня окружали исключительно веселые люди. И я тоже решил повеселиться. И с этого мига ничего не помню. Но упрекаю в этом не веселых людей в вызолоченном доме, а сухой закон, который ничем не может помочь слабым. Закон вообще делает человека только слабым, поскольку в природе человека преступать все законы, которые он создает. Только через какое-то время я определился в неизвестной тесной каморке, где неизвестная чудесная девушка весело обняла меня.
Я спросил:
– Сколько сейчас времени, малышка?
– Ох, – ответила она и весело засмеялась. – Ты, наверное, настоящий джентльмен, да? Ты так спрашиваешь про время, будто торопишься. Ох, какой хороший мальчик, – нежно погладила она меня, – не лишай себя удовольствия, будь кавалером, не оставляй свою девочку среди преступников. Тут вокруг много таких, а я ужасно труслива, разбойники могут меня убить.
Да, в таких обстоятельствах долгом крепкого американского моряка является защита беспомощных девочек. Мне с самого детства строго внушали: выполняй все, что попросит вот такая беспомощная трусливая девочка, исполняй все ее просьбы, даже если это сопряжено с риском. Поэтому в порт я вернулся только утром. И не увидел свою любимую «Тускалузу». Она ушла в солнечный Новый Орлеан без меня.
Мне не раз приходилось видеть дитя, заблудившееся, потерявшее мать. Я даже видел людей, у которых сгорел дом или, наоборот, был унесен наводнением. Я видел животных, у которых отняли самку, а то и еще хуже. Все они выглядели печальными. Очень печальными. Но еще печальнее выглядит моряк, оставшийся в чужой стране, когда его корабль ушел. При этом пугает его вовсе не чужая страна. Моряк привык к чужим странам. Иногда он остается в чужих странах добровольно по каким-то своим личным причинам. Конечно, он и тогда выглядит печально, но не испытывает такой ужасной тоски и потерянности. Когда корабль уходит на родину без тебя, ты сразу чувствуешь себя брошенным. Ты сразу начинаешь понимать, что корабль, оказывается, свободно может обойтись без тебя, ты не так уж и нужен ему. Жалкая заклепка, потерянная кораблем, вполне может стать причиной его гибели, а вот ты ничего для него не значишь. Корабль нуждается в каждой заклепке, без нее ему крышка, а отсутствие моряка имеет даже положительные стороны: компания сэкономит деньги на зарплате. Никому моряк не нужен на самом деле. Если выловят из воды его труп, даже опознавать не станут. Просто скажут: «Это моряк». Вот все, что можно сказать о таких, как я.
Но тосковать я не хотел. Сделай из плохого хорошее, сказал я себе. К черту «Тускалузу»! К черту это корыто, на морях много судов гораздо краше его. Ну-ка, друг, давай посчитаем, сколько плавает по морям судов? Полмиллиона, точно. И все они нуждаются в палубных рабочих. Антверпен огромный порт, сюда заходит множество кораблей. Конечно, не следует думать, что прямо сейчас капитан первого же судна крикнет в мегафон: «Эй, господин палубный рабочий, прыгайте на палубу, не уходите к соседу, прошу вас!» Но все равно когда-нибудь крикнет. Так что не стоит страдать из-за неверности этой «Тускалузы». Есть корабли получше. У нее только чистые каюты да хорошая еда. Вот и все преимущества. Жалко только, что проклятые беглецы, бросившие меня в Антверпене, жрут сейчас яичницу с беконом. Ох, хоть бы моя порция не досталась Слиму. Лучше бы она досталась Бобу, хотя и он та еще собака. Эти бандиты сейчас приступили к дележу, они заберут все мои вещи, а старшему офицеру скажут, что я ничего не имел. Слим и раньше воровал у меня туалетное мыло, видите ли, он не любит умываться простым, этот бродвейский разнаряженный жеребец. Yes,Sir, вы не поверите, на что они способны.
Ладно. Что мне теперь до этого корыта? По-настоящему меня тревожило только то, что в кармане денег не оказалось. Маленькая трусливая девочка так жалостливо рассказала ночью, что ее любимая мама умирает от тяжелой болезни, что я отдал ей все доллары, чтобы утром она смогла купить нужные лекарства. Я не хотел нести ответственность перед небом за смерть чудесной старушки, поэтому отдал девчонке все деньги, какие имел. Я ведь возвращался на корабль, где меня всегда накормят и напоят, а у девчонки мать была при смерти. Разве я не обязан был ей помочь?
3
Присев на какой-то ящик, я проследил весь путь «Тускалузы» в море. Очень надеялся, что скоро она напорется на морскую скалу и экипаж вынужден будет опустить шлюпки. Жаль, что она ловко обходит рифы, я так и не услышал о ней плохих новостей. Все равно я желал ей всех несчастий. Лучше всего, если бы она попала в руки пиратов, а они уж отняли бы у этой гадины Слима все мои вещи и так ему наподдали, что впредь зарекся бы к ним прикасаться.
Это были хорошие мысли. Я начал подремывать, но тяжелая рука коснулась моего плеча. Чей-то голос зазвучал так торопливо, что я ничего не мог понять. Это меня разозлило. «Черт! – сказал я. – Заткнитесь. Мне тошно от вашего треска. Я ничего не понимаю. Идите к дьяволу».
– Вы англичанин? – спросили наконец по-английски.
– Нет, янки.
– Аха, значит, американец.
– Ну да, – сказал я. – И оставьте меня в покое. Не хочу никого слышать.
– Но меня вам придется слушать.
– Это еще почему? Нуждаетесь в дружеском разговоре?
– Вы моряк?
– А вам какое дело?
– С какого корабля?
– С «Тускалузы». Новый Орлеан.
– «Тускалуза» ушла еще в три утра.
– Зачем вы мне это говорите? Неужели нет новостей более свежих? Эта уже смердит.
– Покажите ваши документы.
– Какие документы?
– Вашу корабельную книжку.
Ох, шоколадный крем с яблочным соком! Ох, яичница с беконом! Моя корабельная книжка! Понятно, она осталась в кармане моей тужурки, а тужурка лежала в моей сумке, а сумка уютно покоилась под койкой моей каюты. На «Тускалузе». Интересно, что сегодня подали на завтрак? Если негр пережарил сало для яичницы, я задам ему взбучку.
– Да, вашу корабельную книжку. Понимаете меня?
– Вроде бы да. Но корабельной книжки у меня нет.
– У вас нет корабельной книжки? Надо было слышать, как он это спросил.
«Вы не верите, что существуют моря и океаны?»
И что ему она далась? Явно не поверил мне и спросил в третий раз. Ему казалось непостижимым отсутствие корабельной книжки.
– Хоть какие-то документы у вас есть? Паспорт? Удостоверение личности?
– Нет, – уверенно сказал я.
– Тогда идите со мной.
– Куда? – я никак не мог понять намерения этого человека. Если он хочет потащить меня на какую-нибудь посудину, которая мне не нравится, я не пойду. И дозорное судно меня не устроит, эта служба не для меня. Я не видел поблизости никаких кораблей, но мне не нравилось, что он так энергично тащит меня.
– Куда? Сейчас поймете.
Не буду утверждать, что он произнес это любезно, хотя агенты по найму моряков бывают необыкновенно любезными, когда не могут найти матроса для какого-нибудь корыта. Значит, он имел в виду более приличное судно, не трещалку для каботажных рейсов? Не зря я говорил себе: не горюй, моряк, тебе повезет. Кораблей много, и везде нужны твои руки.
И мы пошли.
И оказались где?
Правильно, в полицейском участке.
Тут меня основательно обыскали. Не найдя ничего, стоящего внимания, человек, торжественный, как первосвященник, спросил сухо:
– Оружие? Инструменты?
Я был поражен. Вполне нормальный на вид человек. Неужели он думает, что я могу припрятать за поясом пулемет? Или держать в кармане бинокль? Неужели он думает, что у меня непременно окажется то, что он ищет? Я и так стоял перед столом, за которым суровый человек, похожий на первосвященника, смотрел на меня так, будто я спер у него бумажник. Он даже раскрыл толстый альбом, в котором было наклеено много фотографий. Все, наверное, его приятели. Он внимательно сличал мое лицо с фотографиями в альбоме. Никак не мог отыскать нужный снимок.
Когда во время войны европейцам требовались наши солдаты, они нас узнавали издалека, а здесь нет, здесь успех ему не сопутствовал. Он сто раз взглянул на мое лицо и на фотографии. Напрасно. Ему только казалось, что он вот-вот меня узнает. Этого не произошло. Он опустил глаза и закрыл книгу. А я не помню, чтобы фотографировался в Антверпене. Дешевка мне не по душе, а в дорогих ателье нужны деньги.
Хотел бы я знать, почему европейцы называют завтраком то, что мне подали в какой-то серенькой комнатушке. Кофе и хлеб с маргарином. Наверное осталось еще со времен войны. Или они все-таки проиграли войну, несмотря на весь этот шум в газетах?
Все же они дали мне хлеб с маргарином, и я с отвращением его проглотил.
Меня незамедлительно потащили к первосвященнику.
– Хотите во Францию? – спросил он.
– Нет, я не люблю Францию. Французы большие привереды, всегда им не сидится на месте. В Европе они хотят все захватить, а в Африке всех запугать. Я от этого нервничаю. Им, наверное, опять скоро понадобятся солдаты, а у меня нет моей корабельной книжки. Они могут подумать, что я француз. Нет, во Францию я не хочу.
– А что вы думаете о Германии?
Ох, уж эта его внимательность!
– В Германию тоже не хочу.
– Почему? Германия спокойная страна, там легко найти нужный корабль.
– Нет, немцы мне не нравятся. Когда они представляют счет, нельзя не пугаться. А когда не платишь по счету, они хватают тебя и бросают на какую-нибудь самую грязную посудину, чтобы ты отработал их нелепую стряпню. Она у них немногого стоит, но я всего лишь палубный рабочий, и мне никогда не заработать столько, чтобы пообедать в приличном немецком кафе. Я, наверное, никогда не стану достойным представителем среднего класса при таких заработках.
– Перестаньте болтать! – прикрикнул первосвященник. – Отвечайте, да или нет. Ничего больше. Хотите в Голландию?
– Нет, не люблю голландцев… – начал я, решив рассказать подробно, почему я их не люблю.
Но рассказать мне не позволили.
– Плевать мне на то, любите вы голландцев или нет! – заорал первосвященник. – Это не наша забота. Любите вы их или нет, но отправитесь вы к голландцам. Во Франции вы бы устроились лучше всего, но вы не хотите туда. И Германия недостаточно хороша для вас. Тогда пойдете прямо в Голландию. Все, конец! Ради вас мы не станем перекраивать границы и заводить других соседей. Отправитесь в Голландию, и не смейте возражать! Радуйтесь, что так дешево отделались.
– Но я не хочу в Голландию.
– Заткнитесь! Вопрос решен. У вас есть деньги?
– Вы же обыскали меня. И ничего не нашли. Зачем вы это спрашиваете?
– Все ясно, – сказал первосвященник. И хлопнул кулаком об стол.
4
После обеда мы поехали на вокзал.
Два человека занимались мною, один из них был переводчиком.
Видимо, оба считали, что я никогда не ездил поездом, потому что ни на минуту не оставляли меня одного. Пока один брал билеты, второй еще раз тщательно проверил мои карманы, хотя после досмотра в полицейском участке даже вор не мог бы там ничего найти. Билет в руки мне не отдали. Может, боялись, что я тут же его перепродам. Учтиво сопроводили на перрон, ввели в купе. Я надеялся, что после этого они попрощаются, однако этого не произошло. Они сели на скамью и посадили меня между собой, чтобы я не выпрыгнул в окно. Я никогда не подозревал, что бельгийские полицейские так учтивы. Лично я не могу ответить им тем же. Они дали мне сигарету. Мы закурили и поезд тронулся. Через какое-то время мы оказались в маленьком городке. Поначалу меня привели в полицейский участок, где мне пришлось сидеть на одной скамье с фараонами. Те, что привезли меня, рассказали длиннейшую историю. Остальные фараоны, я хотел сказать, полицейские, смотрели на меня с огромным интересом, как на диковинный экземпляр, способный на все, даже на убийство. Вид у них был такой, что я подумал: наверное, они ждут палача. Ведь, судя по их виду, я совершил массу ужасных злодеяний, а в будущем способен был не только повторить их, но и превзойти.
Я не смеюсь, по, Sir. Я чувствовал, что положение очень серьезное. У меня не было корабельной книжки, я не имел паспорта, вообще никаких документов, а первосвященник не нашел моих снимков в своем альбоме. Окажись там моя фотография, он бы сразу понял, кто я. Это облегчило бы мое положение. А то, что я якобы отстал от «Тускалузы», мог придумать любой бродяга. У меня не было своего дома. Я не был членом какой-нибудь торговой палаты. В сущности, я был никем. Зачем же кормить меня, заботиться, если в их стране своих бродяг полно? Если меня повесить, всем выйдет только облегчение. Так они, наверное, считали.
И как же я оказался прав!
Вот доказательство. Один из полицейских принес мне две пачки сигарет, видимо, последний дар бедному грешнику. Еще он дал мне спички и заговорил на ломаном английском языке, вполне, впрочем, дружелюбно: «Ничего страшного, малыш, не принимай это так близко к сердцу. Кури. Когда куришь, время тянется не так медленно. Нужно подождать, пока стемнеет, иначе у нас ничего не получится».
Ничего себе, ничего страшного! Меня собираются повесить, боятся, что при свете ничего не получится, а я еще не должен принимать это близко к сердцу. Хотел бы я посмотреть на человека, которому говорят: «Ничего страшного, подожди пока стемнеет, а потом мы тебя повесим». При свете они боялись встретить кого-то, кто мог бы меня узнать, это испортило бы весь номер. Но с другой стороны, чего вешать голову, если тебя все равно повесят? И я закурил подаренную сигарету, очень плохую, кстати, не имеющую никакого вкуса. Чистая солома, а не сигарета. Все равно мне не хотелось быть повешенным. Как выйти отсюда? Они так и толкутся вокруг меня. Всем интересно взглянуть на человека, которого скоро повесят. Противный народец. Хотел бы я знать, зачем мы им помогали в прошлой войне?
Чуть позднее я получил свой последний ужин.
Таких жадюг поискать. Это вот называется последней порцией приговоренного к смерти? Картофельный салат с кусочком ливерной колбасы и несколько пластиков хлеба, слегка помазанного маргарином. Хоть плачь! Нет, бельгийцы плохие люди, недоброжелательные, а меня ведь чуть не ранили, когда мы вытаскивали их из каши, которую они сами заварили в своей Европе. И каких денег нам это стоило!
– Говоришь, ты настоящий янки? – ухмыльнулся фараон, упорно называвший меня малышом. – Значит, ты не пьешь? У вас ведь сухой закон.
– Как это настоящий янки? – возмутился я. – Да пью, пью я вино! Любое вино пью, плевать мне на Америку!
– Я так и подумал, – ухмыльнулся фараон. – Весь этот ваш сухой закон – чистое дерьмо и бабьи штучки. Нечего вам делать. Позволяете командовать всяким суфражисткам. Мне, конечно, все равно, как вы к этому относитесь, но у нас здесь мужчины всегда остаются мужчинами.
Да, этот парень понимал толк в жизни. Такой человек видит дно сквозь самую мутную воду. Жалко, что он сделался фараоном. Впрочем, если бы он им не сделался, я никогда не увидел бы такую огромную кружку вина, которую он передо мной поставил. Сухой закон – это позор и грех, да услышит меня Господь. Наверное, мы здорово в чем-то провинились, если придумали такую штуку.
В десять вечера виночерпий сказал:
– Пора, моряк. Следуйте за нами.
Не было смысла возражать. Конечно, я не хотел, чтобы меня повесили, но фараоны представляли закон. Прошло совсем немного времени, как «Тускалуза» бросила меня, а я уже никому не был нужен, и меня собирались повесить. «Я – американец. Я не пойду с вами», – все-таки сказал я. Но фараоны засмеялись:
– Ха! Никакой ты не американец. А если американец, то докажи это. Покажи свою корабельную книжку. Или паспорт. Или удостоверение личности. Ничего такого у тебя нет? Вот видишь. Мы можем делать с тобой все, что хотим. Поднимайся!
Сопротивляться было бесполезно. Слева от меня шел весельчак, умевший говорить по-английски, а справа еще один, он по-английски не знал ни слова. Зато оба хорошо знали дорогу, потому что как только вышли из городка, тут же свернули в поле. А там было совсем темно, на разбитом шоссе мы часто спотыкались. Хотелось спросить, долго ли нам добираться до виселицы и почему она поставлена так далеко от городка, но, к счастью, довольно скоро мы вышли на ровный луг. Наверное, тут они и вершили свою незаконную расправу. Я уже собрался ударить первого из них и удрать, но меня схватили за руку:
– Все! Пришли. Здесь мы с тобой простимся.
Ужасно жить, зная, что это твоя последняя минута. Да и она уже заканчивалась. Горло у меня пересохло. Хотя бы глоток воды. Еще секунда и мне конец. Какое гадкое занятие: отправлять людей на тот свет. Разве мал выбор разных профессий? Почему они не выбрали что-то другое? Почему непременно надо становиться палачами? Никогда я не чувствовал так сильно, как прекрасна жизнь. Чудесная, восхитительная, пусть даже ты остался один в чужом порту, а корыто твое ушлепало за линию горизонта. Плевать, что корабельная книжка осталась в кармане куртки.
Жизнь прекрасна, какой бы мрачной нам ни казалась. Оказаться раздавленным червем под башмаком какого-то бельгийца! Да, я виноват, да, я не устоял перед искушением, нарушил сухой закон. Если бы поговорить сейчас с мистером Болстедом, предложившим американцам сухой закон, я быстро бы доказал ему, какое дерьмо он придумал. Это какую же злую жену надо иметь, чтобы придумать такое! Одно меня радовало: миллионы проклятий изливаются в мире все-таки не на меня, а на мистера Болстеда.
– Ладно, мистер, – сказал фараон, говоривший по-английски. – Кажется, вы не такой уж плохой человек, но пора… – Он даже поднял руку, чтобы накинуть на меня удавку. И действительно, зачем ставить виселицу, если можно обойтись удавкой. – Вон там, – указал он поднятой рукой, – Голландия. Королевство Нидерланды. Слышали о таком?
– Конечно.
– Идите в указанном направлении. Не думаю, что вы встретите пограничников. В это время их тут нет. Все равно шагайте осторожно, мало ли. Примерно через час вы выйдете на железнодорожную линию. Идите прямо по ней, она выведет вас к вокзалу. Там подождите, не торопитесь. Сигареты у вас есть и сейчас не холодно. К четырем часам утра увидите рабочих, вот тогда смешайтесь с их толпой и смело подходите к кассе. Скажете по-голландски: Rotterdame, derde classe. Ни слова больше. Вот вам пять гульденов. Этого достаточно, чтобы купить билет третьего класса. – Он подал мне несколько купюр. – На вокзале не покупайте ничего, это опасно. И вот еще… – Он сунул мне в руку сверток с сэндвичами и еще одну пачку сигарет.
Вот, оказывается, какими были эти люди!
Повели к виселице, а сами дали мне пять гульденов и сэндвичи.
Благородные люди, они слишком великодушны, чтобы убить меня. Как не любить людей, если даже среди бельгийских фараонов встречаются такие замечательные ребята? Я так крепко жал им руки, что они рассердились. «Прекратите этот спектакль! Нас могут услышать, тогда все придется начинать сначала. Лучше слушайте, что вам говорят». Они по несколько раз повторяли каждое слово. Оказывается, мне нельзя возвращаться в Бельгию. Я должен уйти навсегда. Если они снова поймают меня на своей территории, то запрут в тюрьме на всю оставшуюся жизнь. На всю! Вы только подумайте! Вот что они со мной сделают. Так что ведите себя соответственно, предупредили они меня. Пока у вас не будет паспорта, вы просто никто.
– Я американец. Я обращусь к консулу.
– К консулу? – рассмеялись оба. – А у вас есть корабельная книжка? Вот видите. Консул прикажет выбросить вас за ворота, а тут подойдем мы и мгновенно упечем вас в тюрьму. На всю оставшуюся жизнь.
– Ладно, – сдался я.
Конечно, они правы. Мне не следовало возвращаться в Бельгию. Да и что я тут потерял? В Голландии будет лучше. Хотя бы немного, но я понимаю речь голландцев, а эти так тарабарят, что слов не разбираешь.
– Ну вот, мы вас предупредили. Идите в Голландию, но будьте осторожны. Если услышите шаги, ложитесь, пока неизвестные не пройдут. Учтите, что, если вас схватят голландские пограничники, они тут же вышвырнут вас обратно, а уж мы точно отправим вас в тюрьму.
И они ушли, оставив меня. Не помня себя от радости, я двинулся в направлении, указанном ими.
5
Роттердам хороший город. Если иметь деньги.
Я не имел ничего. Даже кошелька, в который можно их положить. А в порту не было ни одного корабля, который нуждался бы в услугах палубного рабочего или старшего механика. Я не видел большой разницы, лишь бы приняли. Все равно скандал разгорится, только когда судно выйдет в море. Возвращаться невыгодно, не могут же меня просто бросить за борт. Если бы мне предложили место старшего механика, я бы ни минуты не раздумывал. В конце концов, я ведь не посягаю на жалованье старшего механика.
Готов и уступить. Разве есть магазины, где нельзя поторговаться? Конечно, катастрофа была неминуемой, поскольку я не умею отличить валек от вала, а кривошип от вентиля. Она произойдет, думал я, в тот момент, когда шкипер подаст команду «тихий ход». Или «совсем тихий ход». Даже если он произнесет эту команду шепотом, судно рванется так, будто мы, как минимум, должны выиграть «Голубую ленту». Вот была бы потеха! Жалко, что в Роттердаме в тот день никто не искал старшего механика. Вообще никто никого не искал, ни один корабль в порту не искал рабочих. Я согласен был работать коком, согласен был занять место капитана, но никто мне ничего не предлагал. Совсем ничего. Даже в капитанах никто не нуждался.
А ведь в порту шаталось много моряков, и стояли разные корабли.
Все равно попасть на корабль, идущий в Штаты, оказалось делом безнадежным. Все считают, что в Америке рай. Это потом, уже в Америке, счастливчики с такой же надеждой ждут любого корыта, только бы выбраться из американского рая. Потому что в жизни все совсем не так, как себе это представляешь. Золотые времена давно прошли, иначе я не служил бы на «Тускалузе». И все же зря бельгийские фараоны подшучивали: ну да, дескать, ждет тебя консул! Твой консул! Я твердо сказал себе: «Мой!» Потому что я американец. Потому что консул отправлен так далеко от Америки как раз для того, чтобы помогать мне в мои черные дни.
Потому я и пошел в консульство.
– Где ваша корабельная книжка?
– Я ее потерял.
– А паспорт?
– У меня его нет.
– Удостоверение личности?