Знак небес Елманов Валерий
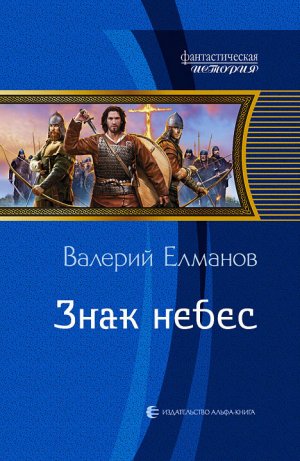
— Ведь вот с виду взять — деревяшка деревяшкой. В любой хате такие отыскать можно. А окажись поближе и сразу чуешь — не простая она, ох, непростая.
— А князь-то наш, князь каков был.
— Да что там. Ему теперь за это на том свете непременно сотню самых тяжких грехов скостят, — донеслась до Константина концовка одного из таких разговоров, когда он в вечерней тишине неспешно возвращался рязанскими улочками в свой терем.
«Или добавят, — не преминул он прокомментировать про себя последнюю фразу, но затем махнул рукой. — Ну и ладно. Мой грех — мне и ответ держать. Если это грех, конечно», — лукаво уточнил он и впервые за весь этот неимоверно тяжелый день легонько улыбнулся.
Князь очнулся от воспоминаний и посмотрел на сотников, завороженных увлекательным сказом рязанского боярина.
— И вот с того самого времени она у нас и хранится, — вдохновенно вещал Коловрат, уже заканчивая. — Но не просто хранится, а еще и помогает всемерно. Орда половецкая ни с того ни с сего взяла да назад в степи подалась — это как? У того же Юрия с Ярославом воев втрое супротив нашего было, а кто победил? Вот то-то и оно, — завершил он многозначительно.
В тот вечер между ростовскими дружинниками и Рязанским князем было еще много чего говорено, и трудно сказать, насколько именно эта история повлияла на окончательное решение Александра Поповича, Лисуни, Добрыни и Нефедия Дикуна, но на следующий день Ростов открыл ворота для рязанского воинства. А куда было деваться боярам, если еще рано утром все четыре сотника объявили им, что отныне все они переходят на службу к Константину, а потому пусть на стены городские кто-то другой встает. В ответ на упреки о предательстве они заявили веско, что ряд с городом не подписывали, а защищать Ростов хотели, потому что боялись, как бы худа ему от рязанцев не было. Ныне же все уверились, что зла от Константина ждать нечего, да к тому же Рязань благодатью господь осенил с небес и знак верный дал, что именно ей надлежит все грады русские вкруг себя объединить.
И еще одно. Почти половина из тех дружинников, которые нанялись на службу, попросили у рязанского князя разрешения навестить его столицу, чтобы самолично узреть драгоценную святыню. Кстати, когда они высказали свое пожелание Константину, тот почему-то поперхнулся, некоторое время как-то странно откашливался, но добро свое на эту поездку дал, всерьез задумавшись о том, что неплохо было бы при случае приобрести еще парочку реликвий.
В голове его уже робко шевелились очередные скромные идейки, связанные с зубом Иоанна Предтечи, пальцем евангелиста Луки, волосами апостола Павла и прочими святынями. Разумеется, их приобретение нужно осуществлять не сейчас, а намного позднее, ну, скажем, через два-три года. Причем приобрести их, скажем так, с оказией, как следует проинструктировав одного из дружинников, из числа тех, кто отправится в очередной рейс за еретиками во Францию. Все равно у них будет остановка в Константинополе. Вот там-то их и можно прикупить, даже… даже если их там не будет.
Оный князь Константин чистоту соблюдаша не токмо телом, но и самою душою. И бысть свет пред им сияющий, кой за праведность наградиша князя оного и вручишаему дар велик — частицы креста господня.
И бысть от святыни сей чудес без числа на земле Резанской и исцеленья разны люду во множестве.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1760
В преданиях говорится по-разному про первую и, пожалуй, самую драгоценную святыню, ставшую национальным достоянием и гордостью рязанских жителей. Я имею в виду бережно сохраненную до наших дней частицу креста Господнего.
Ученые вообще и историки в частности обязаны быть чрезвычайно объективны в своих суждениях, опираясь только на факты.
Но, думается, читатель согласится со мной, что далеко не случайно именно в те суровые времена и именно в руки князя Константина Рязанского попала эта уникальная святыня. Не случайно в первую очередь то, что ушедший из Студийского монастыря и унесший из храма святой Софии бесценную реликвию монах Феогност — его имя в некоторых летописях указывается по-разному, но мы взяли наиболее распространенное — устремился именно на Русь.
Не случайно он умер именно в стане шурина Константина — половецкого хана Данилы Кобяковича. И уж вовсе закономерно, что рязанский князь, которому для его грандиозных замыслов вечно не хватало наличных средств, не поскупился и выкупил святыни.
По одним летописям он заплатил за них две или три, а по другим — и вовсе четыре ладьи, доверху груженные серебром и драгоценными камнями.
Возможно, что источники преувеличивают. Не спорю. Но вот Владимирско-Пименовская летопись подробно описывает, сколько всего было в тех ладьях. Количество судов, правда, не указывается, но зато приводится, что находилось там 32 кожаных мешка и в каждом лежало по 250 рязанских гривен. То есть получается, что всего князь заплатил за святыни восемь тысяч гривен, или свыше полутора тонн серебра, — колоссальная цифра.
Наконец, не случайно, что Константин не отправил в Киев, а оставил у себя в Рязани именно ту реликвию, на которой обнаружены были впоследствии частицы крови самого Христа.
И еще одно. Обратите внимание на дату, когда эти реликвии появились в Рязани — осень 1218 года. Это время, когда во всем его небольшом княжестве нам более-менее известны семь-восемь городов, включая саму столицу. То есть до обретения святынь Рязань, наряду с Муромом, являлась подлинной украйной русских земель, будучи одним из слабых княжеств в военном отношении и одним из самых небольших по территории.
А теперь вспомните последующие годы, многочисленных врагов княжества и задумайтесь — смогло бы оно уцелеть, если бы не…
На мой взгляд, тут далеко не простое совпадение. Скорее эти частицы стали неким символом Божьей благодати, осенившей и самого князя, и все его потомство.
О. А. Албул. Наиболее полная история российской государственности.СПб., 1830. Т. 2, с. 148–149.
Глава 8
Мы поздно встретились…
Е. Ростопчина
- Когда б он знал, как дорого мне стоит,
- Как тяжело мне с ним притворной быть!
- Когда б он знал, как томно сердце ноет,
- Когда велит мне гордость страсть таить!..
Две кавалькады столкнулись всего в пяти верстах от городских ворот Переяславля-Залесского. Одну из них, небольшую, состоящую всего из пяти всадников, возглавлял небольшой приземистый возок, в котором сидела княгиня Ростислава. Впереди другой, состоящей преимущественно из длиннющей колонны боевой конницы, ехал князь Константин.
Не далее как пять дней назад добрались до города остатки воинства, ушедшего вместе с князем Ярославом под Коломну. Впрочем, остатки — это сказано слишком сильно. Пятеро их было. Всего-навсего пятеро. Воспользовавшись суматохой и неразберихой, возникшей под утро, три человека ухитрились улизнуть от Константиновых дружинников.
Чуть погодя, когда блуждали по мещерским лесам, они встретились еще с двумя беглецами. Пока дошли до истоков Клязьмы, где надеялись упредить своих, а заодно и закончить свой утомительный пеший путь, там уже побывал воевода Вячеслав. Скрытно подобравшись к безмятежно дрыхнувшему десятку пеших воев князя Юрия, которых оставили для охраны ладей, люди рязанского воеводы без особого труда повязали всех ротозеев. Для спецназовцев Вячеслава это был такой пустяк, о котором даже и рассказывать не имеет смысла.
Пришлось всем беглым из разбитого воинства брести и дальше пешим ходом. Благо осенний лес щедро кормил беглецов своими дарами, а благодаря затянувшемуся бабьему лету даже по ночам было пока не так чтобы и холодно. Во всяком случае, тепла от костра для сугрева им вполне хватало.
Правда, из опаски, что повяжут по дороге, если доведется столкнуться с рязанцами, переяславцы ушли чересчур влево, да так, что вышли на Дмитров, но зато сердобольные горожане накормили их и дали снеди в дорогу. Взамен они получили не совсем внятный, но зато весьма красноречивый рассказ о грандиозной сече, которая произошла под стенами рязанской Коломны.
Исходя из этого повествования, выходило так, что беглецы стояли грудью до последнего и покинули поле брани лишь тогда, когда увидели бездыханного Ярослава.
Поначалу тело князя, согласно рассказу, было целым, но по мере того как опрокидывалась одна чара хмельного меда за другой, стало выясняться, что был несчастный разрублен надвое или даже на четыре части, если не вообще на мелкие кусочки. Словом, лишь по мертвой голове, лежащей поодаль, признали они своего князя.
Напустив страсти-мордасти на перепуганных жителей Дмитрова, беглецы двинулись к Переяславлю-Залесскому.
Княгиня Ростислава, услышав о случившемся, не проронила ни слезинки. С побелевшим лицом она сухо и коротко отдала приказание, чтобы всех напоили и накормили, после чего удалилась в женскую половину терема. Лишь придя в маленькую, почти квадратную горенку, расположенную на самом верху, она медленно опустилась на широкую резную лавку и закрыла лицо руками, позволив себе наконец-то расслабиться.
Кого она больше оплакивала — мужа или себя? Трудно сказать. Скорее обоих разом, одновременно. Муж не любил ее — это так. Сейчас она отчетливо осознала это до самого конца и подивилась сама себе — как могла не понимать этого раньше, почему колебалась? Потому что человеку всегда хочется верить в чудо, надеяться на лучшее, хоть и несбыточное?
Ныне он ушел из жизни, оставив ее — слабую, полную нерастраченной любви. Ростислава готова была подарить ее Ярославу, но он в ней не нуждался. Или нуждался, но не в такой.
Ему всегда было проще с наложницами, такими покорными, послушными, податливыми. Они не спрашивали, как княгиня, они только слушали и слушались. Они не имели своих мыслей, своих суждений, стараясь глядеть на мир только глазами своего повелителя. С ними Ярослав мог вести нескончаемый монолог о чем угодно — они кивали и поддакивали. Ему же от женщины было нужно только это, потому что, считая любую бабу ниже себя, он признавал с их стороны лишь подчиненность, причем полную и безоговорочную.
На это она была не способна. Правда, она могла подарить содружество, но оно-то как раз и не было нужно. Никому.
Последний раз он говорил с княгиней о своих делах еще тогда, когда она приехала от отца, поделившись планами нападения на рязанца. Ростислава попробовала высказать свою мысль, которая — как всегда — ему не понравилась. Больше он не пытался.
Женщины всегда были для него низшими существами. Он требовал от них только согласия. Тупого, безропотного, покорного. Такого Ростислава дать не могла. Хотела, но не получалось. Согнуть себя человеку можно, сломать же — нет. Это в силах сделать только другой.
Сломать свою жену Ярославу не удалось, хотя он, сам того не подозревая, очень старался. Гнул — днем, ломал — ночью, в те редкие часы, когда милостиво появлялся в ее ложнице.
Ночь повторяла день изгибами его желаний, его стремлений, только была еще грубее и еще страшнее, потому что откровеннее. Он и там ничего не спрашивал и ни о чем не заботился — только о самом себе. Сделав свое дело, поворачивался на бок и засыпал. Ему было хорошо. Как там та, которая рядом, его не заботило и не интересовало. И так все шесть супружеских лет.
Стыдно сказать, но она, живя на свете уже двадцать пятый годок, подобно девке-вековухе, лишь по рассказам баб из числа дворовой челяди знала, как сладки объятия любимого, какая истома наступает во всем теле после этого, какое блаженство испытывают. Точнее, она слышала об этом, но чтобы знать — надо ощутить самой. Есть вещи, которые познать в полной мере можно, лишь почувствовав. А Ростислава…
Вот и ныне, сидя в своей горенке, она в первую очередь думала с тоской не о нем, а о том, что так ничего теперь у нее и не будет. И не скорбь была в душе — печаль.
Скорбят по любимому, печалятся по себе. Княгиня оплакивала то, что могло бы быть, но так и не случилось, то, что она могла ощутить, но оказалось — не судьба. Она хоронила не то, что теперь у нее кончилось одновременно со смертью Ярослава, а скорее то, что у нее даже не начиналось.
И жаль ей было страницу собственной жизни, которую жизнь перелистнула походя, как ветер срывает пожелтевший листок осенней порой. Буквы в этой странице были грубы, слова — горьки, предложения — невнятны. Но все же это была ее жизнь.
К тому же следующая страница грозила стать еще страшнее. Она — последняя. Ее не перелистает ни один ветер каких бы то ни было, пусть даже самых бурных событий. Ее крепко придавит тяжелый каменный крест в келье, летом душной, а зимой сырой.
Этот лист ее жизни уже изначально был украшен траурной каймой черных монашеских ряс. От него веяло сладковатым запахом ладана, он светился желтизной восковых свечей, чем-то напоминающих лицо покойника, и уже слышались, если приложить ухо к самому листу, тоскливые церковные песнопения, заунывные, будто вои волка в ненастную осеннюю ночь. Когда Ростислава их слушала, то ей всегда казалось, будто отпевают кого-то.
Теперь отпевать будут монахини. И не будто, а на самом деле. И не кого-то безымянного, а ее — дочь Мстислава Мстиславовича Удатного, жену князя Переяславля-Залесского, которая скоро, совсем скоро превратится в монахиню Феодосию.
Вот еще одна ирония судьбы. Она никогда не любила свое крестильное имя. Терпеть не могла, когда ее так называли. Ярослав почувствовал это и в последнее время обращался к ней только так. Она как-то не сдержалась и попробовала назвать его в свою очередь Юрием.
Ростислава вздохнула, вспоминая тот день. Длань Ярослава была тяжела, как и подобает руке настоящего воина, а сдерживать силу удара, даже если он наносил его не в бою и предназначал слабой женщине, князь не собирался.
Княгиня мысленно произнесла про себя несколько раз: «Монахиня Феодосия, инокиня Феодосия». Словно примерялась к грядущему неизбежному, оглядывая на себе платье, которое отвратительно, плохо сидит, грязное и скверно пошито, но другого нет, а надеть что-то надобно, ведь не ходить же человеку голым.
Иной одежи на ней не видел даже ее отец — Мстислав Удатный, строго чтивший старину во всех ее проявлениях и убежденный в том, что вековые обычаи Руси всегда святы. Коли княгиня осталась вдовой и не имеет детей — ее дорога лежит только по направлению в монастырь. В том заключается ее святой долг и обязанность.
Переубедить его в этом? Проще Плещеево озеро вычерпать ложкой. Хотя, как знать, может, она и попыталась бы — от отчаяния, от страха перед беспросветным мраком всей грядущей жизни, которая ждала ее за суровыми монастырскими стенами.
Но она не могла сделать и этой малости. Тут уже князь Ярослав постарался, взяв с нее слово, что не пройдет и недели со дня его кончины, как покинет Переяславль-Залесский. И дорога из города была только одна…
«Стало быть, монахиня Феодосия, — вздохнула она, но тут же спохватилась. — В монашестве иное имя дают. Будешь ты теперь какая-нибудь Евлампия или того хуже. В Византии много чудных имен — приторных, слащавых, скользких и ничего не говорящих ни уму славянскому, ни сердцу девичьему. Ну и пускай. Чего уж теперь. Видно, так господу угодно. Знать бы вот только, за что или уж хотя бы зачем — все легче было бы».
Она вздохнула, очнулась от раздумий, легонько прикусила нижнюю губку, чтобы поскорее прийти в себя, и стала медленно спускаться вниз, в людскую. Это только кажется, что пять дней — много, а начнешь собираться в дорогу, и пролетят они как миг един.
Теперь, спустя эти пять дней, Ростиславе оставалось исполнить последнее, что она для себя наметила, — проститься с городом и с его жителями.
Все горожане знали, сколько бед причинил их князь Рязани. И с ратью дважды выступал, и Гремиславу почти явно потакал, когда тот шайку свою из татей сколачивал. Опять-таки бронь, мечи хорошие, кони — всем он снабдил бывшего слугу князя Константина.
Ярослав схитрил, ушел из жизни, а значит, и от грядущей расплаты. Но оставался его стольный город, которому предстояло испытать на себе то же, что пережили рязанцы несколькими месяцами ранее.
Просто так покоряться неизбежному горожане не собирались. Помирать, так под гусли. Негоже, отчий дом защищая, даже дедовского меча не обнажить. Пусть горожан и немного, но как знать — если удастся продержаться хотя бы седмицу, может, и Константину надоест осада, смягчится сердце, покрытое жесткой коркой мести.
Словом, пока погруженная в свои тяжкие думы княгиня собиралась к отъезду, город тоже спешно готовился, но к обороне.
Очнулась Ростислава перед тем, как настала пора прощаться. Расставание было бурным. Княгиню жители любили. Зная о ее несложившейся доле, ее жалели и оттого любили еще больше. Многие даже плыть с нею хотели, до самого монастыря проводить, но этому она решительно воспротивилась.
В ладью, что уже стояла в готовности у пристани на Плещеевом озере, кроме двух десятков гребцов, княгиня никому садиться не дозволила. И следом за нею плыть тоже воспретила.
Сама же в последний раз поехала в нарядном княжеском возке. Медленно катить велела, не спеша, специально избрав кружной путь, чтоб подлиннее, чтоб с городом проститься и оставить в своей памяти и его, и желтотканую осень, и яркое солнышко на безоблачном небе, и даже холодок от вольного ветра.
Хотелось ничего не забыть, все в памяти надежно укрыть, дабы было что вспомнить долгими унылыми вечерами в тех местах черных, где вместо солнца — свеча восковая, а вместо вольного дыхания ветра — лишь леденящий душу сквозняк.
Тогда-то она, проезжая в последний раз по городу, и увидела все приготовления горожан к обороне. Негоже княгине в столь тяжкий час град покидать, и вновь в ней Ростислава проснулась — гордая, смелая, красивая, мудрая, хотя и несчастливая.
Уже перед воротами городскими вышла она из своего возка, еще раз зорко и внимательно все оглядела, вздохнула, головой сокрушенно покачала и назад обернулась. А сзади нее провожающие — почитай, весь город собрался.
— Приготовились вы знатно. Все, что в силах ваших было, сделали, ничего не упустили, обо всем подумали, — начала она свою речь с похвалы, но закончила словами горькой правды: — Токмо напрасно все это. Лишь князя Константина еще больше озлобите.
— А что же делать, матушка ты наша? Запалит ведь город, злодей. Как пить дать, запалит, — обратился к ней один из тех, кто не ее матушкой должен был называть, а сам княгине в отцы годился.
Она задумалась. Кругом тишина. Все в ожидании застыли. Даже птицы щебетать перестали — тоже любопытно стало.
— Из Владимира вестей доселе не было, а ведь он там уже давно должен был быть, — произнесла задумчиво.
— Так, так, — охотно подтвердили из толпы, а что дальше сказать — не знали, потому как не ведали, к добру это отсутствие вестей или совсем напротив — к худу.
— Ежели бы Константин город князя Юрия пожег, то всех в полон все едино взять бы не сумел. Кто-то бы да утек, — продолжала размышлять вслух княгиня. — Выходит, коли ни единого беглеца в наших краях не появилось — цел Владимир.
— Мыслишь ты княгиня мудро, стойно[63] вою бывалому. Однако и то в разумение возьми, что Владимиром стольным князь Юрий володел. Мы же — Ярославовы. С нашим князем, ты и сама ведаешь, у рязанца счет особый. Непременно он нам сожженную Рязань попомнит, — не согласился с нею один из тех, кто по старости лет уже не мог идти с Ярославом под Коломну, но ныне, собрав остатки сил, приготовился принять бой на городских стенах. Бой, который должен был стать его последним, если он вообще сумеет на эти стены взобраться, а не рассыплется от ветхости на полпути.
Ростислава обвела взглядом толпу, ждущую ее решения. Да и не решения даже — чуда. Она глубоко вздохнула и негромко произнесла:
— С ним самим говорить надобно.
— Послушает ли? — вновь усомнился все тот же старый вояка.
— Меня послушает. Я — княгиня. Мне и ответ за всех вас держать.
И столько воли было в этих негромких словах, что никто ни на единую секунду не усомнился — да, ее он выслушает, а главное — прислушается.
Первым перед своей заступницей опустился на колени седобородый воин. Следом за ним и вся толпа спины преклонила, мало самой земли не касаясь. И все молча. Потому что нет таких слов, которыми за такое отблагодарить можно.
Наверное, так умные люди перед Христом ниц падали, когда он в свой последний путь шел. Из тех, кто знал, что не крест увесистый пригнул его к земле. На него бы сил у спасителя хватило. А вот грехи людские потяжелей будут. Но он шел — один за всех, спасая каждого.
Она же — русская княгиня. Она пока еще Ростислава, а не Феодосия, и уж подавно не какая-нибудь монахиня Елевферия.
Да и планы у нее совсем чуток менялись. По слухам, Константин с дружиной как раз со стороны Ростова шел. Ей же хоть и не совсем в ту сторону надобно было ехать — к ближайшему женскому монастырю дорога малость иначе вела, вверх, вдоль Плещеева озера, ну да крюк невелик. К тому же рязанец вроде бы близехонько совсем — и трех верст не проедет, как на него натолкнется.
Проехала Ростислава немногим более пяти. Поначалу она сторожевые разъезды встретила. Те, узнав, куда и к кому следует переяславская княгиня, особой вражды не выказали и даже проводить вызвались.
Впрочем, и в самом окружении рязанца на нее косых взглядов никто не кидал и стольный град, мужем Ярославом разоренный, тоже не поминал. Да и некому было. Из числа коренных жителей Рязани сейчас с Константином не больше сотни ехало. Он их в первую очередь по другим городам распихал, опасаясь, что при виде гнезда ворона черного — князя Ярослава не сдержится кто-то, взыграет ретивое, и тогда уж непременно быть худу.
И сам Константин первым с коня спрыгнул проворно, не кичась ничуть. И к княгине не подошел — почти подбежал, помогая из возка выйти. Слуги шустрые тут же шатер установили. Правда, походное жилище без изысков было, без особой красоты — лишь толстая воилочная кошма на пол второпях брошена, да две легкие табуретки поставлены у небольшого стола. В дороге для воина достаточно, и ладно.
Поначалу за нею следом и двое переяславских дружинников в шатер вошли, всем своим суровым видом выказывая, что, мол, не одинока княгиня наша, есть кому заступиться. Не для защиты, конечно, — для почету больше.
Но Ростислава их тут же удалила жестом властным. Воспротивиться же они не посмели, чтоб рязанец не усомнился в том, будто полновластная она хозяйка над всеми.
Константин же своих людей и вовсе в шатер не пригласил. Как бы ни сложилась беседа — в свидетелях разговора с Ростиславой он не нуждался.
И так получилось, что при них одна лишь верная Вейка осталась.
— Ну, здравствуй, сын купецкий, — промолвила Ростислава тихонько, едва на табуретку уселась.
Была у нее, чего греха таить, небольшая опаска, что князь ныне с ней и разговаривать не пожелает. Ну кто же и когда с бабой переговоры вел? Испокон веков на Руси о таком и слыхом не слыхивали.
Разве что княгиня Ольга, ну так о том что говорить. И опять же та повелевала, потому как за ней сила была. Хрупкость правлению не помеха, лишь когда тебя дюжими плечами могучие дружинники поддерживают. За Ростиславой же сегодня лишь град, наполовину обреченный, да жители его немощные, вроде того старика седобородого. И все они уже к смерти изготовились, но чуда по-прежнему ждут… От нее, от княгини.
Потому и начала она так речь свою, хотелось ей о той встрече случайной напомнить, а еще посмотреть, как он на такое откликнется. Да полно, уцелела ли вообще та встреча в его памяти? Так, мимоходом ведь все прошло, ветерком дунуло и пролетело.
— И ты здрава будь, боярыня, — услышала она в ответ и сразу поняла — нет, не мимоходом.
Скорее уж стрелой каленой. А вот куда ее острие угодило, о том додумывать не стала. Испугалась попросту. Не его — самой себя.
А уж когда на его губах улыбка расцвела, глупая такая, мальчишеская совсем, то тут ей и вовсе худо стало. Впору хоть волчицей завыть, от тоски лютой, от безысходности всей этой жизни — и той, что в песок прошлого утекла безвозвратно, и грядущей, которая еще страшнее будет.
Что ж ты, батюшка любый, с дочкой своей так шибко не угадал?! Что бы тебе взор не на переяславском князе остановить, а на владетеле далекой Рязани?! Совсем иная судьбинушка у твоей Ростиславушки получилась. И цвела бы она ныне, как яблонька молодая, да любовью своей, как лепестками, своего суженого всего бы усыпала. Чтоб где ни сел — не земля сырая, а ложе мягкое да духовитое было готово. А деток бы каких ему нарожала — все как яблочки наливные были бы у нее, ни единой червоточинки.
Тут уж не о Переяславле переговоры вести впору, не о жителях его — о себе самой.
К тому же по одной только этой улыбке поняла Ростислава, что и говорить-то им ни о чем не надо. Ни к чему оно, лишнее. И понапрасну так страшились рязанца в городе. Не из таковских этот князь, чтобы злость свою, на одного человека устремленную, пусть и справедливую, святую, на тысячах неповинных людей вымещать.
Однако на всякий случай обговорить кое-что надобно. К тому ж, если об этом речь не вести, тогда о чем? О себе самой? Завыть в голос, по-простому, по-бабьи, да, забыв обо всем, пасть на это крепкое, надежное плечо и будь что будет — так, что ли?
Ан нет, милая. Что молодке из смердов дозволено, то тебе не по чину будет. Изволь честь княжескую блюсти. Хоть на клочки себе сердце изорви — но молчи, проклятая, и виду подать не думай.
Ростислава вздохнула глубоко, руки сцепила крепко, чтоб дрожь не увидел ненароком, — подумает еще, что боится, — выпрямилась гордо и сухо заговорила:
— Ныне ты победитель. Тебе решать, что с градом моим делать. Знаю, что ни сотворишь — на все не токмо воля твоя, но и правота будет. Но ежели ты как оместник на переяславскую землю пришел — дозволь в ноги поклониться, дабы остуду с сердца своего снял и людишек, ни в чем пред тобой не повинных, за чужой грех не карал.
Говорила, а сама собой гордилась. Так, самую малость. Да и было чем. Голос сух, деловит, но не подобострастен. И в душе огонь пламенеющий унять удалось. Уголья, конечно, все едино остались, но с ними, видать, совладать удастся, только если с самой жизнью покончить… С самой жизнью… Постой-ка… Но мысль свою додумать не успела — Константин помешал.
Он-то решил, что княгиня, как назло, о муже вспомнила, да и претило ей, как Константин чувствовал, у чужого человека милости просить. А уж когда она, встав, вознамерилась ему низкий поклон отдать, тут он и вовсе растерялся. Хорошо хоть, что вовремя опомнился, удержал и заново на табурет усадил.
Ох, не так он себе эту встречу представлял, совсем не так. А спроси его, как именно, и тоже не ответил бы. Да и что ответишь, когда между ними, как стена, Ярослав застыл. Хорошо хоть, что не памятником надгробным, тогда ему в ее глазах и вовсе прощения не было бы. Но и кровь его да раны тяжкие — тоже препятствие не из легких. Ни на коне эту стену объехать, ни птицей перелететь, ни рыбой переплыть.
Одно и сказал только. От души сказал, как думал:
— Не унижай себя ни перед кем — ты же гордая. А предо мною тем паче. Лишь больно сделаешь. И себе и… мне. Что до града твоего — поверь, что худа ему от меня и так не будет. А ежели моя вина в чем пред тобой — прости великодушно. Известное дело, мы народ купецкий, грубый, — это он так неуклюже сострить попытался.
Хотелось ему напомнить о том зимнем свидании, ох как хотелось бы, но не было теперь искорок в глазах Ростиславы. Без них же — чувствовал — и начинать не стоит. Лишь на миг краткий показалось, будто очи девичьи влагой наполнились, вот-вот слеза выкатится. Пригляделся — вроде и впрямь померещилось. Но все равно.
«Нет, не простит она мне Ярослава», — подумалось с тоской.
А у княгини сил только на то и хватило, чтоб воду соленую с глаз долой убрать. Ей сейчас все больно было слушать. И чем ласковее голос, тем больнее. Такое бывает — чем лучше, тем все хуже. А уж когда Константин про купецкого сына заикнулся, тут ей и вовсе невмоготу стало, даже в голове помутилось. Не тоска — дракон семиглавый в сердце страшными клыками впился.
— Прости, княже, что-то душновато мне в шатре твоем, — вновь поднялась она с места, тяжело опершись руками о стол. — Дозволь, я воев своих отправлю с радостной вестью к Переяславлю да накажу, чтоб назавтра тебя как должно встретили — хлебом-солью, дабы ты с почетом во град въехал.
— Может, в пути растрясло, — робко предположил Константин. — Так я повелю, мигом постель в шатер принесут, — и, чтоб, упаси бог, не подумала чего, тут же торопливо добавил: — Вейку оставим, чтоб сон блюла, а я сторожу выставлю — комар не залетит, — и заверил: — Сам на часах встану, так что будь в надежде.
Ох, не надо было бы ему это говорить. Последняя то капля была, которая чашу окончательно переполнила. Даже сердце болеть перестало — умерло уже. Да и сама-то она жива ли еще? А если жива, то зачем?
— Благодарствую тебе, гость торговый, — сил только-только хватило, чтоб на шутку достойно ответить. — Ни к чему забота твоя. Мне на воздухе вмиг полегчает.
Так, за обе руки поддерживаемая — по одну сторону Вейка, по другую сам князь — она и вышла из шатра.
Поначалу дружинники было насупились, решили, что изобидел рязанец их дорогую княгиню, но потом на нее, на лицо его встревоженное глянув, сразу поняли — промашка вышла. Не в обиде тут дело — в ином чем-то. А вот в чем — домысливать не стали, не до того.
Тут уж о другом забота нагрянула. Известно, кто быстрее всех радостную весть до города довезет, тому больше всего почета да славы достанется. Тем более что и вестей-то сразу две. Первая, конечно, главнее. К тому же она всех горожан касается. Не с мечом — с миром князь Константин идет к Переяславлю.
Вторая тоже приятная. Жив князь Ярослав, хоть и раны тяжкие получил. Ныне он во Владимире стольном оставлен на попечение лучших лекарей. Об этом они только что от самих же рязанцев узнали.
А одного из дружинников бывалых тут же и осенило — потому княгиня и стоит пред ними такая побелевшая, что о князе своем услышала. Иная радость ведь — кого хочешь спроси — не только с лица краску сгонит, а и вовсе человека с ног снесет. Тут все дело в силе ее да в неожиданности.
Потому он и одернул самого молодого, который было к Ростиславе дернулся, чтоб о муже сообщить.
— Не видишь, что-ли, какая она. Князь-то Константин, поди, сам давно ей все сказал. А ты молчи, не усугубляй.
Княгине на свежем воздухе и впрямь лучше стало. А может, еще и по привычке простой — на людях виду не подавать, как бы плохо ни было. На тебя беда навалилась всем телом грузным, давит тебя что есть мочи, а ты знай себе терпи да молчи. Хрипеть же не удумай, чтоб не услыхал кто, не подумал чего.
Впрочем, ей особо и говорить ничего не пришлось. Так, пару общих фраз о том, что Константин милует град ворога своего, палить его не собирается и даже откуп лишь самый малый возьмет.
Когда о гривнах заговорила, краем глаза по лицу князя скользнула неприметно — не много ли она на себя взяла. Ведь о них и разговору не было.
Это уж она так сама домыслила, что совсем без откупа и ему переяславцев отпускать негоже — надо чем-то с дружиной своей расплатиться, да и горожанам зазорно. Получается, что они по милости княжьей целы остались, а это больно уж с милостыней сходно, иной раз даже чересчур. На Руси же народ гордый живет, к такому не приучен. А вот про малый откуп опаска была, что встрянет сейчас князь, поправит грубо и бесцеремонно. Хотя общей суммы она предусмотрительно не назвала.
Но нет, обошлось. Напротив даже, к уху ее склонился, словом ласковым, будто губами нежными коснулся:
— Умница ты, княгиня. И о том, что не сказано, без слов домыслила, — шепнул тихонько.
А ей от его голоса столь радостно, что опять силы пропали — ноги вовсе не держат.
А еще больно стало. И не только потому, что она со счастьем своим несбывшимся столкнулась. Такое выдержать можно. Скорее уж потому, что даже увидеть его еще раз, пусть мельком, издали полюбоваться, все равно не получится. Ничегошеньки ее впереди уже не ждет теперь. Ничего и никогда. Страшно уж больно осознать такое. Поневоле задумаешься: а зачем ей тогда вообще такая жизнь? Была б она по духу Феодосией, согласилась бы и в рясе остатний свой век доканчивать — все равно долгим он не получится. Но она-то Ростислава. Не личит ей такое.
Да и, рассуждая здраво, батюшку Мстислава Мстиславича никто эдаким поступком старшей дочери не попрекнет. Наоборот, с уважением скажут, мол, прямо по седой старине твоя Ростиславушка содеяла. Едва муж из жизни ушел, как и она за ним тотчас на тот свет подалась. А что не через костер пошла, так и тому оправдание мигом сыщут — не захотела на язычницу быть похожей.
И получалось у нее, что со всех сторон она пригожая — и старину соблюла, и языческий обычай отвергла. То есть если ей сейчас умереть — ничего страшного не случится. Наоборот даже. Ведь вон в какой схватке лютой две силы в ее душе сцепились намертво: долг княжий да любовь святая. Не расцепить нынче врагов этих кровных, не разнять никакими средствами. И сегодня этого не сделать, и завтра, и через неделю не выйдет, да хоть через пять лет — все равно не получится. Только смерть ее примирить их сможет, да и то — не всякая. Та, что Ростиславой задумана — сумеет. Потому и виделся ей теперь только один выход.
Говорят, грех смертный — руки на себя накладывать. Не-ет, ее не обманешь. Господь — не тот, что в церкви, а настоящий, тот, что на небесах сидит, — тоже не осудит. Добрый он и любит всех. Уж за него Ростислава и вовсе спокойна. Ну, разве что пожурит ее малость, как родитель строгий, не без того, но понять должен, а где понять — там следом и простить тут же. Может, даже, еще и пожалеет, по головке погладит, скажет чего-нибудь простодушно-ласковое: «Дуреха ты, дуреха. Что ж ты, девочка моя глупенькая, эдак-то?»
А там, глядишь, и свидеться дозволит. Хоть разок. Пускай не сразу, а лишь через двадцать-тридцать, а то и все пятьдесят лет, но свидеться, еще разок поговорить, друг на дружку посмотреть.
Эх! Что уж там сердце травить! Все! Она — княжья дочь! Как решила — так и будет.
И на душе как-то от принятого решения сразу легче стало. Ростислава чуть посильнее на крепкую Константинову руку с наслаждением оперлась — совсем хорошо. Век бы так стояла и с места не сходила! Но все равно на последние слова еле-еле силенок хватило:
— Нам с князем еще кое-что обговорить надобно. Он мне провожатых даст. А вы все скачите немедля — в граде уж, поди, вестей добрых заждались.
Такое дважды повторять не надо. Вмиг все переяславцы на конях оказались. Только что здесь были, ан, глядь — даже след простыл. Лишь глухой стук копыт еще пару мгновений слышался где-то вдали, но потом и он умолк.
А Ростислава к князю повернулась. «Все, — выдохнула мысленно. — Отрезана тебе, милая, дорожка обратно, после того как ты своих переяславцев отпустила. Вперед, правда, по-прежнему прохода нет, но ты ж на это и не рассчитывала. У тебя теперь путь известен — вниз, во тьму. Зато короткий — и на том Недоле спасибо — смилостивилась. Или это сестрица ее милая[64] постаралась, выделила кусочек малый? Да и какая теперь разница».
А на душе легко-легко стало, даже весело. Потому и блеснула князю задорной синевой глаз.
— Чем угощать будешь, сын купецкий? Али поскупишься? Али гостья не дорога?
— Куда ж дороже, — с опаской ответил Константин.
Уж больно настроение у нее переменилось. Оно, конечно, хорошо, но как-то непонятно. И сразу у него какой-то холодок по коже прошел. Вроде радоваться надо, а ему вдруг отчего-то тревожно стало.
В шатре уже, сидя за столом накрытым, она вдруг попросила робко:
— Ты не говори много, ладно, — и созналась простодушно: — Мне сейчас отвечать тяжко, силов вовсе нет.
О том, что захотелось ей наглядеться на Константина вволю в последний раз перед задуманным, промолчала стыдливо. Ни к чему ему знать, что ей в голову взбрело. Но чтобы уж совсем молча не сидеть, пару вопросов задала. Так, без задней мысли, только из приличия:
— Как семья твоя, княже? Как сын поживает?
И подивилась, приметив, как вздрогнул Константин.
Хотел уж он было сказать о том, что княгиня Фекла сгорела вместе с Рязанью стольной, но осекся вовремя. Вдруг подумает, что он ее за мужа попрекнуть хочет намеком таким, да и о Ярославе напоминать не хотелось. Отделался, сдержанно ответив на последний вопрос:
— Сын княжью науку постигает славно. Ныне я его во Владимире оставил. Пусть к самостоятельности приучается.
Ростиславе же о судьбе Феклы и впрямь невдомек было. Ярослав о том с ней не заговаривал ни разу. Буркнул лишь как-то, что запалили Рязань тати шатучие, но князь уцелел, а как да что — княгиня к мужу не приставала. Уж больно не те у них отношения были. Спросила лишь с укоризной:
— Теперь-то доволен?
И тут же на бешеный крик нарвалась. Оставалось лишь губы поджать да выйти гордо, всем своим видом показывая — чай, не девка дворовая перед тобой — княгиня.
— А в Переяславле кого мыслишь наместником посадить? — полюбопытствовала вскользь.
— Есть у меня боярин один. И воин из первейших, и поговорить красно умеет. Евпатием кличут, а прозвищем Коловрат.
— Это хорошо, — одобрила Ростислава. — Переяславцы — народ такой. Их лучше лаской повязать. Тогда и они за тебя куда хошь… — и осеклась испуганно.
Это у нее вновь привычка сработала.
— Ты сызнова меня учить вздумала! — взвился бы муженек дорогой. — Что бы понимала умишком своим бабьим в делах княжьих, а туда же лезет.
Только перед ней не Ярослав — Константин сидел. Едва голос его услышала, сразу разницу поняла.
— Мудро ты, княгиня, рассуждаешь. Сдается мне, не у каждого князя столько ума имеется, сколько в твоей головке красивой.
Ох, ну лучше бы крикнул. И без того тошно, а от похвалы такой — еще горше. Ведь сказал так, как ей до сей поры лишь в мечтаньях сладких и виделось. А голос все продолжал звучать, мечту в явь воплощая:
— А подскажи-ка, сделай милость, на кого ему из твоих людишек опереться? Чтоб не корыстный был, не злой и в суждениях спокойный — сгоряча дров не наломал?
— Да где же мне с умишком бабским в княжеские дела соваться, — попробовала было она увернуться, как с отцом своим Мстиславом Удатным, но не тут-то было.
— Женский ум иной раз позорчее мужского бывает, — возразил спокойно. — Да и разный он. У нас так глядит на мир, у вас — иначе, а чтоб полнота была — их непременно соединить нужно.
И вновь как ножом по сердцу его слова полоснули.
«Где же ты раньше был, витязь мой желанный?! Нет, нет, нельзя тебе больше оставаться! — это она уже самой себе строго. — Еще час какой-нибудь, и у тебя вовсе сил на задумку не останется. Уходи немедля, Ростислава, или быть тебе до скончания жизни Перпетуей какой-нибудь. Беги отсель, куда задумала!»
Встала резко, а в голове мысль шалая: «Поцеловать бы на прощанье. Теперь уж все одно — помирать, так под веселые гусли».
Но делать этого не стала, прочь отогнала мысль коварную. Вдруг он целуется так же, как говорит: мягко, ласково, сладко, нежно. Тогда-то уж у нее точно больше ни на что силенок не останется.
Вместо этого иначе решила поступить. Кубок не свой — его взяла, почти доверху медом хмельным наполненный. Решила: «Пусть думает — невзначай перепутала». Сама же тихохонько посудину серебряную к себе тем краем повернула, где он его губами касался.
«Хоть так, а поцелую», — подумала решительно.
— Пора пришла, княже, прощаться нам с тобой. Напоследок же одно скажу, от всего сердца — сколь жить буду, столь и тебя помнить.
А Константин все в глаза ей смотрел, пока она говорила, и никак понять не мог, что же такое творится. Вроде искренне говорит, от души, и волнуется изрядно: голос дрожит и даже вон кубки с медом перепутала, хотя перед ним явно побольше стоял, вот только отчего же в глазах-то ничего не видно? Пустые они какие-то. Или даже нет — иные. Словом, как их ни назови — все не то будет. И где-то когда-то он уже такие глаза видел, вот только припомнить бы — у кого именно. Почему-то казалось, что стоит вспомнить, и сразу хорошо все станет.
Но, как назло, на ум ничего не приходило.
Он в свою очередь оставшуюся чару поднял и тоже аккуратно к себе ее той стороной повернул, которой ее губы касались. Эх, сейчас бы ее саму поцеловать, да нельзя. Ну хоть так, через мед душистый. Покосился осторожненько, не приметила ли, как он ее кубок в руках вертел. Кажется, нет.
А она только усмехнулась горько. Даже в такой малости у них мысли сошлись.
«Эх, судьба ты, судьбинушка! Что ж ты так погано над людьми скалишься?! Мало того что всю жизнь мне перекосила ни за что ни про что, да еще перед смертью все раны сердечные солью обильно посыпала! Что ж я тебе такого сотворила, что ты так надо мной изгаляешься?!»
Вслух же спокойно молвила:
— Ныне пора мне пришла, княже. Благодарствую за хлеб-соль. Мыслю я, переяславцы мои тебя завтра не хуже угостят.
— Я провожатых дам, стемнеет скоро.
— Передумала я, — отказалась напрочь. — Тут и ехать-то всего верст пять — рукой подать. А ежели твои люди будут со мной — кто-нито подумает, будто под стражу меня взяли.
— Но своих-то ты тоже отпустила, — возразил Константин.
— У меня Вейка есть.
— Так ведь она… — оглянулся на нее и осекся, чтоб не обидеть, помянув лишний раз про хромоту.
И снова княгиня на помощь пришла:
— Лошадьми править — не ноги, руки нужны. А они у нее в порядке.
— А все-таки я людей дам. Мало ли, — заупрямился Константин.
— Ну, пусть полпути проводят. А дальше — не взыщи. Я и сама доберусь, — согласилась Ростислава.
Полпути не страшно. Там как раз дорога резкий поворот делает. Вот перед ним она и отправит назад охрану. Самой же иная дорога: через луг заливной и прямиком к Плещееву озеру. В городе будут думать, что она в монастырь сразу подалась, а Константин — что в город отъехала. Завтра поймет, спросит, искать станет, но ей уже к тому времени все равно будет. Плохо только, если найдет не сразу. Она ведь, поди, некрасивая будет. Отвернется еще, чего доброго. Хотя какая ей разница.
Все она как задумала, так и осуществила. Вот только Вейка подивилась немного, зачем с дороги понадобилось сворачивать и куда ее княгиню на ночь глядя понесло, но Ростислава так зло на нее прикрикнула, что той и переспрашивать расхотелось.
Поняла Вейка все, лишь когда лошади уж чуть ли не к самому озеру донесли. Поняла и в кои веки не послушалась, стала возок вспять поворачивать. Но княгиня ее живо как пушинку оттолкнула, вожжи перехватив — и откуда сил столько взялось, — да сызнова коней послушных к озеру направила.
Как на беду, Вейка, отлетев назад, виском обо что-то твердое приложилась. Когда же в сознание пришла, то увидела, как Ростислава уже всю одежду с себя поскидала, в одной нижней рубахе оставшись, и неспешно в воду заходить стала. Еще чуток совсем, и поздно будет — не остановить.
— Тогда и я с тобой, — крикнула отчаянно.
— Не смей! — крикнула княгиня, как плетью ожгла — наотмашь, до крови.
А Вейка уже и в воду забежала. Ростислава, подумав малость — не пошла бы подмогу звать, — назад немного вернулась, ласково произнесла:
— То я грех смертный творю. А тебе иное велю — до сорока дней за упокой души грешной в соборе Дмитриевском за меня молитву возносить. Авось смилостивятся там, на небесах, чуток убавят от мук адских. А это вот перстенек, — в руку ей сунула неловко. — То батюшки Мстислава подарок, князю Константину его передашь. Может, и сгодится ему, как знать. И еще скажи, что… — но осеклась на полуслове, рукой лишь обреченно махнув. — Ничего не говори, не надо. Что уж теперь.
— А я всё равно с тобой, — жалобно пискнула Вейка.
— То мое дело, — строго сказала Ростислава. — Сама посуди, глупая. Мне ныне только два пути осталось — в монастырь инокиней или сюда.
— А может, в монастырь лучше, — попыталась было возразить служанка. — Богу бы молилась.
— Может, и лучше для кого-то, но не для меня. А ты молись, — напомнила княгиня. — Свечи ставь. Бог-то он добрый, глядишь, и простит.
А кого он простит, так и не сказала. Если рабу свою, то это плохо получалось. Не по ее это характеру. Да и не нужны на том свете рабы. Богу они уж точно ни к чему. За переяславскую княгиню Феодосию сказать, тоже как-то плохо выходило. Ответ сам собой пришел:






