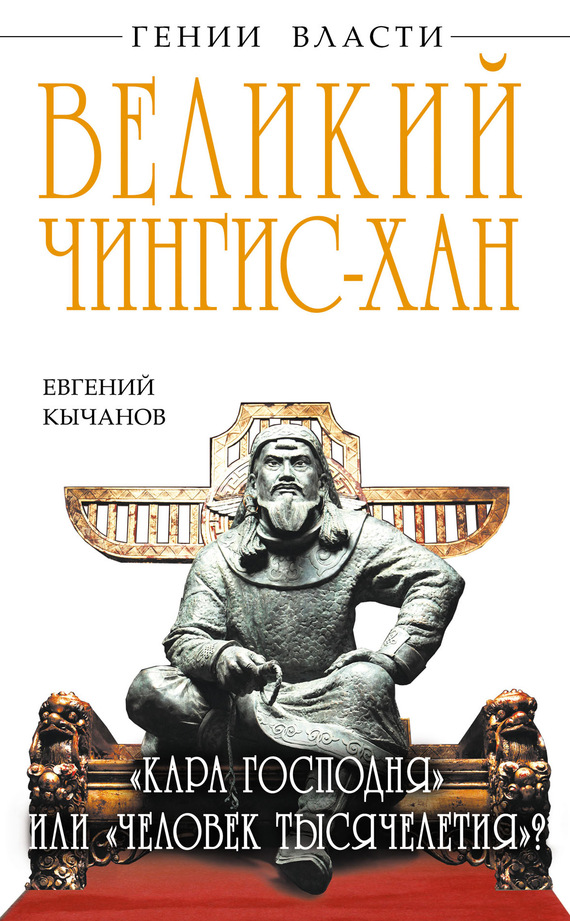В доме веселья Уортон Эдит

— Вот что, Лили, не смейте разговаривать со мной таким властным тоном! — Он снова направился к двери, а она, инстинктивно отпрянув, позволила ему завладеть спасительным порогом. — Я действительно разыграл вас, признаю. Но если вы думаете, что мне стыдно, то вы ошибаетесь. Господь свидетель, я терпел достаточно, я ходил вокруг вас и выглядел идиотом. И это когда вы позволяли другим развлекаться с вами… позволяли им смеяться надо мной, смею сказать… я не очень остроумен и не умею выставлять друзей на посмешище, как вы… но я понимаю, когда смеются надо мной… я сразу понимаю, когда из меня делают дурака…
— Ах, мне бы и в голову не пришло такое! — осенило Лили, но под его взглядом она подавилась смешком.
— Нет, вам и не следовало так поступать, и сейчас вы лучше это поймете. Именно поэтому вы здесь. Я ждал достаточно и дождался, чтобы заставить вас меня выслушать.
Первый порыв невнятного негодования сменился у Тренора спокойной и сосредоточенной интонацией, вызвавшей у Лили большее смятение, чем его возбужденность. На миг присутствие духа покинуло ее. Она несколько раз участвовала в поединках, когда, кроме ума, требовалось еще и остроумие, дабы с честью прикрыть отступление, но ее испуганное сердечко затрепетало, подсказав, что здесь воспользоваться этим не удастся.
Чтобы выиграть время, она повторила:
— Я не понимаю, чего вы хотите.
Тренор поставил стул между ней и дверью. Он уселся на него и откинулся на спинку, глядя на нее.
— Я вам скажу, чего я хочу, я хочу знать, какого рода у нас отношения. Черт, человеку который платит за ужин, как правило, разрешается занять место за столом.
Она вспыхнула от гнева и унижения и тошнотворной необходимости примириться там, где она мучительно хотела смирять.
— Я не знаю, что вы имеете в виду, но вы должны понимать, Гас, что я не могу остаться и разговаривать с вами в этот час.
— Боже мой, вы заходите в дом к одинокому мужчине, не раздумывая, при свете дня, — значит, вы не всегда так чертовски тщательно заботитесь о своей репутации.
Жестокость выпада вызвала головокружение, как бывает после сильного удара. Значит, Роуздейл заговорил, вот почему люди судачат о ней! Лили вдруг почувствовала себя слабой и беззащитной, горло сжал комок жалости к себе. Но одновременно другая ее ипостась обострила ее бдительность, нашептывала, испуганно предупреждая, что каждое слово и жест должны быть продуманны.
— Если вы заманили меня сюда, чтобы оскорблять… — начала она.
Тренор рассмеялся:
— Не говорите чепухи. Я не хочу вас обидеть. Но у каждого есть чувства, и вы играли моими слишком долго. Я ведь не затеял все это и не перебегал дорогу другим парням, пока вы не выбросили меня за ненужностью и не стали делать из меня идиота, и вам удалось это без труда. Вот что обидно — с такой легкостью, с таким безрассудством вы думали, что можете вывернуть меня наизнанку и бросить в канаву, как пустой кошелек. Но, господи, это нечестная игра, нельзя нарушать правила. Конечно, теперь я знаю, чего вы хотели, — вас интересовали не мои красивые глаза, но я вам скажу, мисс Лили, вы должны заплатить сполна за то, что заставили меня думать так.
Он встал, агрессивно расправив плечи, и шагнул к ней с покрасневшим лицом, а она не двинулась, хотя каждый нерв требовал отступить по мере его приближения.
— Заплатить? — Она запнулась. — Вы имеете в виду, что я должна вам деньги?
Он снова засмеялся:
— О, я не требую платы подобного рода. Но есть такая штука, как честная игра и проценты на вложенные инвестиции, и, черт возьми, если бы вы хоть взглянули на меня…
— Ваши деньги? Какое отношение я имею к вашим деньгам? Вы советовали мне, как вкладывать мои… вы знали, что я ничего не понимаю в бизнесе… Вы сказали мне, что это не имеет значения…
— Да нет же, с этим как раз все в порядке, Лили, я готов помогать и сделать в десять раз больше. Я всего лишь хочу услышать слова благодарности от вас.
Он все еще стоял рядом с ней, и рука его становилась все более внушительной, и перепуганная ипостась Лили поволокла другую на дно.
— Я благодарила вас, я дала знать, что я благодарна. Разве не так же на вашем месте поступил бы всякий настоящий друг? И как еще друг может отблагодарить друга за помощь?
— Я не сомневаюсь, что вы принимали эти дары и прежде, — с усмешкой откликнулся Тренор, — и отбрасывали других дающих, как хотите отбросить меня. Меня не волнуют ваши счеты с ними: если вы одурачили их, мне это только приятно. Не смотрите на меня так, я знаю, что мужчина не должен говорить с девушкой подобным образом, но, черт, если вам не нравится, есть много способов заставить меня замолчать, вы же знаете, что я без ума от вас, к черту деньги, их хватит на все, если вас беспокоит это… Я был груб, Лили, Лили! Просто взгляните на меня…
Снова и снова она тонула в море унижения — волна разбивалась о волну так близко, что нравственный позор сливался с физическим ужасом. Ей казалось, что чувство собственного достоинства сделало бы ее неуязвимой, что она сама обесчестила себя и обрекла на ужасное одиночество.
От его прикосновения ее утопающее сознание забилось. Она отшатнулась в отчаянной попытке выразить презрение.
— Я уже говорила, что не понимаю, но если я должна деньги, я вам их выплачу…
Лицо Тренора потемнело от ярости: ее явное отвращение пробудило в нем первобытного дикаря.
— Ах, вы будете брать деньги у Селдена или Роуздейла и пытаться дурачить их, как одурачили меня! Если только вы уже не расквитались с ними и я единственный, кто остался с носом!
Она стояла молча, словно приросла к месту. Слова — слова были хуже, чем его касание. Казалось, сердце билось во всем теле — в горле, в ногах, в ее беспомощных, бесполезных руках. Взгляд в отчаянии блуждал по комнате, глаза зажглись при виде звонка, и она вспомнила, что звонок означает прислугу. Да, но и скандал с отвратительными пересудами. Нет, она должна найти выход сама. Уже достаточно, что слуги знают: она одна в доме с Тренором, — не должно быть ничего, что возбудило бы подозрения при ее ретираде. Она подняла голову и принудила себя последний раз взглянуть на него невинно.
— Я здесь, с вами наедине, — произнесла она, — что еще вы хотите сказать?
К ее удивлению, Тренор уставился на нее, онемев. С последним порывом слов пламя угасло, оставив его холодным и униженным. Будто студеный ветер разогнал пары возлияний, и вся ситуация теперь вырисовывалась перед ним мрачной и голой, как руины в огне. Старые привычки, старые ограничения, власть унаследованных законов вернули на место выбитый из колеи смятенный разум. Тренор казался изможденным лунатиком, разбуженным на карнизе на краю гибели.
— Ступайте домой! Прочь! — заикаясь, сказал он и, развернувшись, отошел к камину.
Сразу освободившись от страха, Лили обрела способность ясно мыслить. То, что Тренор потерял всякую решимость, позволило ей овладеть положением, она услышала свой собственный, но как будто чужой голос, повелевающий ему вызвать слугу, приказывающий позвонить и вызвать экипаж и проводить ее, когда тот появится. Как она обрела силу, Лили не ведала, но настойчивый голос предупредил ее, что она должна покинуть дом открыто, и он же велел, перед тем как распрощаться, обменяться незначащими словами с неловко топчущимся в холле Тренором, нагрузить его обычными приветами Джуди, хотя все это время ее сотрясало отвращение. На пороге, глядя на улицу, она почувствовала бешеный трепет освобождения, как первый глоток воздуха свободы, опьяняющий узника, но ясность сознания ее не покинула, и потом она отметила глухонемую Пятую авеню, осознала, насколько уже поздно, и, садясь в карету, даже обратила внимание на показавшегося ей знакомым человека, который свернул за угол и исчез во мраке соседней улицы.
Но с отправлением экипажа наступила реакция, и дрожащий мрак объял ее. «Я не могу, не могу думать!» — стонала она, склонив голову на дребезжащую боковину кареты. Лили представлялась чужой самой себе или, скорее, ощущала раздвоение, узнавая одну себя, которую всегда знала, а другая ее ипостась оказалась отвратительным существом, к которому она была прикована. Она нашла однажды в доме, где гостила, перевод «Эвменид»,[14] и ее воображение было захвачено невыразимым ужасом сцены, где в пещере оракула Орест находит своих непримиримых преследовательниц спящими и вырывает себе час покоя.[15] Да, фурии иногда засыпают, но они там, они всегда там, в темных углах, и теперь они проснулись, и железный звон их крыльев раздавался у нее в голове… Она открыла глаза и посмотрела на улицы, по которым ехала, — знакомые чужие улицы. Все, на что она смотрела, оставалось прежним — и все же стало другим. Между вчера и сегодня разверзлась огромная пропасть. Все в прошлом казалось простым, естественным, полным дневного света, а она была одна во тьме и нечистотах — одна! Это было одиночество, которое пугало ее. Ее взгляд упал на освещенные часы на углу улицы, и она увидела, что стрелки показывали полдвенадцатого. Всего лишь полдвенадцатого — до утра еще столько часов! И она должна провести их одна, дрожа в бессоннице на кровати. Ее слабый характер отверг это испытание: не было ни одного стимула, способного побудить ее пройти через него. О, медленные холодные капли минут, язвящие темя! У нее было видение: она лежит на кровати черного ореха, и темнота ее пугает, и если бы она оставила свет зажженным, ужасные детали комнаты отпечатали бы тавро на ее мозгу — навеки. Она всегда ненавидела свою комнату в доме миссис Пенистон — ее уродство, ее безликость, сознание того, что ничто в этой комнате ей не принадлежит. Разбитому сердцу, не пригретому человеческой близостью, комната может распахнуть почти человеческие объятия, а существо, которому чужды любые четыре стены, — всегда и везде чужестранец.
У Лили не было ни единой родной души, чтобы опереться. Ее отношения с тетей были поверхностными, как встреча жильцов на лестнице одного дома. Но даже будь они близки, невозможно было вообразить миссис Пенистон предоставляющей убежище или сочувствующей страданиям Лили. Как боль, о которой можно поведать, уже наполовину уменьшается, так и жалость вопрошающая лишь немного исцеляет касанием. Лили жаждала объятий темноты, тишины не в одиночестве, но в затаившем дыхание сочувствии.
Она привстала и посмотрела на проносящиеся мимо улицы. Герти! Они подъезжали к дому Герти! Если бы только она могла добраться туда прежде, чем удушающая тоска вырвется из груди к ее устам, если бы только она могла почувствовать себя в объятиях Герти, дрожа в лихорадке приближающегося приступа страха! Она приоткрыла дверцу в крыше кареты и назвала адрес кучеру. Было не слишком поздно, Герти, наверное, не спала еще. И даже если спит, звон колокольчика проникнет в каждую щелку ее крошечной квартиры и вынудит ее откликнуться на зов подруги.
Глава 14
Наутро после представления в доме четы Веллингтон Брай не только Лили проснулась в хорошем настроении — Герти Фариш снились почти такие же счастливые сны. Пусть им и не хватало буйства красок, все цвета были разбавлены до полутонов ее личностью и опытом, но зато именно поэтому они как нельзя лучше соответствовали ее внутреннему зрению. Вспышки радости, полыхавшие вокруг Лили, наверняка ослепили бы мисс Фариш, привыкшую к тому, что счастье — это скудный свет, пробивающийся сквозь щели чужих жизней.
Теперь ее обволакивала собственная маленькая иллюминация: мягкий, но безошибочный луч усилившейся доброты Лоуренса Селдена к ней самой и открытие, что он удостоил своей симпатией Лили Барт. Если знатоку женской психологии эти два фактора покажутся несовместимыми, следует вспомнить, что Герти всегда была этаким нравственным паразитом, она питалась крохами с чужих столов и получала удовольствие, в окошко созерцая бал, устроенный в честь ее друзей. Теперь же, когда она получила свой собственный маленький праздник, было бы крайне эгоистично не поставить тарелку для подруги, а с кем еще могла бы она разделить свою радость, если не с мисс Барт?
Что касается причины доброты Селдена к ней, то для Герти попытка определить ее была бы равносильна попытке узнать цвет крыльев бабочки, стряхивая с них грязь. Излишнее любопытство может стереть с крылышек пыльцу, и ты увидишь, как бабочка поблекнет и умрет в твоей руке, — лучше уж пусть трепещет недосягаемая, а ты будешь смотреть, затаив дыхание, куда она сядет. Но поведение Селдена на приеме у Браев настолько приблизило полет этих крылышек, что Герти казалось, она чувствует их биение в собственном сердце. Никогда еще она не видела его таким предупредительным, таким отзывчивым, таким внимательным к каждому ее слову. Обычно он всегда был рассеянно-добродушен, и Герти с благодарностью принимала такое отношение, ибо не могла рассчитывать на более сильное чувство, но она быстро ощутила перемену в нем, которая означала, что впервые удовольствие было взаимным.
И как восхитительно, что его возросшая симпатия к ней была связана с их общим увлечением Лили Барт!
Привязанность Герти к подруге — чувство, которое научилось выживать на самой скудной диете, — превратилась в откровенное обожание с тех пор, как неугомонное любопытство Лили вовлекло ее в водоворот деятельности мисс Фариш. Однажды попробовав, каково на вкус милосердие, Лили почувствовала небывалый аппетит к добрым делам. Посещение «Девичьего клуба» стало ее первым соприкосновением с драматическими контрастами жизни. Прежде Лили всегда с философской невозмутимостью принимала тот факт, что существа, подобные ей, возвышаются на пьедестале, у подножия которого копошится темное людское месиво. За пределами маленького, ярко освещенного кружка, в котором жизнь достигла апогея цветения, лежало тоскливое и мрачное чистилище, будто зимняя слякоть вокруг жаркого жилища, полного тропических цветов. Это был естественный порядок вещей, и орхидеям, которые нежатся в искусственно созданном тепле, нет дела до ледяных узоров по ту сторону оконного стекла.
Но жить в холе и неге, имея абстрактные представления о нищете, — это одно, а столкнуться с человеческим воплощением нищеты — это совсем другое. Лили всегда представляла себе этих обделенных судьбой людей как безликую массу. Но оказалось, что эта масса состоит из отдельных жизней — бесчисленных центров ощущений, каждый из которых жаждет радости и отчаянно бежит от боли, эти пучки чувств заключены в формы, не так уж отличающиеся от ее собственной, глаза так же хотят сиять от счастья, а юные губы созданы для любви. Это открытие стало для Лили тем потрясением, тем всплеском сострадания, которое сместило ее представления о жизненных ценностях. Природа Лили не способна была полностью переродиться, она могла чувствовать нужды других только сквозь собственные, и любая боль проходила быстро, если только прекращалось воздействие на определенный нерв. Но на какое-то время она забыла о себе, погружаясь во взаимодействие с миром, столь непохожим на ее собственный. Свой первый взнос она пополнила личным участием в судьбе одной или двух самых симпатичных подопечных мисс Фариш, и неподдельный интерес и восхищение, вызванные у этих измученных тружениц ее присутствием в клубе, стали еще одной формой утоления ее ненасытного желания нравиться.
Герти Фариш не настолько хорошо разбиралась в человеческих характерах, чтобы распутать беспорядочное сплетение нитей, из которых была соткана филантропия Лили. Герти решила, что ее красавица-подруга движима теми же побуждениями, что и она сама, — обостренным нравственным чувством, которое заставляет настолько близко к сердцу принимать чужое страдание, что все остальные аспекты жизни меркнут и отдаляются. Герти жила, руководствуясь этой простой формулой, и без колебаний классифицировала состояние подруги как «душевную перемену», к которой ее приучило общение с бедными, и радовалась тому, что стала скромным посредником этого обновления. Теперь у нее был ответ злопыхателям Лили: она знает «подлинную Лили». А потом оказалось, что и Селден разделяет это знание, и от спокойного восприятия жизни ее метнуло к захватывающему пониманию ее безграничных возможностей, а ближе к вечеру это чувство усилилось, потому что Селден прислал ей телеграмму с просьбой пообедать с ним.
В то время как его просьба стала причиной счастливой и растерянной суматохи в маленьком хозяйстве Герти, Селден тоже неотвязно думал о Лили Барт. Дело, ради которого он прибыл в Олбани, не было настолько сложным, чтобы полностью занять его внимание, к тому же он обладал профессиональным умением не загружать без необходимости весь мозг, часть его оставалась свободной. Теперь эта часть, похоже, грозила стать размером с целое, и чуть ли не до краев ее заполнили впечатления минувшего вечера. Селден осознавал, что это за симптомы: он понимал, что расплачивается, а рано или поздно этот час настал бы, за добровольный отказ от некоторых вещей в прошлом. Он не хотел себя связывать, он не был вовсе неподвластен чувствам, просто, как и Лили, Селден был жертвой своей среды. Была крупица правды в его сказанных Герти Фариш словах о том, что он ни за что не женится на «милой» девушке: это прилагательное в словаре кузины означало некий набор утилитарных качеств, не допускавших такую роскошь, как очарование. А Селдену суждено было родиться у очаровательной матери: ее грациозный портрет в кашемировой шали, весь лучащийся радостью, до сих пор источал приглушенный аромат. Отец Селдена был из тех, кто преклоняется перед красивой женщиной: он цитировал высказывания жены, исполнял ее желания, только бы она вечно оставалась очаровательной. Деньги супругов не заботили, но презрение к ним выражалось в том, что они всегда тратили чуть больше, чем позволяло благоразумие. И если дом у них был довольно ветхим, то хозяйство велось с исключительным изяществом, на полках стояли самые лучшие книги, а на столе — изысканная посуда. Селден-старший знал толк в хорошей живописи, а его жена прекрасно разбиралась в старинных кружевах, и оба настолько сознательно ограничивали себя в покупках, что просто диву давались порой, откуда берется этакая гора счетов.
Многие друзья Селдена назвали бы его родителей бедняками, однако он вырос в атмосфере, где скудость средств ощущалась, лишь когда речь шла о бесцельных тратах, где то немногое, что имелось, было настолько хорошо и редкостно, что доставляло благородное утешение, где сдержанность сочеталась с элегантностью и миссис Селден ухитрялась носить старые бархатные платья так, что они смотрелись как новые. Мужчина обладает преимуществом раннего освобождения от принятых в семье взглядов на мир, и задолго до окончания колледжа Селден усвоил, что разнообразных способов обходиться без денег существует столько же, сколько и возможностей их потратить. К сожалению, он не нашел способа более приятного, чем тот, что был принят у него дома, и его отношение к женщинам было окрашено воспоминанием о той, единственной женщине, которая привила ему понятие истинных ценностей. Именно от нее он унаследовал отрешенность от денежной стороны жизни: стоическое небрежение к материальным благам и эпикурейское удовольствие от них. Жизнь, лишенная этих двух ощущений, казалась ему ничтожной, и нигде два компонента не смешивались так существенно, как в характере хорошенькой женщины.
Селдену всегда казалось, что опыт может предложить очень многое, помимо романтических отношений, хотя он мог живо представить себе любовь, которая разрастается и углубляется, пока не станет наконец главным фактом в жизни. Единственное, чего он не мог принять в отношении себя самого, так это ограничения отношений, когда какая-то часть его натуры оставалась неудовлетворенной, в то время как другие ее части испытывали чрезмерное напряжение. Иными словами, он не позволил бы разрастись любви, основанной на сострадании, но не затрагивающей понимание: сочувствие обманывало его не более, чем оптическая иллюзия, а изящество беспомощности не отвлекало от овала лица.
Но теперь… Это маленькое «но» будто губкой стерло все его зароки. Его продуманное сопротивление теперь казалось куда менее важным, чем мысль о том, когда же Лили получит его записку. Селден поддался очарованию пустых занятий, мечтая о том, в котором часу придет ответ от нее и какими словами он будет начинаться. Что до сути письма, то здесь у него не было сомнений — она захвачена чувством так же, как и он. И теперь он предавался досужему обдумыванию всех восхитительных деталей — так рабочий после трудной недели воскресным утром лежит и неподвижно наблюдает за лучом света, медленно скользящим по комнате. Но если новый огонь и вспыхнул, то Селдена он не ослепил. Он по-прежнему осознавал, что происходит, хотя его собственное отношение к происходящему переменилось. Селден не хуже, чем раньше, понимал смысл того, что сказала Лили Барт, но он мог отделить женщину, которую знал, от вульгарной оценки ее. Он мысленно возвращался к словам Герти Фариш, и мудрость мира будто становилась ощутимой рядом с воплощением невинности. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят[16] — даже того бога, который глубоко спрятан в груди ближнего! Селден находился в состоянии той страстной поглощенности самим собой, которая охватывает человека, когда любовь впервые берет верх. Он жаждал общения с единомышленником, с кем-то, чьи взвешенные наблюдения со стороны подтвердили бы правдивость того, за что так радостно ухватилась его интуиция. Селден не смог дождаться перерыва и, воспользовавшись моментом затишья в суде, черкнул телеграмму Герти Фариш.
По приезде в город Селден сразу отправился в свой клуб, где, как он надеялся, его могла ждать записка от мисс Барт, но в ящике его лежало только письмо от Герти, которая выражала свое восторженное согласие пообедать с ним вместе. Разочарованный, он повернул было к выходу, но тут его окликнул голос из курительной комнаты:
— Приветствую, Лоуренс! Зашли перекусить? Составьте мне компанию, я как раз заказал утку.
Это был Тренор. Одетый в деловой костюм, он сидел и листал спортивный журнал, у локтя его стоял высокий бокал.
Селден поблагодарил его, но отказался, сославшись на приглашение.
— Черт подери, уверен, что каждый сегодня вечером куда-нибудь да приглашен. Что ж, клуб будет полностью в моем распоряжении. Я, знаете ли, всю зиму провел, слоняясь по пустому дому. Жена собиралась сегодня приехать в город, но снова передумала, а каково это — ужинать одному в комнате, где все зеркала занавешены, а в буфете только бутылка «соуса Харви»? Так что, Лоуренс, говорю вам, бросьте свое свидание и сжальтесь надо мной: мне осточертело ужинать в одиночку, а в клубе никого, кроме этого ханжи Уизерэлла.
— Извините, Гас, я не могу.
Уходя, Селден заметил помрачневшее лицо Тренора, отталкивающе потный, слишком белый лоб, драгоценные перстни, впившиеся в его пухлые красные пальцы. Определенно, здесь господствовало животное — зверь на дне бокала. И надо же, чтобы имя этого человека упоминали рядом с именем Лили! Фу! Селдена затошнило от этой мысли. Всю дорогу домой он не мог отделаться от видения Треноровых жирных рук…
На столе лежала записка — Лили ответила ему на домашний адрес. Он знал, что там сказано, еще до того, как сломал печать — серую печать, запечатывающую Край Света! Простор под килем летучего корабля. Ах, он уплыл бы с ней на край света, подальше от уродства, мелочности, износа и коррозии души…
Крошечная гостиная Герти засияла гостеприимством навстречу Селдену. Ее скромная «начинка», эмалевая краска вкупе с изобретательностью, говорили с ним на языке, сладчайшем для его сегодняшнего слуха. Просто удивительно, как узкие стены и низенький потолок раздвигаются, когда внезапно взметаются ввысь своды души. Герти сияла тоже — или по крайней мере излучала сдержанный свет. Он никогда прежде не замечал, что и Герти не лишена достоинств, — правда же, она славная девушка, некоторые и на худших женятся… После короткого ужина (и снова все было на высоте) Селден объявил, что она просто обязана выйти замуж, — его дух находился в том возвышенном состоянии, когда хочется переженить весь белый свет. Как, она своими руками приготовила этот карамельный крем? Грешно скрывать такие таланты. Прилив гордости охватил его, когда он вспомнил, что Лили сама подшивает себе шляпки, — она рассказывала ему об этом в тот день, когда они гуляли в Белломонте.
До конца ужина он помалкивал о Лили. Во время всей короткой трапезы он говорил только о хозяйке, а та, польщенная таким вниманием, порозовела, как свечные абажуры, которые она специально смастерила к случаю. Селден выказал чрезвычайный интерес к тому, как она ведет домашнее хозяйство, расхвалил ее находчивое умение использовать каждый дюйм этого маленького жилища, поинтересовался, как ее прислуга управляется, работая всего пару часов, узнал, что можно сымпровизировать вкусные обеды на жаровне, и произнес задумчивую тираду о бремени большого хозяйства.
Они снова перешли в гостиную и оба ладно вписались в нее, будто детали одной головоломки, — она разливала свежесваренный кофе в тончайшие бабушкины чашечки из китайского фарфора, а он откинулся на спинку кресла, нежась в теплом аромате. Ему на глаза попалась недавняя фотография мисс Барт, и разговор непринужденно потек в столь желанном для него направлении. Это была довольно хорошая фотография, но если бы фотограф запечатлел ее такой, как вчера! Да, такой ослепительной Лили никогда еще не была, согласилась Герти. Но разве может фотография передать подобное сияние? У нее появилось новое выражение лица, вся она была какой-то другой. Да, подтвердил Селден, совершенно другой. Кофе оказался до того хорош, что Селден попросил еще чашечку: какой разительный контраст с той кофеобразной жижей из клуба! Ах ты, бедный холостяк, обреченный на безликую клубную кормежку, единственная альтернатива которой — столь же безликая трапеза на званом ужине! Тот, кто живет в съемном жилище, лишает себя самого лучшего в жизни… Селдон представил себе безвкусный одинокий ужин Тренора и на миг почувствовал сострадание к бедолаге. Но тут же вспомнил Лили — снова и снова он возвращался к разговору о ней, расспрашивая, предугадывая, подталкивая Герти к нужной теме, вытягивая сокровенные ее мысли, полные нерастраченной нежности к подруге.
Поначалу она щедро выплескивала свои чувства, радуясь такой чудесной общности их симпатий. Его отношение к Лили помогало Герти утвердиться в собственной вере в подругу. Кузены сошлись в том, что Лили не везло. Герти великодушно объясняла это беспокойством и неудовлетворенностью тем, что жизнь никогда не оправдывала ее ожиданий. Лили не раз могла бы уже выйти замуж — обычный брак с богачом по расчету, который ее приучили считать высшей целью существования, — но всякий раз избегала этого. Вот, например, Перси Грайс в нее влюбился — все в Белломонте были абсолютно уверены, что они вот-вот объявят о помолвке, и ее отказ явился полной неожиданностью для всех. Подобное отношение к эпизоду с Грайсом было очень созвучно настроению Селдена, и он немедленно его разделил, в один миг презрев то, что прежде казалось ему очевидным. Если Лили вправду отказала Грайсу — и как это он раньше сомневался! — то у Селдена был ключ к разгадке, тайну знали только он и холмы Белломонта, озаренные не лучами заката, а рассветным солнцем. Не кто иной, как он, Селден, дрогнул и упустил свою судьбу, и радость, согревающая его сердце, уже давно угнездилась бы там, поймай он ее на взлете.
Но, видимо, именно в это мгновение радость, только что трепетавшая крыльями в сердце Герти, рухнула на землю и застыла недвижно. Герти сидела напротив Селдена и механически повторяла: «Нет, ее никогда не понимали…» — и ей все время казалось, что сама она находится в центре огромного круга света — света прозрения. И милая уютная комнатка, в которой их мысли еще мгновение назад соприкасались, словно ручки кресел, раздалась и стала враждебной бездной, отделив ее от Селдена на всю глубину ее нынешнего видения будущего, которое теперь бесконечно отдалилось, ее одинокая фигурка оказалась всего лишь маленькой точкой, бредущей среди отчаянной пустоты.
Она слышала голос Селдена: «Она может быть собой только с некоторыми — и ты одна из них», а потом: «Ты ведь не оставишь ее, Герти?», и еще: «Если в нее верить, то она может стать такой, какая она на самом деле, и ты поможешь ей открыть в себе лучшее, правда?»
Слова тарахтели у Герти в мозгу, словно звучание языка, который издали кажется знакомым, но совершенно непонятен вблизи. Селден пришел только затем, чтобы поговорить о Лили, и все! Здесь, за столом, накрытым ею на двоих, присутствовала третья лишняя, но эта лишняя заняла ее собственное место. Герти пыталась понять то, что он говорит, пыталась ухватить нить разговора, но это было так же бессмысленно, как биение волн о голову утопающего, и она почувствовала, как, может быть, чувствует утопающий, что смерть в волнах — ничто по сравнению с болью борьбы за спасение.
Селден встал, и Герти вздохнула поглубже, готовясь погрузиться в благословенные волны.
— Так ты говоришь, она ужинает у миссис Фишер? Потом обещали концерт, и я уверен, что получил приглашение. — Он посмотрел на дурацкий розовый циферблат ходиков, отбарабанивших завершение этого отвратительного часа. — Четверть одиннадцатого? Пожалуй, я загляну туда, у миссис Фишер чудесные вечера. Я не слишком поздно засиделся, Герти? Ты выглядишь уставшей — это я наскучил тебе, мелю тут всякий вздор.
И в неосознанном порыве он запечатлел на ее щеке братский поцелуй.
С десяток голосов отозвались на приветствие Селдена из накуренной до потолка комнаты миссис Фишер. Песня еще не отзвучала, и Селден, плюхнувшись на стул рядом с хозяйкой дома, принялся обшаривать комнату взглядом в поисках мисс Барт. Но ее не было, и это открытие причинило ему острую боль, совершенно несообразную с серьезностью причины этой боли, поскольку письмо, которое хранилось в его нагрудном кармане, обещало ему, что завтра в четыре они встретятся. В своем нетерпении он считал ожидание слишком долгим и, стыдясь, но не в силах сдержать импульс, наклонился к миссис Фишер и, как только музыка стихла, спросил, не ужинает ли здесь сегодня мисс Барт.
— Лили? Она только что ушла. Ей надо было бежать, я забыла куда. Вчера она была великолепна, не правда ли?
— Кто? Лили? — переспросил Джек Степни из недр соседнего кресла. — Честно говоря, я не ханжа, как вам известно, но когда увидел, что девушка выставлена там, будто на аукционе, я серьезно подумывал, не стоит ли поговорить с кузиной Джулией.
— Вы уже знаете, что Джек теперь стал нашим общественным цензором? — со смехом сказала миссис Фишер, а Джек прошипел среди общих насмешек:
— Но она мне кузина, черт побери, а я женатый человек… Утренний «Городской сплетник» только о ней и пишет.
— Да, весьма бойкое чтиво, — сказал мистер Нед Ван Олстин, поглаживая усы, под которыми пряталась усмешка. — Не то чтобы я покупал бульварные газетенки, конечно нет! Кто-то показал ее мне, но я и раньше слышал всякие истории. Такой красивой девушке учше сразу выскочить замуж, тогда никаких вопросов не возникает. А наше общество так несовершенно устроено, что нет никаких возможностей для девушки, которая претендует на привилегии брака, не принимая обязательств, которые он налагает.
— Ну, как я понимаю, Лили уже близка к тому, чтобы принять их в виде мистера Роуздейла, — хохотнула миссис Фишер.
— Роуздейла? Боже упаси! — воскликнул Ван Олстин, выронив монокль. — Это ты, Степни, виноват — навязал это животное на нашу голову.
— Не суетитесь так уж. Вы же знаете, в нашей семье никто не вступает в брак ни с какими Роуздейлами, — вяло протестовал Степни.
Однако его супруга в тесном свадебном наряде сурово утихомирила его из другого угла комнаты:
— Было бы ошибкой для Лили, в ее-то обстоятельствах, слишком высоко держать планку.
— Я слышала, даже Роуздейл был напуган недавними разговорами, — парировала миссис Фишер, — но, увидев ее вчера вечером, совсем потерял голову. Как вы думаете, что он сказал мне после ее появления в живой картине? «Господи, миссис Фишер, если бы я смог заполучить Пола Морпета, чтобы тот написал ее вот такой, то через десять лет картина подорожала бы на сто процентов».
— Черт, разве она не где-то тут? — вскричал Ван Олстин, гневно блеснув водруженным на место моноклем.
— Нет. Она убежала, пока вы все внизу смешивали пунш. Куда она пошла, кстати? Я не слышала ни о каких больше приемах на сегодня.
— Не на прием — это точно, — сказал неоперившийся юнец Фариш, пришедший позже всех. — Я посадил ее в экипаж, когда пришел, и она назвала кучеру адрес Треноров.
— Треноров?! — удивленно воскликнула миссис Степни. — Зачем? Дом ведь заперт — Джуди звонила мне по телефону из Белломонта сегодня вечером.
— Неужели? Как странно. Уверен, что я не ослышался. Однако все-таки Треноры, наверное, здесь, хотя… ой, дело в том, что я не расслышал номера… — Он запнулся от предостерегающего пинка чьей-то ноги под столом и улыбочек, замелькавших вокруг.
Заметив эти неприятные ухмылки, Селден поднялся и обменялся рукопожатиями с хозяйкой дома, прощаясь. Он задыхался в этой комнате, и как это он смог оставаться здесь так долго.
На крыльце он помедлил, вспоминая фразу, сказанную Лили: «Мне кажется, вы проводите слишком много времени в обществе, которое не одобряете».
Но разве не за ней он пришел сюда? Это ее общество, не его. Но он должен вытащить ее из этого общества. Подальше от него, на край света! Этот Край Света — печать на ее письме — словно крик о помощи. Он знал, что подвиг Персея не закончился, когда тот снял цепи с Андромеды, ибо ее члены онемели от оков и она не могла встать и идти, но цеплялась за него слабыми руками, пока он пробивался к берегу со своей ношей. Да, у Селдена хватало силы на двоих: именно слабость Лили удвоила его силу. Но, увы, не чистые воды моря лежали перед ними, а гнилая трясина старых предрассудков и привычек, которые им нужно было одолеть, и на миг зловонные испарения проникли к нему в горло. Но рядом с ней он бы яснее мыслил, свободнее дышал — она была одновременно и мертвым грузом на его груди, и спасительной мачтой, на которой он доплывет до берега. Он улыбнулся этому вихрю метафор, с помощью которых пытался избавиться от впечатлений последнего часа. Горе ему, если, зная, какими неоднозначными мотивами движим свет в своих суждениях, он колеблется под их влиянием. Как же он сумеет возвысить Лили к более свободному восприятию жизни, если его собственные взгляды на Лили будут нести налет чужого мнения о ней.
Моральные угрызения вызвали физическую потребность в свежем воздухе, и он зашагал вперед, вбирая полной грудью гулкий холод ночи. На углу Пятой авеню его окликнул Ван Олстин, с предложением составить компанию:
— Прогуливаетесь? Приятно выветрить из головы весь этот дым. С тех пор как женщины добрались до табака, мы все время принимаем никотиновые ванны. Было бы любопытно изучить воздействие сигарет на отношения полов. Курение — это растворитель не хуже развода: оба способствуют размытию моральной нормы.
Настроению Селдена меньше всего были созвучны послеобеденные афоризмы Ван Олстина, но поскольку последний ограничивался общими сентенциями, его слушатель держал свои нервы в узде. К счастью, Ван Олстин гордился своим умением делать социальные обобщения, а такой аудитории, как Селден, он с готовностью демонстрировал свои несомненные способности. Миссис Фишер жила на Истсайде, близ Парка, они вышли на Пятую авеню, и Ван Олстин просто не мог оставить без внимания новейшие архитектурные изыски этой многоликой улицы.
— Этот грейнеровский особняк — типичная ступень социальной лестницы! Тот, кто его выстроил, вырос в среде, где все блюда подаются на стол одновременно. Это не фасад — это настоящее архитектурное застолье. Пропусти он хоть один стиль, друзья решили бы, что ему денег не хватило. Впрочем, для Роуздейла — неплохое приобретение: привлекает внимание и поражает воображение зевак с Запада. Поматросит и бросит — как только он минует этот период, ему захочется чего-нибудь такого, перед чем не будут бегать толпы и стоять разинув рот. Особенно если он женится на моей разумнице-кузине…
Селден прервал его вопросом:
— А как насчет дома Веллингтона Брая? По-моему, очень умный выбор, вы не находите?
Они как раз приближались к широкому белокаменному фасаду, богатая сдержанность линий которого напоминала пышную фигуру, умело затянутую в корсет.
— Это следующий подвид: мы, мол, в Европах бывали и держим планку. Уверен, миссис Брай полагает, что ее дом — точная копия Трианона: в Америке любой мраморный дом с золоченой мебелью мнит себя копией Трианона. До чего же находчивый малый этот архитектор — так потрафить своим клиентам! В этом композитном ордере — вся миссис Брай. А для Треноров, как вы помните, он выбрал коринфский: изобильный, но хорошего вкуса. Особняк Треноров — один из лучших, он не из тех, что напоминают вывернутый наизнанку банкетный зал. Я слыхал, что миссис Тренор хочет выстроить новый бальный зал, и несговорчивость Гаса по этому поводу удерживает ее в Белломонте. Должно быть, ее терзают размеры бального зала миссис Веллингтон Брай: уж будьте уверены, они ей известны до последнего ярда, как будто она лично присутствовала на вчерашнем приеме. Кто, кстати, сказал, что она в городе? Фаришев сынок? Ее нет, я точно знаю. Миссис Степни права — окна не светятся, полагаю, Гас живет сейчас в доме позади.
Он притормозил напротив дома Тренора, и Селдену волей-неволей тоже пришлось замедлить шаг. Дом выглядел сумрачным и необитаемым, лишь полоска света над дверью сообщала о временном постояльце.
— Они выкупили дом у соседей позади, углубившись на сто пятьдесят футов вдоль боковой улицы. Там-то и должен быть новый бальный зал с соединительной галереей, а над ней бильярдная и все такое. Я им советовал перепланировать подъезд, а гостиную расположить в фасадной части, вдоль Пятой авеню, — видите, как парадная дверь сочетается с окнами…
Раздался оторопелый возглас, и трость, которой Ван Олстин размахивал, словно указкой, неожиданно выпала у него из рук: дверь открылась и на фоне освещенного холла показались два силуэта. Тут же к бровке подкатил экипаж, и одна фигура вплыла в него под покровом вечерней дымки, а другая, темная и грузная, осталась отчетливо видимой на свету.
Какие-то секунды, казавшиеся бесконечными, оба невольных наблюдателя не проронили ни звука, затем дверь закрылась, экипаж отъехал, и вся сцена преобразилась, словно под лучом «волшебного фонаря».
Ван Олстин негромко присвистнул и выронил монокль:
— Э-э… Гм… ничего не было, да, Селден? Как член семейства, уверен, что могу на вас рассчитывать… Наружность обманчива…. А на Пятой авеню порядком темновато…
— Доброй ночи. — И, не замечая протянутой на прощание руки, Селден резко свернул в переулок.
Герти сидела одна и все думала о братском поцелуе Селдена. Он и прежде целовал ее, но тогда его губы еще не знали губ другой женщины. Если бы он только избавил ее от этого, она могла бы спокойно погрузиться в благодатную темную пучину. Но теперь пучина обмелела в сиянии торжества, и куда труднее утонуть на рассвете, чем во мраке ночи. Сколько бы Герти ни прятала лицо от света, он просачивался во все щели ее души. Прежде она была так довольна, жизнь казалась такой простой и осмысленной, — зачем он пришел и растревожил в ней новые надежды? Но Лили — Лили, ее лучшая подруга! Герти так по-женски винила во всем другую женщину. Наверное, не будь Лили, желаемое могло бы стать действительным. Селден всегда любил Герти — он ее понимал и симпатизировал ее скромной независимой жизни. Он, с его репутацией человека, который все и всегда взвешивает на аптекарских весах изысканного восприятия, принимал ее просто и доброжелательно, его ум никогда не вызывал в ней благоговейного трепета, потому что в его сердце она была как дома. А теперь ее вышвырнули вон и рука Лили захлопнула дверь! Лили, о которой она так заботливо хлопотала, которую сама же и привела! В резком свете горькой иронии ситуация прояснилась. Герти знала Селдена и видела, что сила ее веры в Лили помогла ему преодолеть сомнения. Она помнила также, что говорила о нем Лили, видела, как сама сближала их, помогая лучше узнать друг друга. Конечно, Селдену была неведома ее глупая тайна и он неосознанно нанес ей эту рану, но Лили — Лили не могла не знать! В подобных случаях женская интуиция не подводит. И если Лили все знала, значит, она нарочно ограбила подругу, позабавилась своей женской властью, потому что даже в огне внезапной ревности для Герти было непостижимо, что Лили захочет стать женой Селдена. Лили, может быть, и не способна выйти замуж ради денег, но она так же не способна обойтись без них вовсе, а напряженные изыскания Селдена в области малой экономики домашнего хозяйства казались Герти настолько же трагически беспомощными, как ее собственные сердечные мытарства.
Она еще долго сидела в гостиной, пока остывали угольки, рассыпаясь серой золой, и лампа гасла под веселеньким абажуром. Перед лампой стояла фотография Лили, она так царственно смотрелась среди убогих безделушек и покосившейся мебели ее комнатки! Мог ли Селден вообразить Лили в таком интерьере? Герти остро ощущала свою бедность, ничтожность всего, что ее окружает: она рассматривала свою жизнь глазами Лили. И жестокие суждения Лили болезненно взрезали пласты памяти. Она понимала, что рядила своего идола — Лили — в одежды собственного изготовления. Разве хоть когда-нибудь Лили сочувствовала, сострадала, понимала? Вкус новизны — вот и все, что ей было нужно, она казалась каким-то бессердечным существом, ставящим опыты в лаборатории.
Часы с розовым циферблатом отбили очередной час — Герти опомнилась и вскочила. На завтра с утра пораньше у нее была назначена встреча с приходской сиделкой в Истсайде. Она потушила лампу, накрыв огонь колпаком, и пошла в спальню раздеваться. В маленьком зеркале у туалетного столика она увидела свое лицо, проступившее из сумрака, и слезы запятнали отражение. Как смеет она грезить мечтами красоты? Невзрачному лицу — невзрачная доля. Она переодевалась и тихо плакала, с привычной аккуратностью готовила одежду на завтра, когда жизнь снова пойдет своим чередом, словно и не было просветления в ежедневной рутине. Зная, что горничная не появится раньше восьми, Герти сама приготовила себе чайный поднос и поставила его у кровати. Потом заперла на ключ входную дверь, погасила свет и легла в постель. Но сон не шел, и она лежала лицом к лицу со своей ненавистью к Лили Барт. Лили приблизилась во мраке, как некое бесформенное зло, с которым надо бороться вслепую. Здравый смысл, осуждение, самоотречение и прочие резоны дня и света были отринуты в безжалостной борьбе за самосохранение. Герти хотела быть счастливой, хотела так же яростно и безоглядно, как Лили, но у нее не было власти, которой обладала Лили, чтобы достичь желанного счастья. И в этом осознанном бессилии она лежала и содрогалась от ненависти к подруге.
Звонок в дверь поднял ее на ноги. Герти чиркнула спичкой и замерла, прислушиваясь. Сердце у нее сначала заколотилось сбивчиво, потом она опомнилась, сознание прояснилось — ведь не так уж и редки поздние звонки при ее работе на поприще благотворительности. Она запахнула халат и пошла отворять. Дверь открылась, и перед Герти предстало сияющее видение Лили Барт.
Поначалу Герти испытала отвращение. Она отшатнулась, словно присутствие Лили высветило, как внезапный сполох, все убожество Герти. Потом она услышала свое имя, произнесенное сквозь слезы, мельком взглянула в лицо подруги и почувствовала, как руки Лили поймали и вцепились в нее.
— Лили, что такое?! — воскликнула она.
Лили отпустила ее и стояла, прерывисто дыша, как будто ей пришлось долго бежать перед тем.
— Я так замерзла — я не могу пойти домой. Пустишь погреться?
Сострадательный инстинкт Герти, повинуясь привычному зову, отмел все сомнения. Лили была всего лишь одной из тех, кто просит о помощи, именно поэтому на раздумья не было времени. Дисциплинированная добросердечность обуздала ее губы, которые кривила гримаса удивления, и заставила Герти проводить Лили в гостиную и усадить напротив угасающего очага.
— Сейчас подброшу щепок — он мигом опять разгорится.
Герти опустилась на колени, и языки пламени заплясали под ее проворными руками. Она видела странные блики огня сквозь невыплаканные слезы, от которых в глазах у нее расплывалось и теряло очертания искаженное гримасой бледное лицо Лили. Девушки молча глядели друг на друга. Потом Лили повторила:
— Я не могу пойти домой.
— Нет-нет, ты же пришла сюда. Ты продрогла и устала — отдохни, а я заварю тебе чаю.
Герти неосознанно взяла этот успокоительный тон: все личные чувства слились в едином чувстве долга, она по опыту знала, что прежде надо остановить кровотечение, а уж потом осматривать рану.
Лили тихонько сидела, съежившись у огня, приветливое позвякивание чашек за спиной утешало ее — так знакомые звуки убаюкивают ребенка, который лежит в тишине без сна. Но когда Герти пришла и встала рядом, Лили отстранила протянутую чашку и обвела отрешенным взглядом знакомую комнату.
— Я пришла, потому что не в состоянии оставаться одна.
Герти поставила чашку и опустилась на колени рядом с Лили.
— Лили! Наверное, что-то случилось… Ты можешь рассказать мне — что?
— Мне невыносимо лежать без сна в своей комнате до утра. Я ненавижу свою комнату в доме тети Джулии, и вот я пришла сюда…
Внезапно она содрогнулась, вырвавшись из состояния апатии, и прижалась к Герти в приступе внезапного ужаса:
— О Герти, эти фурии… знаешь, как шуршат их крылья, когда они пролетают одиноко во мраке ночи? Нет, конечно, не знаешь — тебе неведомы ужасы темноты…
Эти слова пробудили у Герти воспоминание о последних ее ужасных часах, и она что-то насмешливо пробормотала, но Лили, ослепленная собственной мукой, не замечала ничего вокруг.
— Ты позволишь мне остаться? Невыносимо только и думать, когда же настанет утро? Уже поздно? Ночь уже почти прошла? Бессонница ужасна — все вещи толпятся у постели и смотрят на тебя…
Мисс Фариш поймала ее блуждающие руки.
— Лили, посмотри на меня! Что-то случилось, что, Лили? Ты испугана — что тебя так напугало? Если можешь, скажи мне хоть слово, хоть полслова, чтобы я могла тебе помочь!
Лили замотала головой:
— Я не испугана — это не то слово. Представь себе, что однажды утром ты смотришь в зеркало и видишь нечто уродливое: во сне с тобой произошла отвратительная перемена! Мне кажется, со мной так и случилось, я не выношу собственного мысленного облика, я ненавижу уродство, ты знаешь, оно всегда отвращало меня, но я не могу тебе этого объяснить, ты не поймешь!
Она подняла голову и вперила взгляд в циферблат часов.
— Ночь такая длинная! Я знаю, что не усну до утра. Кто-то рассказывал мне, что отец мог всю ночь напролет пролежать без сна, представляя себе всякие ужасы. Он не был плохим человеком, просто ему не везло, а теперь я понимаю, как он страдал, лежа наедине с такими мыслями! Но я — плохая, ужасная девчонка, все мысли мои ужасны… и я всегда окружала себя плохими людьми. Есть ли этому оправдание? Я думала, что могу устроить собственную жизнь… была такой гордячкой… кичилась этим! Но я же с ними одного поля…
Ее сотрясали рыдания, и она согнулась под ними, словно дерево во время сухой грозы.
Герти ждала, стоя рядом с ней на коленях, терпеливо, наученная опытом, ждала, пока иссякнет, изойдя потоками речи, этот приступ горя. Сначала она вообразила себе, что Лили пережила какой-то физический шок на полных опасностей улицах по дороге от дома Керри Фишер, но теперь Герти видела, что здесь затронуты какие-то другие нервные центры, и мысленно содрогнулась от собственной догадки.
Рыдания стихли, и Лили подняла голову:
— Ты же знаешь не одну испорченную девушку. Скажи мне, смогут ли они когда-нибудь исправиться? Забыть о том, чем занимались прежде?
— Лили, не говори так, ты бредишь.
— Разве они не становятся еще хуже? Всегда! Оттуда нет возврата: твоя прежняя сущность — как червоточина, как груз, который тянет на дно! — Она встала, бессильно протянув руки. — Иди спать, дорогая! Ты тяжко трудишься, тебе рано вставать. Я покараулю тут у огня, ты только не гаси свет и не закрывай дверь. Все, что мне нужно, — это знать, что ты рядом.
Она положила руки на плечи Герти, и улыбка ее была похожа на проблеск рассвета над морем, усеянным обломками кораблекрушения.
— Я не могу тебя бросить, Лили. Хочешь, ложись со мной рядом. У тебя ледяные руки, тебе надо раздеться и согреться. — Герти спохватилась, внезапно вспомнив с огорчением: — Но как же миссис Пенистон? Уже за полночь! Что она подумает?
— Она уже спит. У меня есть свой ключ. Но это все равно — я не могу туда вернуться.
— И не нужно. Оставайся. Но ты должна мне рассказать, где была. Послушай, Лили, я помогу тебе выговориться! — Она крепко прижала к себе руки мисс Барт. — Постарайся рассказать, это прояснит твою бедную голову. Слушай, ты ведь ужинала у Керри Фишер… — Она помедлила, а потом, сделав над собой героическое усилие, прибавила: — Лоуренс Селден прямо отсюда направился к ней, чтобы тебя найти.
При этих словах на лице Лили растаяла скрывавшая муку ледяная корка, обнажив искреннее горе ребенка. Губы ее дрожали, глаза наполнились слезами.
— Он искал меня там? А я с ним разминулась! Ох, Герти, он пытался мне помочь. Он говорил мне, он давным-давно предупреждал, он предвидел, что я сама себе стану омерзительна!
И с замиранием сердца Герти увидела, как одно только имя его пробудило в иссушенной душе ее подруги родники жалости к себе и избыток горя полился наружу, слеза за слезой. Лили полулежала на боку в большом кресле Герти, где совсем недавно сидел Селден, и голова ее утопала в ямке, оставленной его затылком, она была так прекрасна в своем сиротстве, что Герти с острой болью ощутила неотвратимость собственного поражения. Ах, Лили не нужно было нарочно стараться, чтобы украсть у Герти ее мечту! Стоило лишь взглянуть на эту губительную красоту, чтобы ощутить ее природную мощь, понять, что любовь и власть принадлежат таким, как Лили, тогда как отречение и служение — удел тех, кого они покорили и ограбили. Но если неудержимая страсть Селдена казалась фатальной неизбежностью, то реакция Лили на его имя нанесла стойкости Герти последний сокрушительный удар. Люди проходят через такую неземную любовь и переживают ее — это испытание для сердец, способных открыться навстречу человеческому счастью. Смертная дева на берегу бессильна противостоять Сирене, влюбленной в свою добычу, — жертвы такой любви не возвращаются живыми со дна моря.
Лили вскочила и сжала Герти в объятиях:
— Герти, ты знаешь его, ты понимаешь его… скажи мне, что, если бы я пошла к нему и все ему рассказала, я сказала бы: «Я такая плохая, я ужасная… Мне нужно преклонение, восхищение, мне нужны деньги» — да! Деньги! Это мой порок, Герти, и о нем известно, об этом сплетничают… люди считают меня такой, — если все это я скажу ему — всю правду, начистоту: «Я пала ниже любой падшей женщины, потому что брала то, что берут они, но, в отличие от них, не расплачивалась за это!» — о, Герти, ведь ты хорошо его знаешь, ты можешь сказать, если я во всем ему признаюсь, будет ли он меня презирать? Или он поймет и пожалеет меня, избавит от отвращения к себе самой?
Герти стояла холодная и безразличная. Она знала, что час испытания пробил, и ее несчастное сердце отчаянно боролось против такой участи. Словно темная река, бегущая под вспышками молний, всплеснула волной ее надежда на счастье, озаренная вспышкой искушения. Что мешало ей сказать о нем: «Он такой же, как все мужчины»? Она ведь не была в нем так уж уверена! Но сказать так означало предать свою любовь. Она могла его видеть только в благородном свете: она должна верить в него, возвышая его силой собственной страсти.
— Да, я знаю его. И он тебе поможет, — сказала она, и в ту же минуту страсть Лили выплеснулась из груди потоками слез.
В этой крохотной квартирке была только одна кровать, и девушкам пришлось лечь в нее вместе, после того как Герти расшнуровала платье Лили и уговорила ее сделать несколько глотков теплого чая. Потушив свет, они тихо лежали в темноте, и Герти скорчилась на самом краешке узкого ложа, чтобы не соприкасаться со своей соседкой. Он давно знала, что Лили не любит девичьих ласк, и научилась сдерживать проявление своих дружеских порывов. Но этой ночью каждая клеточка ее тела содрогалась от близости Лили: было пыткой слышать ее дыхание, чувствовать, как шевелится простыня от ее движения. Когда Лили повернулась на бок, устраиваясь поудобнее, прядь ее волос коснулась щеки Герти, и та вдохнула ее запах. Лили вся была само тепло, мягкость и аромат, даже пятна от ее горьких слез были словно капли дождя для поникшей розы. Но лежа вот так, плотно прижав руки к бокам, словно неподвижное изваяние, Герти вдруг услышала, как теплое дыхание рядом стало прерывистым, Лили всхлипнула и, вытянув руку, нащупала руку подруги и стремительно прижала ее к себе.
— Обними меня, Герти, обними меня, чтобы я ни о чем не думала! — простонала она, и Герти молча подсунула под нее руку и укутала с головой, как мама укутывает разметавшееся дитя, устраивая ему гнездышко.
Угревшись в этом гнездышке, Лили задышала глубже и ровнее. Она по-прежнему не выпускала руку Герти, словно заслоняясь ею от злых снов, но пальцы ее разжались, голова поглубже спряталась в укрытие, и вскоре Герти почувствовала, что Лили спит.
Глава 15
Когда Лили проснулась, в кровати она была одна, а комнату заливал зимний свет.
Лили села, сбитая с толку необычной обстановкой, а затем память вернулась к ней, и она огляделась, дрожа. В холодном луче света, отражавшегося от стены соседнего здания, она увидела свое вечернее платье и манто, сваленные бесформенной кучей на стуле. Пышный наряд был разбросан так же неаппетитно, как остатки пиршества, и Лили подумала, что дома бдительность горничной всегда избавляла ее от таких неуместных зрелищ. Тело болело от усталости и тесноты в постели Герти. Спала она беспокойно, чувствуя недостаток пространства, и долгие попытки оставаться неподвижной утомили ее так, будто она всю ночь тряслась в поезде.
Физический дискомфорт заявил о себе первым, потом она обнаружила соответствующую психическую прострацию, тоскливый ужас, более невыносимый, чем отвращение, испытанное раньше. Мысль о том, что придется просыпаться каждое утро с этим грузом на груди, пробудила ее усталый ум к новым усилиям. Она должна найти выход из трясины, в которой увязала. Это не было раскаяние, скорее страх перед утренними мыслями, требовавшими действий. Но смертельная усталость мешала думать связно. Лили откинулась на подушки, оглядывая узкую комнату с вновь нахлынувшим отвращением. Воздух из окна, запертый между высокими зданиями, не принес свежести, пар запевал в извивах мрачных труб, и кухонные запахи проникали в дверные щели.
Дверь открылась, и вошла Герти с чашкой чая, уже одетая и в шляпе. В унылом свете ее лицо выглядело желтым и опухшим, а тусклые волосы плавно сливались с цветом кожи.
Герти застенчиво взглянула на Лили и спросила смущенно, как та себя чувствует. Лили ответила с той же скованностью и поднялась, чтобы выпить чаю.
— Должно быть, я сильно устала вчера, у меня была истерика в карете, — сказала она, когда напиток прояснил ее вялые мысли.
— Да уж, но я рада, что ты ко мне пришла, — ответила Герти.
— Но как же я доберусь домой? И тетя Джулия?
— Она знает, я позвонила ей утром, и горничная принесла тебе вещи. Почему бы тебе не поесть. Я сама пожарила яичницу.
Но Лили есть не могла, хотя чай придал силы, чтобы встать и одеться под испытующим взглядом горничной. К счастью, Герти спешила куда-то, они молча поцеловались, не проявляя и следа ночных эмоций.
Лили нашла миссис Пенистон в состоянии раздражения. Она послала за Грейс Степни и приняла дигиталис. Лили справилась с ураганом вопросов самым лучшим образом, объяснив, что у нее закружилась голова на пути домой от Керри Фишер и, боясь, что ей не хватит сил добраться до дома, она отправилась к мисс Фариш, но спокойная ночь дала ей силы, и доктор ей не нужен.
Эта история успокоила миссис Пенистон, ибо та сама сдалась бы при подобных симптомах, и она посоветовала Лили полежать — такова была тетушкина панацея от всех физических и моральных страданий.
Уединившись в своей комнате, Лили вернулась к пристальному созерцанию фактов. При свете дня они не сильно отличалась от того, какими виделись ночью. Крылатые фурии превратились в рыскающих сплетниц, приглашавших друг друга на чай. Но ее страхи, казалось, стали сильнее, лишенные туманной неопределенности, а кроме того, она должна была действовать, а не бесноваться. Впервые она заставила себя подсчитать точную сумму долга Тренору, и результатом этого ненавистного ей вычисления стало открытие, что она в целом получила от него девять тысяч долларов. Хрупкий повод, на основе которого ей предложили деньги, а она их взяла, скукожился в жару ее стыда, она ведь понимала, что там не было ни пенни, ей принадлежавшего, и что для восстановления собственного достоинства она должна выплатить всю сумму сразу. Неспособность успокоить возмущенные чувства дала ей парализующее ощущение собственной незначительности. Лили впервые осознала, что достоинство женщины может стоить больше, чем ее карета, и что поддержание морали, зависимое от долларов и центов, делает мир более грязным местом, чем она представляла раньше.
После обеда, когда назойливые глаза Грейс Степни исчезли, Лили напросилась поговорить с тетей. Обе дамы поднялись в гостиную, где миссис Пенистон присела в свое обитое черным атласом и украшенное золотистыми пуговицами кресло у столика для бисероплетения, на котором стояла бронзовая шкатулка с миниатюрным портретом Беатриче Ченчи[17] на крышке. Лили относилась к этим предметам, как заключенный — к обстановке в зале суда. Именно здесь тетя принимала редкие откровения, и усмешка розовоглазой Беатриче в тюрбане ассоциировалась у Лили с постепенным угасанием улыбки на губах миссис Пенистон. Ибо в ужасе от сцены, которую ей могли бы устроить, почтенная леди становилась совершенно непреклонной, непреклонностью, какую не смогла бы вызвать и могучая сила воли, поскольку ужас этот был выше всяких понятий о добре и зле, так что Лили редко решалась его провоцировать. Меньше всего ей хотелось этого теперь, и она тщетно металась, пытаясь избежать невыносимой ситуации.
Миссис Пенистон критически оглядела ее.
— У тебя плохой цвет лица, Лили: эта постоянная беготня начинает сказываться, — сказала она.
Мисс Барт не преминула ухватиться за эту нить.
— Я не думаю, что из-за этого, тетя Джулия, у меня много проблем, — ответила она.
— Ах, — выдавила миссис Пенистон, сжав губы с таким звуком, словно кошелек защелкнулся при виде попрошайки.
— Мне не хотелось беспокоить вас, — продолжала Лили, — но я в самом деле думаю, что мое недомогание вчера в большей степени случилось из-за тревожных мыслей.
— А я полагаю, что кухарка Керри Фишер — вполне достаточная причина. Она у нее та же, что работала у Марии Мельсон в тысяча восемьсот девяносто первом. Тогда же мы ездили в Экс, и я помню обед за два дня до отплытия и чувство, что кастрюли определенно не были вычищены до блеска.
— Я не думаю, что много съела, я не могу ни спать, ни есть. — Лили помолчала и вдруг выпалила: — Проблема в том, тетя Джулия, что у меня долги.
Лицо миссис Пенистон заметно омрачилось, но она не удивилась, вопреки ожиданиям племянницы. Тетя молчала, и Лили была вынуждена продолжить:
— Я наделала глупостей…
— Без сомнения, да еще каких! — перебила ее миссис Пенистон. — Я не понимаю, как человек с твоим доходом и без особых расходов… не говоря уже о моих прекрасных подарках…
— О, вы сама щедрость, тетя Джулия, я никогда не забуду вашей доброты. Но, возможно, вы не совсем понимаете, как много тратят нынче девушки.
— Я понимаю, что ты тратишься только на одежду и железнодорожные билеты. И я хочу, чтобы ты была одета красиво, и я оплатила счет от Селесты в октябре прошлого года.
Лили колебалась. Неумолимая тетина память была очень некстати.
— Вы были добры, насколько возможно, но, кроме этого, мне нужны были и другие вещи, так как…
— Что это за вещи? Одежда? Сколько ты потратила? Дай посмотреть счета, наверняка эта женщина тебя надувает.
— О нет, я не думаю, одежда стала настолько дорогая, что просто ужас, и нужно ведь очень много разнообразной, для загородных поездок, а также для гольфа и катания на коньках, и Айкен, и Такседо…
— Покажи счета, — повторила миссис Пенистон.
Лили снова заколебалась. Прежде всего, мадам Селеста еще не прислала счет, а потом, сумма, там обозначенная, была лишь частью того, что требовалось Лили.
— Она не прислала счет за зимние вещи, но я знаю, что он велик, и есть еще кое-что, я была беззаботна и неосторожна, даже страшно подумать, сколько я должна…
Она потянулась всей озабоченной прелестью своего личика к миссис Пенистон, тщетно надеясь, что зрелище так тронет другую представительницу ее пола, что та ответит ей встречным движением. Но миссис Пенистон с опаской отшатнулась:
— Перестань, Лили, ты достаточно взрослая, чтобы самой справляться со своими делами, и после того, как ты перепугала меня до смерти своим поведением прошлой ночью, ты могла бы, по крайней мере, выбрать лучшее время, чтобы досаждать мне подобными вопросами. — Миссис Пенистон взглянула на часы и проглотила пилюлю дигиталиса. — Если ты должна Селесте еще тысячу, она может прислать счет мне, — добавила она, чтобы закончить обсуждение любой ценой.
— Мне очень жаль, тетя Джулия, я очень не хочу беспокоить в такое время, но у меня действительно нет выбора, я должна это сказать рано или поздно. Я должна гораздо больше, чем тысяча долларов.
— Больше? Ты должна две? Да она просто ограбила тебя!
— Я же сказала вам, что это не только Селеста. Есть и другие счета — более насущные, по которым надо заплатить.
— Да что же ты покупала? Драгоценности? Ты, должно быть, совсем тронулась, — сказала миссис Пенистон нервно. — Но если ты влезла в долги, то будь добра их выплатить, откладывай каждый месяц часть того, что получаешь, пока не рассчитаешься. Посидишь здесь тихо до следующей весны, не гоняя по всей стране, и у тебя не будет никаких расходов, тогда, конечно, за четыре или пять месяцев ты со всеми расплатишься, если я заплачу портнихе сейчас.
Лили нечего было ответить. Она поняла, что нет никакой надежды извлечь даже тысячу долларов из миссис Пенистон, намекая на огромные счета Селесты, ибо миссис Пенистон сама хочет просмотреть счета портнихи и выписать чек ей, а не Лили. А ведь деньги надо достать сегодня же!
— Долги, о которых я говорю, другие — не за покупки, — начала она смущенно, но взгляд миссис Пенистон настолько испугал ее, что она едва решилась продолжать.
«Может, тетка заподозрила что-то?» — эта мысль подвигла Лили на признание:
— На самом деле я много играла в карты, в бридж, все женщины играют, девушки тоже — этого ожидают от них. Иногда выигрывала — и много, но последнее время мне не везло. И конечно, такого рода долги нельзя выплачивать частями…
Она запнулась, потому что лицо миссис Пенистон окаменело.
— Карты? Ты играла на деньги? Значит, это правда. А когда мне сказали, я не поверила. Я даже не спрашиваю, правда ли все эти ужасы, о которых мне рассказывали. Я слышала достаточно, учитывая состояние моего здоровья. И я думаю об образцах поведения, которым ты могла бы следовать, живя в этом доме! Впрочем, это все заграничное воспитание, никто не знал, где твоя мать находила друзей. И ее воскресенья были скандальны, уж это я знаю. — Неожиданно миссис Пенистон повернулась к Лили. — Ты играешь в карты в воскресенье?
Лили покраснела, вспомнив дождливые воскресенья в Белломонте или у Дорсетов.
— Вы несправедливы ко мне, тетя Джулия, мне, в сущности, нет никакой охоты играть в карты, но нельзя дать повод обозвать девушку резонеркой или зазнайкой, ей полагается делать все то же, что делают другие, и, если вы поможете мне в этот раз, я обещаю вам…