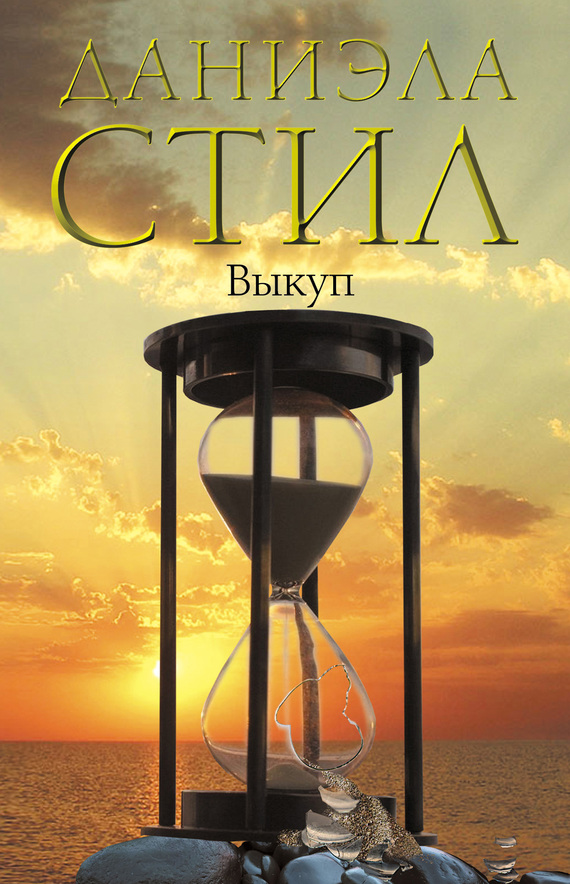Странник Резанова Наталья
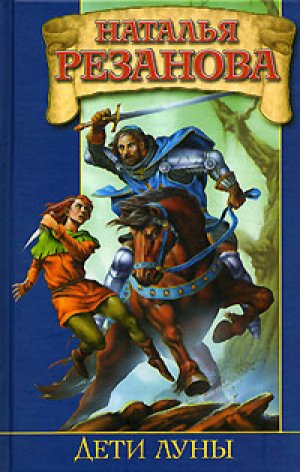
— Мясо лопаешь? — сказал он. — А сегодня ведь пятница, постный день.
— У нас в городе уже давно каждый день — пятница, — проворчала Адриана. — Ты решил что-нибудь или нет?
— Не спеши, парень, больно уж вы скорые у себя в Книзе. Сейчас убирайся отсюда, надо будет — за тобой пошлют.
Она поднялась, подхватила узелок и шагнула к выходу. На снегу стоял с факелом оруженосец Вельфа, здоровенный детина по имени Ив, и толпились еще какие-то люди, числом не менее десятка. По золотым пряжкам их плащей можно было догадаться, что это не простые воины, а их угрюмые бородатые лица показались Адриане в сумраке похожими друг на друга. За ее спиной Вельф произнес: «Это и есть тот самый гонец», и все, тяжело ступая, вошли в шатер.
Дальше была ночь, катившаяся как-то сама по себе. Адриана села у ближайшего костра, ее приняли в круг, пошли какие-то свойские разговоры, никто ее особенно не расспрашивал, все было, как в орденском лагере, и она вспомнила, что и раньше все солдаты казались ей одинаковыми.
Обсуждались начальники, назывались имена рыцарей — Джомо Медведь, Саул Лошадиная Грива, какие-то Халкис и Грегор. Иногда она вступала в разговор, порой засыпала, и все выглядело так, как будто так и надо — свой человек у своего костра, а ведь ей было хорошо известно, как все всегда жестоко обходятся с новичками, но то ли вид у нее за последнее время стал бывалый, то ли еще что. Она не задумывалась, почему люди все время ей верят, хотя она постоянно лгала или умалчивала, — не задумывалась, ей было не до того, но дело обстояло именно так. Из рассказа одного из своих собеседников Адриана поняла, что сделала-таки крюк по лесу, взяв лишнего к западу, когда нужно было идти севернее, и оставила себе это на заметку.
Ночь подходила к концу, когда долговязый Ив подошел и дернул ее за плечо.
— Вставай, — сказал он, — зовут.
Но не успела она сделать несколько шагов, как сам Вельф вышел к ним навстречу. Был он мрачен, но смотрел без злобы.
— Слушай, Странник. Отправляйся сейчас в Книз и передай Арнсбату — пусть постарается продержаться дня четыре — пять… Хотя нет, два дня у тебя уйдет на дорогу.
— Три.
— Поедешь верхом. Значит, пять дней, начиная с сегодняшнего. — Он отвернулся. — Горожане… вояки… с бабами вам воевать. Ладно, чем смогу — помогу.
— Прощай. Спасибо тебе.
— А тебе — удачи.
Адриана удивилась.
Этих слов она не ждала. Тем более — от этого человека. Но пора было уже в дорогу. Все было готово. Нашли старую кобылу — в обозе, ибо всякий истинный воин считает для себя позором ездить на кобыле. К луке седла была привязана плотно набитая сумка — что там, смотреть Адриана не стала. («Однако широкий человек этот Аскел! Или вспомнил про пятницу?») Пройдя караулы, Адриана с трудом вскарабкалась в седло — ни за что бы не призналась она в своем неумении ездить верхом, счастье еще, что у ее иноходца оказался смирный характер — нахлобучила шапку и с тем отправилась в обратный путь.
«С бабами вам воевать», — вспомнила она и усмехнулась. Вернее сказать, у нас воюют бабы. Однако на Аскела она не обиделась — ведь он обещал помочь, к тому же, как создалось у нее впечатление, против воли остальных. С непривычки, да еще при тряской рыси, у нее скоро разломило ноги, и она поняла, что временами придется спешиваться и отдыхать. Вообще-то она с удовольствием пошла бы пешком, но надо было спешить, и Адриана понукала кобылу, не зная, как ее зовут, и называя просто «Скотина».
С рассветом она выехала на просеку, о которой ей рассказали. Здесь снег был не такой глубокий и не приходилось плутать между деревьями. Говорят, от Вильмана есть прекрасная мощеная дорога, проложенная еще в языческие времена. Увы, она ведет совсем в другую сторону, а эта — прямо на юг. С такими мыслями она поспешала, ударяя пятками в лошадиные бока, согреваясь питьем из фляжки, радуясь успешно выполненному поручению и постепенно обретая полную беспечность относительно своего дальнейшего продвижения, что было явным признаком того, что удача, сопровождавшая ее от Книза, отстала где-то в пути.
Это случилось ближе к ночи, и опасность почуяла не Адриана, а лошадь. Смирная и спокойная, кобыла вдруг заплясала на месте, вскинулась так резко, что Адриана чуть не вылетела из седла, и дико заржала. И когда слева из-за деревьев выбросились на просеку серые и рыжие тени, Адриана поняла, что случилось, и тело ее свела судорога ужаса. Ибо именно этого она не ждала, об этом-то и забыла. Ведь по дороге из Книза она даже не видела волков, только слышала вой — и на этом успокоилась. Ан нет.
Ах, дура я, дура безмозглая! Зачем согласилась ехать верхом? Влезла бы на дерево — и все, а Скотину на дерево не втащишь. Но теперь рассуждать было поздно, и это сожаление проскользнуло в ее мыслях, когда она скакала во весь опор, насколько позволял снег. Звери безмолвно неслись за ней. То есть, конечно, не так уж они были и безмолвны, но за шумом собственного прерывистого дыхания Адриана не слыхала ничего. Было уже совсем темно. Кобыла проваливалась в снег по самое брюхо, Адриану все время потряхивало, и она почти вываливалась из седла. Колени, которыми она изо всех сил сжимала лошадиные бока, совсем задеревенели, однако она не ослабляла хватки, зная, что будет, если она не удержится. А проклятое зверье все не отставало. Кобыла же, наоборот, замедляла бег, сколько ни подгоняла ее неопытная наездница. Проклятье! Они будут гнать ее по бездорожью, пока обессиленная лошадь не падет, и тогда… Выхватив нож, Адриана дважды кольнула кобылу в шею. Та с громким ржанием рванулась вперед. Но и стая при виде уходящей добычи, казалось, удвоила силы и вновь настигала.
— Господи боже! Сука! — с отчаяньем заорала Адриана, уже не понимая, что кричит. В это мгновение огромный матерый волк, вырвавшись вперед, прыгнул к горлу лошади, но его встретила рука Адрианы с ножом. Полуобернувшись в седле, она ударила волка в глаз. Тот упал к ногам лошади, которая, храпя, поднялась на дыбы. Адриана удержалась каким-то чудом, вцепившись левой рукой в поводья, и с яростью полоснула ножом по лошадиному крупу. Стая, рыча, кинулась к трупу вожака. Теперь они отстали надолго, и все же Адриана продолжала гнать вперед и вперед, пока перед ее глазами не замелькали белые пятна, деревья расступились, и она увидела себя на опушке. Бросив поводья, она сползла на снег. Лезть на дерево у нее уже не было сил. Она обломала несколько веток у ближайшей ели, почти теряя сознание от усталости, положилась на чутье лошади и, свалившись на груду лапника, проспала несколько часов.
Когда она открыла глаза, два ощущения, уже привычных за последнюю неделю, пронзили ее тело — лютая боль во всех мышцах и не менее лютый голод. Стиснув зубы, она заставила себя встать на ноги и сделать несколько шагов. Повернуть голову ей было не легче, чем волку. Кобыла бродила между деревьями. Когда Адриана подошла к ней, она испуганно шарахнулась в сторону — видно, не могла забыть уколов ножом.
— Ну, ну, стой спокойно. — Адриана поймала поводья, погладила Скотину по холке. Она продолжала дрожать. Раскрыв седельную сумку, Адриана достала каравай хлеба. Глотая слюни, откусила от него и, отломив большой ломоть, поднесла к лошадиной морде.
Хлеб пришлось Скотине скормить весь — к вечеру нужно было быть в Книзе. Затем сама Адриана перекусила и согрелась остатками вина. Боль продолжала ломать ее, но странное дело — в седле вдруг утихла. Адриана подумала, что из-за ночной скачки, если только не сбилась в другую сторону, проделала большую часть пути, чем предполагала, и может подъехать засветло. И опять придется шнырять вокруг городских стен. Все равно надо ехать. Что-нибудь придумаю. Плотно сидя в седле, она высоко вскидывала голову, словно вынюхивая запах дороги в носившихся над ней ветровых потоках. На равнине одиночество ощущалось еще сильнее, чем в лесу. Там она была одна, потому что никого не было видно, здесь — одна, потому что никого не было. Только эти кривые холмы и низкое, плоское серое небо. Тоска…
Спускаясь с очередного склона, она увидела среди белого снега широкую серую полосу и радостно перекрестилась. Веда, голубушка! Это было не то место, где она переправилась в прошлый раз, но из леса она тоже вышла в другом месте. Что-то говорило ей — она едет правильно! Значит, уже скоро. Странный звук — копыта зацокали об лед. Адриана, напрягшись, привстала в седле, посмотрела вперед, и, внезапно, громкий глухой треск, толчок — и она полетела вниз и в сторону. Лед треснул, и кобыла провалилась в полынью. Адриана, при падении вывалившись из седла, ударилась об лед, левой ногой запуталась в стремени. Распластавшись, она попыталась перевернуться набок, однако нога, казалось, застряла намертво. Она елозила, лед трескался и обламывался, и погружавшаяся лошадь неотвратимо затягивала ее за собой. От ужаса заложило уши. Последним диким усилием Адриане удалось высвободить ногу, и она поползла, поползла, не оглядываясь на исчезающую в черной воде лошадиную морду.
Потом она долго лежала на животе и ела снег. Это было хуже всего — хуже разбойника, хуже волков. Такая смерть… дурацкая… без лица… Наверное, она уже не сможет двинуться с места, не подымется… И все-таки она поднялась и пошла, побрела, и сперва походка ее была заплетающаяся, а потом все более твердой. Ладони у нее закоченели, и она сунула их под мышки, чтобы согреть. Встряхивала головой. Уговаривала себя — ну, еще немного… Бедная Скотина… Как-нибудь… На холм, потом с холма, потом снова на холм, а со следующего холма, может быть, увижу городские стены…
Со следующего холма она увидела нечто такое, от чего у нее подкосились ноги, и она упала на колени в снег. Это были городские стены и багровое зарево над ними.
Штурм начался еще ночью, и на рассвете орденским войскам удалось прорваться в город сквозь пролом в стене. Но до полной сдачи было пока далеко. Бои шли на всех близлежащих улицах. Кроме того, нападающие рассеялись, ибо, очутившись в городских стенах, сразу начали врываться в дома, насилуя и грабя. Окраинные кварталы занялись почти мгновенно — там не было каменных построек. Горожане возводили баррикады. Стенобитная машина ордена, уже сыгравшая свою роль, застряла в одном из узких переулков. Проходили часы, а Книз все еще продолжал сопротивляться. Наконец Визе удалось собрать людей и пробиться почти к самой главной площади. Путь к ней преграждала огромная баррикада. Там ждали последние защитники Книза — обескровленные, изуверившиеся во всем, жаждущие только одного — умереть с оружием в руках. Но у Генриха Визе был большой опыт по части взятия городов. Он знал, как можно победить и таких людей.
Улица горбатилась криво. На изгибе ее торчала полусгоревшая часовня. И с той и с другой стороны молчали. Там, где выстроились, загородившись щитами, пехотинцы, возвышались два закованных в латы всадника — высокий, тощий Мутан, носивший поверх лат коричневую рясу, и Визе. Внезапно, так же молча, строй расступился и из проема вытолкнули шестерых. Одного из них знал весь город — это был Хайнц, другой — белесый юноша с окровавленным лицом, у обоих руки были скручены за спиной. Беременная женщина, босая и простоволосая, и цепляющиеся за ее юбку дети — девочка лет пяти и мальчик лет трех. А за ними — трое крепких, сильных, в красных колпаках и куртках из буйволовой кожи.
Мужчин убили первыми. Свалив их на землю, им поначалу выкололи глаза, потом отрубили руки, потом ноги, потом головы.
За баррикадой молчали. Только слышно было, как всхлипывает женщина. Затем двое схватили ее за руки.
— А-а, проклятые! — закричала она. Все взгляды сошлись на ней. На боковые улицы никто не смотрел. Ее запрокинутое тело выгнулось дугой. И один из палачей, взмахнув двуручным мечом, распорол ей живот. Она упала, но еще продолжала кричать, корчась на мостовой. Книзцы не выдержали. С завала прыгали люди, размахивая дубинами и топорами. Но Визе взмахнул рукой, лучники спустили тетивы, и горожане падали на бегу. Латники взяли копья наизготовку, и одновременно упали головы детей.
Захрипела труба. На вершине завала показался изможденный заросший человек.
— Сдавайся, Арнсбат, — сказал Визе. — Или с вами всеми будет то же.
Снова повисла тишина, которую оборвал жуткий, срывающийся крик:
— Не сдавайтесь! Вельф Аскел идет к вам на помощь!
Все остолбенели, потому что голос раздавался ни с той, ни с другой стороны, а словно бы с неба. Кое-кто из орденцев закрестился. Но Визе успел заметить какую-то тень в окне часовни. Он отдал приказ, несколько стрел влетели в окно, однако вопль продолжал звенеть над улицей:
— Конница Аскела нынче же будет здесь! Помощь близка! Не сдавайтесь!
И, словно по сигналу, горожане ринулись вперед, невзирая на встречный град стрел. В отчаянном порыве им удалось отбросить солдат ордена, но у городских ворот те вновь сомкнулись и пошли в наступление.
То, что творилось в Книзе в последующие часы, можно было определить одним словом — ад. Сгустились сумерки, наступила ночь, а бой все продолжался. Навстречу окованным медными листами щитам летели камни. Отовсюду слышались крики и стоны. Рубились в домах, на крышах, в переулках. Лишившийся оружия стремился зубами вцепиться в горло врага и умирал на его трупе. Так, в огне пожаров, в лихорадке ненависти, в предсмертных хрипах проходила ночь, и над всем этим падал легкий весенний снежок, ибо силам небесным не было никаких дел до людских междоусобиц. И когда уже казалось, что разгулу меча и огня не будет конца, Вельф Аскел подошел к городу.
Достоверно одно — Генрих Визе узнал об этом гораздо раньше защитников Книза. Быстро осознав изменившееся расположение сил, он бежал с частью верных людей, бросив город, Мутана и его отряд. При первом же столкновении божий брат был зарублен Вельфом. Пока аскеловская конница гонялась за отступающими орденскими войсками, добивая обессиленных и рассыпавшихся пехотинцев, горожане с последней яростью набросились на тех, кто еще оставались в Книзе, обирая и оскверняя трупы, хватая пленных, чтобы предать их мучительной казни.
И тогда в слабом свете наступающего дня на площадь из бокового переулка, шатаясь, на негнущихся ногах, с обломком меча в руке вышла Адриана. Слепая злоба и ненависть, неожиданная изворотливость, дававшие ей силы проникнуть в город и принять участие в бою, медленно оставляли ее. После того, что она увидела, стоя в окне часовни, ее охватило единственное желание — бить, убивать, иначе она задохнулась бы. Всю ночь она сражалась, и в каждом противнике видела одного — коренастого, кривоногого человека, от которого когда-то стояла на расстоянии вытянутой руки с ножом. Ее одежда и руки были забрызганы кровью, шапку она давно потеряла в свалке, но на теле ее не было ни царапины. Невредимой выбралась Адриана из кровавой каши. Опять и опять невредимой.
Теперь она не знала ни что ей делать, ни куда идти, ибо выполнила свое предназначение. Она брела без цели, как сомнамбула, не в состоянии ни радоваться победе, ни оплакивать погибших, перешагивая через трупы. И тут из грязи у ее ног взглянули на нее знакомые светлые глаза. Она нагнулась, сразу обретя прежнюю ясность мыслей.
Арнсбат умирал — это Адриана поняла тоже сразу. Горло его было пробито стрелой, и на губах пузырилась кровавая пена. Говорить он не мог, но взгляд его был осмыслен, и он узнал ее.
— Вот… — сказала она. — Я сделала, что смогла. Я их привела. Город свободен, слышишь?
Он все смотрел на нее, и во взгляде его Адриане почудилось нечто странное. Может быть, ему просто больно?
— Сейчас я тебе помогу, — заторопилась Адриана. Она знала, что стрелу выдергивать нельзя — иначе он сразу умрет, а так оставлять… Ей даже в голову не приходило позвать священника, да и где бы она его нашла сейчас?
— Унести тебя отсюда?
«Да», — сказал его взгляд.
Отшвырнув обрубок меча, который она все еще продолжала сжимать, Адриана подхватила умирающего под мышки — взвалить его на спину у нее не было сил — и поволокла. Куда — домой или в ратушу? Она оглянулась. В ратушу было ближе. Пятясь, она протащила Арнсбата по площади, по двору, — вокруг никого не было видно — толчком плеча приоткрыла тяжелую дверь, которая, к счастью, оказалась не заперта, протиснула тело Арнсбата, оттягивающее ей руки. Уложив бургомистра на пол караульной — дальше Адриана не смогла идти, — она встала рядом на колени. Он все еще был жив и в сознании. Его лицо было мокро — от слез, или пота, или просто талого снега. И он так же странно продолжал смотреть на нее, точно видел что-то скрытое от взора Адрианы.
— Сейчас я тебя перевяжу, — она обращалась к нему на «ты», так же, как к Визе и Аскелу. — Не бойся… ничего не бойся, — говорила она, мучительно размышляя, как же действительно ему помочь.
Глядя ей в лицо, Арнсбат попытался приподнять правую руку — один бог знает, чего это ему стоило — не то хотел благословить Адриану, не то просто на что-то показывал — и тут же уронил, хрипя. Кровь хлынула у него изо рта. Адриана дотронулась до его руки. Потом с усилием вырвала стрелу — теперь это уже не имело значения. Спокойно, одним движением ладони закрыла Николасу Арнсбату глаза, сложила руки на груди и, завершая обряд, сняла с себя цепочку с мощами — ту самую оберегу, которую Арнсбат отдал ей и которая охраняла ее в пути, а сам хозяин… — и надела на шею мертвеца.
Теперь она сделала все, что надо. Адриана поднялась на ноги. Страшно хотелось пить. Уже сутки у нее во рту не было ни капли воды, только мерзкий привкус крови. Она знала, что под лестницей караулки стояла бочка с водой, может быть, там осталось… Адриана заковыляла к лестнице. Бочка была там, и полна почти до половины, и вода не затхлая. Девушка зачерпнула обеими руками, и, пока заглатывала воду, перед ее внутренним зрением промелькнул какой-то чужой образ. Она вновь нагнулась над краем бочки, протянув ладонь, и на этот раз увидела свое отражение. Посмотрела и ударила по нему кулаком. Видение распалось. Черт, померещилось… Или нет… Она опять заглянула в воду, когда рябь утихла, потом отбросила с затылка волосы на лицо, разгребла их руками. Так и есть! Под лестницей было темно, но, несмотря на это, среди рыжих волос отчетливо выделялись широкие белые пряди.
Ухватившись за скобу бочки, Адриана съехала на пол и села, прислонившись к лестнице. Где-то в глубине сознания назойливо вертелись слова какого-то римского историка: «Голову одного человека, у которого были рыжие волосы с проседью, он довольно остроумно назвал «мед, смешанный со снегом»…» Седая прядь свисала прямо на глаза, Адриана заложила ее за ухо. Да…
Цепляясь за стену, она встала. Во дворе ясно слышались громкие голоса, с грохотом хлопали двери, звенела амуниция. Вот оно что… в городе конница, караульню занимают… Больше ей тут нечего делать. Адриана медленно — торопиться было уже ни к чему — пошла к выходу. Мимо, не обращая на нее внимания, с топотом прошли какие-то люди, переговариваясь на ходу. Хотя их грубые голоса отдавались во всем здании, Адриана совершенно не вслушивалась в смысл разговора. Она устала.
Девушка спустилась во двор. Конюхи переругивались, привязывая лошадей. Снег перестал, небо было ясным. Не глядя по сторонам, Адриана продолжала брести своим путем, и вдруг услышала:
— Странник!
Она обернулась, хмуро поискала глазами, кто бы мог это крикнуть. На высоком крыльце ратуши стоял Вельф Аскел, без шлема, в плаще поверх лат.
Она подошла поближе, пробормотала: «Будь здоров».
— Арнсбат убит, — сказал Вельф.
— Я знаю.
— Хочешь теперь служить мне?
— Хочу.
— Тогда слушай. Нам придется задержаться здесь еще на некоторое время — неизвестно, что еще придумает орден. Я давно жду известий от графа Лонгина, но он, видно, заплутал между лесом и Старыми болотами. Разыщешь его. Объяснишь, в чем дело, и велишь, моим именем, поспешить на запад, чтобы до того, как вскроется Гай, мы могли встретиться у монастыря Всех Святых. Если что задержит его — вернешься и принесешь ответ. На гонца ты не похож, оно и к лучшему во время войны. Но чтоб поверили тебе, дам — не талисман свой, нет у меня талисмана, кроме меча, — печать, которую даю моим доверенным. Держи.
Он протянул ей свинцовый кружок на коротком прочном шнурке. Адриана зажала печать в кулаке, не разглядывая. Она было немногим больше серебряного динария.
— Тогда я пойду, — сказал Странник, — зачем терять время?
АВЕНТЮРА ВТОРАЯ. ПЕЧАТЬ И КОЛЬЦО
(август — сентябрь 1107 г.)
Путь твой грядущий — скитанье…
А. Блок. Роза и крест
Склонявшееся к закату лето было жарким и влажным. Все обещало изобильный год еще с апреля, и обещания эти сбывались.
Над Великим лесом тихо шумел блаженный покой. Воздух застыл, и не пели птицы. Из темной чащи неслышно вышел человек, сел на поваленное дерево, снял с плеча дорожную котомку и взглянул на небо. Человека звали Странник.
Три с лишним года прошло со времени осады Книза, и три с лишним года Адриана находилась на службе у Вельфа Аскела. Впрочем, говорить «Адриана» было бессмысленно. Адриана осталась там, в разоренном городе, полководцу служил Странник, наемный лазутчик, шпион и гонец по мере надобности. Между ним и Адрианой не было ничего общего. Настолько ничего, что за все годы никто не догадался, что в шкуре Странника обретается девушка. И то: Адриана была никчемным, жалким и неприспособленным к жизни существом, Странник — бесконечно ловким и умелым. Адриана была слаба, Странник — силен. Он был неутомим в ходьбе, отличный наездник, плавал как рыба. Правда, при железном здоровье с ним порой случалась лихорадка — следствие того, что два года назад он восемь дней безвылазно блуждал по Виндетскому болоту, следя за Рупертом Ронкерном, тайно сговаривавшимся с орденом. Но от лихорадки не умирают, да и редко это случалось, так что на здоровье Странник не жаловался. Впрочем, он вообще ни на что не жаловался. Давно исчезли прежние лохмотья. Ношеная, ровно залатанная куртка с капюшоном из лауданской шерсти, из той же материи штаны, холщовая рубаха, мягкие короткие сапоги — весьма поношенные, зато не трут ногу. Неизвестно, слуга ли из хорошего дома, ремесленник или паломник, но каждый при первом взгляде подумал бы: вот человек бедный, но честный, — а второго взгляда Странник обычно избегал, что никак не свидетельствовало о недостатке храбрости. Правда, Адриана тоже не лишена была смелости — тому свидетель покойный Хайнц, как говорил он покойному Арнсбату. Но Адриана воевала неумело и добросовестно, как делала бы любое порученное ей дело, а Странник был хитер и изобретателен. И крайне осторожен. Ибо основным его занятием была разведка, а он придерживался того мнения, что лучший разведчик не тот, который ушел от погони, а тот, за которым погоню не посылали.
Затем, у Адрианы было прошлое — родители, детство, дом возле площади. Странник был всего этого лишен — он жил только насущным днем, а будущее существовало настолько, насколько имело реальную опору в настоящем, следовательно, настоящее и будущее были едины. Зато Странник был одарен тем, чего начисто была лишена болезненно застенчивая и косноязычная Адриана, — умением привлекать к себе людей. Как это у него получалось — бог весть. Разумеется, сюда входил и талант в нужный момент попадаться на глаза, и то, что Странник мог заставить считать себя необычайно полезным и незаменимым. Но не это было главное. Он вызывал доверие. Временами он бывал красноречив в каком-то странном стиле — не воинском (Вельф), не купеческом (Арнсбат), и не схоластическом, и не простонародно-балагурском, но он заставлял себя слушать — и верить. И не только храбрость была причиной тому, что он из простых слуг стал одним из ближайших доверенных лиц своего хозяина, так что обращался к нему не «господин», а просто по имени. Конечно, он оставался слугой, подчиненным, но и другом в то же время. Казалось, вместо талисмана Арнсбата он получил другой, невидимый, которому трудно подобрать имя. Обаяние? Удачливость? Хитрость?
И тем не менее Адриана и Странник были одним и тем же человеком. И забывать об этом не стоило. Менять теперешний образ жизни ей очень не хотелось. Разумеется, мог возникнуть вопрос — как Адриана, столь дорожившая в нищете своей свободой, могла променять ее на рабство? Странник же говорил себе: «Если уж мир устроен таким образом, что без рабства не обойтись, я выбираю тот вид рабства, который обеспечивал бы мне наибольшую свободу». Кроме того, Странник служил Аскелу по внутреннему побуждению. Ведь Аскел служил королю. А королевство должно быть единым. Король прижмет хвост ордену, и прекратятся свары между баронами и прочая чертовня. Так думают лучшие люди государства, и Вельф в том числе. Но это дело далекого будущего, и будь Странник только Странником, на этом можно было бы и успокоиться. Однако Странник был еще и Адрианой. Когда Адриана поступила на службу к Вельфу, ей было пятнадцать лет. Теперь дело шло к девятнадцати, и в дальнейшем ее внешность не могла бы не вызвать подозрений, и было совершенно ясно, что скоро придется распроститься со Странником. Как это сделать, она еще не знала, но отчетливо представляла, что сделать это придется, и — без лишнего шума. Просто исчезнуть. Понятно, что в такой ситуации дружба Вельфа могла ей только мешать. Вообще она старалась как можно меньше думать на эту тему. Вельфа она уважала, но в ее отношении к нему был покровительственный оттенок, ибо за его полководческими талантами, быстротой ума, жестокостью она угадывала почти младенческое простодушие, абсолютно чуждое к общем-то сухой и расчетливой натуре Странника (будь она иной, Странник не прожил бы и полугода), и не раз использовала это простодушие в своих целях. Да не сочтут Странника всего лишь хитрым рабом, обманывающим своего господина! Он не мог поступить иначе. Да и корыстна была только Адриана, которая всегда знала, что ей придется уйти, и не могла не позаботиться о будущем. Странник же был абсолютным бессребреником. Ему вообще ничего не было нужно: ни денег, ни прочих милостей. Аскел же в это время начинал играть все большую роль при короле, а вместе с ним неминуемо должен был выдвинуться и Странник, а сделать это можно было только на воинской службе, чего Странник и стремился по возможности избегать. Тут объединялись и Адриана, и Странник: Адриана — по вполне понятным причинам, Странник, как разведчик, стремился остаться в стороне, огласка была ему не нужна. Для того он и отказался от службы гонца, и вообще делал все, чтобы его знало как можно меньшее число людей. До сих пор удавалось убеждать Вельфа, что в качестве разведчика Странник будет ему наиболее полезен, но что будет дальше — неизвестно. И все же Адриана постоянно отгоняла мысль об уходе, точнее, все время повторяя про себя: «Не всегда же это будет продолжаться», всячески оттягивала этот момент. Но она всегда верила в возможность выхода, и, хотя не было человека, менее склонного к иллюзиям, ее излюбленным выражением было: «Ничего, как-нибудь выкрутимся». А пока что надо делать свое дело.
Она отдыхала, глядя на небо, и в душе ее царил мир. Но, как ни приятно было это состояние, солнце уже давно перевалило на вторую половину дня, и лишь сознание того, что оставалось меньше одного перехода, давало ей право на полчаса безделья. Она вовсе не устала. Просто ей было приятно смотреть на прозрачный колышущийся воздух, ощутить телом едва уловимый ветерок. И ни единой души…
Синие стрекозы, летевшие стайкой, почти ткнулись в ее лицо, когда она подымалась. Даже лесная тень не могла полностью победить духоту. Она без сожаления покинула прогалину. Пора было уже думать о другом.
Она легко перебиралась через поваленные стволы, уклоняясь от торчащих сухих сучьев. На палых листьях не оставалось следов. Уши ее внимательно ловили каждый звук. Она почти не отвлекалась на выискивание внешних примет, так как места были ей хорошо знакомы, могла бы не слишком таиться — шла к людям, знавшим ее в лицо — но все же предпочла бы, чтоб ее здесь никто не видел. В особенности посторонние. Да и своим лучше не знать, с какой стороны она пришла. Люди в этих краях бывают крайне редко, однако лучше соблюсти осторожность.
Никто не появился. Только заяц пробежал между деревьями, да дятлы в сосняке продолжали свою музыку.
Уже когда вечерняя роса пала на траву, Адриана приостановилась. Она учуяла еле уловимый запах дыма. К нему примешивались еще какие-то запахи, свойственные человеческому жилью. А это означало, что Странник добрался до ближайшей цели своего путешествия — дома Нигрина.
Нигрин, данник Ронкерна, вольный хлебопашец, самовольно захватил участок земли в лесу. После того он, разумеется, мог ждать от своего сеньора только худшего, что и побудило его перейти на сторону Аскела. Это произошло до поступления Странника на службу, и потому жилище Нигрина он отыскал не сам, на него указал его господин.
Странник не спешил. Он обождал, хоронясь за деревьями, пока не вернулись из леса трое сыновей Нигрина — белобрысые, с вымазанными сажей лицами, — двое взрослых парней и один подросток. Они прошли, не заметив Странника. Вышел на крыльцо сам Нигрин, сутулый, жилистый, с длинными руками и с клочковатой седой бородой, вислоусый. Он нес под мышкой точильный брус. Поставил его под навес, разогнулся. И только тут Странник, не таясь, вышел из своего укрытия.
— А вот и Странничек к нам пожаловал, — сказал Нигрин тем мнимошутливым тоном, который был лазутчику хорошо известен.
— Здравствуй, Нигрин, Бог тебе в помощь, — ответил Странник, перепрыгнув через жерди ограды.
— Здравствуй и ты. Что ж не спросил, нет ли в доме чужих?
— И без того вижу.
— Следил, что ли? Нехорошо.
— Без того пропал бы.
— Ну бог с тобой. Проходи, ужинать будем.
Они вошли в дом. Сидевшие там парни — на лавке двое и на полу один — склонили головы. Странник также поздоровался, однако капюшона не сдвинул. Он не любил, когда глазели на его седые лохмы. Это была весьма опасная примета — и без того рыжие легко запоминаются, а уж если они наполовину седые… И все же в самой глубине души Странник гордился своей сединой, считая ее вроде бы знаком своей избранности — в то же время не забывал об осторожности.
Он сел за стол, оглянулся. Все здесь было ему знакомо: низкий потолок, узкое окошко, земляной пол, запах дыма — сколько он таких домов перевидал.
— Ну, как хозяйство? Новый участок, как погляжу, выжигаете?
— Верно. Ничего, не жалуемся… только кто знает, что будет?
Разговаривал со Странником один Нигрин. Своих детей он приучил раскрывать рот только по приказу. В голосе его насмешливость мешалась с почтительностью. Таким же было и его отношение к Страннику: молокосос, а надо же, как выдвинулся!
Нигрин перекрестился:
— Благословясь, приступим. Девка, подавай!
Из угла показалась его дочь. Нигрин был вдов, и она вела дом. Странник понятия не имел, как ее зовут, хотя отлично помнил имена сыновей Нигрина: Клеменс, Мартин и Матис. Девушка поставила на стол кувшин с молоком, миску каши, вынесла каравай хлеба и кусок окорока — Нигрин был зажиточен — и села в стороне, ожидая, пока поедят мужчины.
Отужинали, как водится, не спеша, в молчании. Потом Нигрин собрал крошки с бороды.
— Теперь говори — с делом пришел или просто слушать?
— Сначала послушаю, а там видно будет.
— Думаешь, засел я в лесу и ничего не знаю? И про войну не знаю?
— Вот и славно. Только что ты про нее знаешь?
— Посылал я Мартина в Гернат на ярмарку… ну, и посмотреть чего… пусть сам расскажет. Да говори ты, не бойся! — добавил он, поскольку парень не спешил начинать.
— Мед я продавал… возле замка. На святого Никодима было дело. Ну и приезжал туда этот… барон Лотар — так?
— Королевский кравчий?
— Он.
— А Гернат с давних пор за разделение. Чуешь, Нигрин, чем дело пахнет?
— Воняет, брат.
— Это все?
— Нет. Забыл сказать — еще раньше в замок приезжал комтур Визе.
— Тоже поганец, — заметил Нигрин. — Слыхал, Странник, про такого?
— Было дело, — углы его рта растянулись. «С чего это он улыбается?» — подумал Нигрин. — И он, значит, встречался с Лотаром?
— Вроде так. Один писарь кричал в корчме, будто Визе какую-то хартию повез Великому Магистру. Хотел я еще его поспрошать, да так больше и не встретил.
— Ну, царствие ему небесное, остолопу… Хотя не больно-то они берегутся. Думают, раз король в Лауде… — Он немного помолчал. — Выходит, орден собирается в открытую пойти против короля. Теперь что?
— С Мартином все. Клеменс.
— Ходил на дальнюю вырубку. Четыре дня тому. Видел вооруженных. Сотен пять пеших и две — конных. Долго шли.
— По какой дороге?
— На Вильман. С севера.
— Знак какой на щитах?
— Кабанья голова и крест.
— Гернатовцы. Все к тому идет. У Лотара лен в горах. Там и замок его. Соединяются. Если перевал закроют, король окажется в ловушке, а коли еще подоспеет орден… Вот что, Нигрин, — вести твои важные. Но покоя тебе не будет. Завтра же снарядишь одного из парней к Аскелу.
— А сам-то?
— Моя дорога — в другую сторону.
— А работать кто будет?
— Ничего, не надорветесь. Пошли хоть Матиса. Двое твоих сыновей уже потрудились, пусть и третий не в стороне остается. А за эти вести Аскел его наградит, как бог свят.
— Наградит? Хорошо, если живым отпустит. Только кто ему поверит, щенку, молокососу?
— Поверят. Найдется у тебя в доме кусок холстины ладони в три?
— Такой-то? Эй, девка, слышала, чего гость требует?
Девушка соскочила с лавки, забегала, наконец принесла половину старого платка, поклонившись, подала Страннику. Тот в ответ взглянул ей в лицо, увидел широко раскрытые глаза. Она никогда не покидала леса, каждый захожий был для нее диковинкой. Нигрин так мало считался с ней, что не выгонял, когда решал свои дела.
«Она не старше, чем я в Книзе… или нет, чуть постарше? Что ее ждет в доме, где ее заставляют ежечасно гнуть спину и не ставят в грош? Бедняга. Ведь она же ничего не видела. Не мудрено, что на чужака она смотрит, как на апостола. Но если б у нее хватило смелости, она могла бы бросить все и уйти. Каждый решает сам за себя, а не ждет спасения. Дура». И Странник перестал ее жалеть.
— А теперь выйдите-ка все, погуляйте. Все, я сказал.
Потом он выглянул в окошко — не поглядывают ли, черт их тут знает, этих лесовиков, и на всякий случай заткнул его валявшейся на лавке курткой. Вытащил из-за голенища свое оружие — кинжал-панцербрехер, изделие испанских мастеров, взятый в Вильмане у Менассе. Снял сапог и достал из тайника в подошве небольшой круглый предмет. Печать Странник всегда прятал не только от врагов, что само собой разумелось, но и от своих — зачем лишний раз вводить людей в искушение? Он любовно провел ладонью по поверхности печати. На ней был изображен щит, поддерживаемый лежащим зверем. Предполагалось, что это леопард, хотя Страннику он больше напоминал волка. Подойдя к печи, Странник ткнул печатью в сажу, а затем приложил ее к развернутой холстине. На ткани появился непонятный зверь, только повернутый в другую сторону. Спрятав печать, кинжал и обувшись, он вытащил из пояса воткнутую в него иголку с ниткой, сложил тряпицу пополам и зашил по краям. Распахнув дверь, крикнул:
— Эй! Не уснули там еще?
Нигрин и прочие вернулись.
— На, возьми себе вместо портянки, — сказал Странник, протягивая тряпку Матису, — доберешься до Аскела — распорешь и покажешь. И не раньше. Не то худо тебе будет.
Ответил Нигрин:
— Ладно, послушаю тебя, Странник, в последний раз. Пошлю Матиса, все равно пользы от него никакой, так пусть хоть королю послужит. Вы! Ложитесь спать! Мы тут со Странником на крыльце посидим, покалякаем.
Подходила пугающая лесная ночь, полная тайной жизнью, не бывшей, однако, тайной ни для молодого, ни для старого, сидевших на приступке.
— Скажи-ка мне, Странник, ради чего ты все стараешься? Ради короля? Он, поди, и не слыхал про тебя.
— Верно. Не слыхал.
— Каждый защищает свое, кровное. Крестьянин — землю. Рыцарь — феод. Король — королевство. Ну, а ты-то бродяга, за что держишься? За Аскела?
— И за него тоже. И за тебя, и за себя, и за всех людей.
— Что-то не похож ты на святого.
— Я и не святой, хотя и странник. А хочу я, чтоб война наконец кончилась и чтоб жизнь стала полегче.
— Чья жизнь? Твоя? Моя?
— Моя жизнь и так легкая. Да и твоя не ахти как тяжела. Только разве большинство мужиков так живет? Им до тебя всю жизнь тянуться.
— Ишь ты, радетель!
— Все-то ты готов меня в юродивые записать. А я хорошо все так рассчитал. Кто может прекратить войну? Король. Но только если он будет сильнее всех в стране. А для этого ему нужен Аскел. А Аскелу — я. А мне — ты. Ну и так далее.
— Вроде как королевство стоит на Нигрине. А я-то думал — только мой надел. Нигрин — и король. — Он расхохотался. — Скажи, не смешно тебе, что мы с тобой, гольтепа, сидим здесь и рассуждаем о таких вещах?
— Нет. Это мне не смешно.
— Славный ты парень, Странник. Но не пожелал бы я себе такого сына.
— Это правильно. Я — Странник, меня к земле не привяжешь.
Они примолкли. Крик совы пролетел над деревьями.
— На рассвете уйдешь?
— Как водится.
Нигрин искоса взглянул на собеседника.
— А я ведь понял, что ты задумал, Странник. Иначе зачем тебе Матиса с места срывать?
— Ну, всего-то ты не понял. А если о чем догадался, помалкивай.
— Голову бы пожалел. Хоть дурная, а своя.
— Пустой разговор.
Нигрин не нашел новых доводов.
— Ночевать будешь опять на дворе?
— Опять. Сам знаешь, не люблю я под крышей.
— Все-таки ты блаженный. А может, наоборот, — снаружи все быстрее услышишь. И удрать легче. Нет, не разберешь, кто ты есть. Ну и не мое дело. Погоди, я тебе сейчас пожрать на дорогу вынесу. Так, говоришь, Аскел Матиса наградит? И флягу твою давай. Меду нацежу. Ладно, ладно, не спорь, кто знает, когда ты еще сюда заявишься!
Утренний туман рассеивался, когда Странник снова шел по лесу. Тогда же, ночью, Нигрин сказал ему: «Легкой дороги», а утром они не виделись. Пока не настала дневная жара, можно было, поспешая, проделать добрую часть пути.
А может, Нигрин был прав, и не стоит так рисковать? Ведь и Цицерон писал о том, что любовь к ближнему должна быть умеренной и не следует любить никого больше себя. У старика порой встречаются дельные мысли.
С другой стороны, если бы это пришло ей на ум тогда, во время осады, она осталась бы в городе, закисла там и гораздо вернее загубила свою жизнь. Так что и от любви к ближнему бывает порой польза. А за эти годы она выучилась жить среди людей, как Нигрин живет в лесу. Опасности можно было ждать с любой стороны, и человеческое уродство, духовное и телесное, пугало не больше, чем какая-нибудь коряга.
Ну, в одном-то он прав безусловно. Конечно, королевство и мир держатся на людях, которые пашут землю, строят дома, ремесленничают и рожают детей, а Странник — перекати-поле. На то он и Странник. Нет, без Странника мир бы не рухнул. Но, может, от его присутствия в мире что-нибудь переменится.
Ну-ну! Настоящая война еще не начиналась, а Странник уже думает, как ее закончить.
Нигрин. И эта дура с заискивающим взглядом. Ничего, живите. И я буду жить. И все будем делать свое дело.
А ноги уже сами несут тебя вперед. И славно ощущать свое тело, сильное и ловкое, отталкивающееся от земли без всякого усилия, — и всадник не всякий догонит Странника. Это и есть жизнь — там, где над головой сплелись ветви, а под ногами — корни. Лето, и не надо никого убивать. Я ягод поем, воды из ручья напьюсь. Но — кто знает, была бы эта жизнь сладка, если бы так продолжалось всегда? У каждой дороги должен быть конец, чтобы можно было ступить на новую дорогу. А потому — вперед, вперед, на закат, и пусть стоят долгие дни над Великим лесом, и маленькая луна катается над лиственным сводом шатром — Странник убыстряет шаг.
К полудню он добрался до реки. Перешел вброд, в омуте окунулся, не раздеваясь, — безопаснее, к тому же в мокрой одежде легче идти по жаре. Гай в этих местах петляет, и большая вода встретится еще не скоро. Луны сегодня, похоже, не будет, и, пока светло, нужно пройти как можно больше. Дважды попадались овраги — следы давнишних вырубок, где на дне мелькали гадючьи спины — лягушки летом передохли. Теперь вырубки уже заросли. Что здесь было раньше? Давно, давно, и некогда думать. Не раз и не два уже Страннику приходилось видеть покрытых мхом, гниющих на земле языческих идолов, вырубленных из стволов дуба или вяза. А самих язычников сотни лет как нет в Великом лесу. Вырубили орденские войска или иные. Разве только еще, может быть, в горах, кое-где… правда, говорят, они приносили в жертву своим богам живых людей… или врут? Духи леса и духи воды, говорили они, мы не причиним вам зла, и вы не причиняйте нам зла. Хорошая молитва, прости меня, Господи, и охрани меня святой Юлиан-странноприимец! Хорошо, что Странник пока один и может еще думать о постороннем… а глаза всматриваются, ноздри втягивают воздух, и — без остановки, пока мрак не навалится на лес.
Да, конечно, лучше леса нет ничего. Это он только для чужого страшен. И для слабого. А чужой и есть слабый, потому что нет у него знания. Да и знание — еще не все. Радость должна быть. Такая радость, как когда перейдешь горный поток по перекинутой тростинке, когда поймаешь форель руками, просто оттого, что этот дуб так могуч, что хоть укладывайся на любой ветке, что сухие листья шуршат под ногами, а по ним рассеяны пятна света, как на оленьей шкуре, под деревьями тень, а на полянах солнце бьет в глаза и до заката еще далеко. Радость для тела и души. И от нее никому нет вреда. Потому что там — радость всегда за чей-то счет. Да и здесь, стоит повстречать другого… Здесь много всякого зверья, но хуже человека нет никого. Это я знаю точно, потому что я — тоже человек. И да наслажусь я жизнью до последнего глотка, пока лес этот только мой!
…И пели рога над лесом, разгоняя утренний туман и мешаясь с лаем собак. Храпели тонконогие господские кони, пестрые куртки доезжачих мелькали между стволами. Покой уходил из чащи, отступал перед людьми.
На поляне, где дымились залитые костры, в глубине виднелись два шелковых шатра. Рядом с одним из них было вкопано копье с укрепленным штандартом с изображением солнца. Ветер был слаб, и штандарт свисал, изредка шелестя золотыми кистями. Под ним, широко расставив короткие ноги, стоял воин в легком полудоспехе. Щурясь, он смотрел туда, где слышались лай и голоса. Там на сером коне сидел невысокий всадник в коричневом плаще. Одежда его была темной и простой. Под охотничьей шляпой с пером поддета бархатная скуфейка, у пояса длинный меч. Левая рука его, затянутая в перчатку, сжимала поводья, правую он поднес к закушенным губам. Вторая перчатка была заткнута за пояс, и золотой перстень на безымянном пальце — знак комтурского достоинства и единственное украшение всадника — то вспыхивал, то тускнел, попадая в тень.
На противоположном конце поляны, посреди стаи гончих, другой всадник, склонившись в седле, хохоча, протягивал руку к вскинутым собачьим мордам. По сравнению с первым он выглядел как петух рядом с селезнем. Он был гораздо выше ростом и так широк в плечах, что голова казалась слишком маленькой. На его плаще темно-зеленого цвета были нашиты золотые бляшки, и золотое ожерелье охватывало крепкую шею. Разноцветные камни сверкали на сбруе, на ножнах и рукояти меча, и этот честный блеск намного превосходил жидковатый блеск его глаз. У него был широкий, но низковатый лоб, крупный нос и короткая темно-русая борода. Лет охотнику было около тридцати пяти. Выпрямившись, он подбоченился и галопом направился к первому.
— Чего они медлят, не понимаю! — крикнул он, подъезжая. — Неужто опять передрались? Или мало я их учил?
— Решил ты нынче или нет? — спросил Генрих Визе — это был он.
— На охоте я думаю об охоте. Может быть, в ордене вы привыкли иначе, вы ведь ни рыба ни мясо, сверху рыцари, снизу монахи, или наоборот?
— Поосторожней с достоинством ордена, граф. К тому же мы союзники.
— Это у вас называется союзом — когда я даю, а орден только получает? Как стоял, так и буду стоять на своем — Вильман переходит в мое владение. Вильман и Гернат вместе стоят иного королевства, клянусь животворящим крестом!
— Ты забываешь, что Вильман не принадлежит еще не только тебе, но и ордену. Это владение короны.
— То-то и оно! Сиди там, как и прежде, герцог Моран, я бы сам пошел на него. Но вот уже три года, как король опередил меня, потому-то я и обратился к вам!
— Мне предстоит еще встреча с приором Восточных земель…
— К чертям ваши Восточные земли! Чего я там не видел? Леса да болота. А в Вильмане сидят жирные горожане и ждут, чтобы их пощипали… Подожди! Святой Губерт, снова рога! Эй, что там?
Подъехавший старший ловчий пояснил, что следы оленей были обнаружены еще с рассвета, а теперь извещают, что зверь обложен.
Гернат, гикнув, дал шпоры коню. Визе лишь слегка ударил своего перчаткой между ушей, и тот рванулся вперед. Со всех сторон подъезжали другие охотники — бароны, вассалы Герната и орденские рыцари, — всего полтора десятка сеньоров, но так как большинство имело собственную свиту, казалось, целое войско с шумом и треском ломит через лес. А впереди, захлебываясь лаем, неслись гончие, знаменитые гернатовские гончие, за каждую из которых ему предлагали шестерых рабов.
Вскоре всадники рассеялись между деревьями, однако Визе все время видел высокий султан на шляпе Герната и следовал за ним, зная, что такой опытный охотник, как Гернат, не собьется со следа. Если бы он мог, подобно Гернату, на охоте думать лишь об охоте… А ведь в молодости и сам Визе был страстным охотником, и тело его хранит следы медвежьих когтей и клыков вепря… Тогда он, не рассуждая, шел навстречу опасности. Теперь у него на пальце комтурское кольцо, а под кафтаном кольчуга. И, в отличие от Великого Магистра, он еще не стар. За все надо платить. За все.
Но ветер скачки развеял эти мысли, и дальше он несся, как другие, со стиснутыми зубами и пересохшим ртом. В нескольких саженях от него скакали телохранители — он сам их подбирал — молодые рыцари, недавно вступившие в орден и свято веровавшие в него и в отцов-военачальников.
Они вылетели на заросшую цветами поляну, посреди которой поднималась раздвоенная сосна. Гернат придержал поводья, махнул правой рукой, сжимавшей дротик.
— Чертова обедня! Эти гончие слишком быстро бегут, я уже не слышу лая. И загонщики точно заснули. Или этот проклятый олень бросился в реку?
— Река должна быть в другой стороне.
— А, один черт. Вот что я предлагаю, комтур. Давай направимся в разные стороны. Кто первым настигнет оленя, тому и честь. И прикажи своим не стрелять, стрелы — не для нас, точный удар — достоинство рыцаря!
— Пусть так.
Затрещали под копытами сухие ветки, валявшиеся на земле. Всадники ехали неторопливой рысцой, глядя вперед. Отъехав на значительное расстояние, Визе снял рог, висевший у пояса на серебряной цепочке, и затрубил. Мгновение спустя издалека отозвалось еще несколько рогов. Звук был слышен слабо, но явственно.
— Туда! — указал Визе в направлении звука. И они поскакали напролом, пригибаясь под ветками, хлещущими по головам. Пение рогов утихло, но вскоре они услышали отдаленный лай. И вновь началась бешеная скачка. Визе не подозревал, что он еще способен так увлекаться. Он не забывал ни о чем, но и соперник его, Великий приор, и богатый город Вильман, и ненавистный тезка — король Генрих — все это был один олень, убегавший олень! А лай все ближе, ближе, и вот уже он различает бегущего оленя, закинувшего назад голову с тяжелым венцом рогов, и почти повисающих у него на ногах гончих.
Лай звенел не умолкая, а сзади рыцари подбадривали себя громким гиканьем, и эта музыка горячила кровь лучше вина. Визе несомненно опередил Герната, и почетный удар должен был достаться комтуру.
В лицо ударил свежий ветер — значит, река рядом. За кустами боярышника шла небольшая прогалина, дальше берег круто обрывался. Добежав до обрыва, олень повернулся, нагнул голову, выставив вперед рога. Теперь это был уже не венец, а оружие. Зверь был еще силен и готов продолжать борьбу. Собаки припадали к земле, бросались с лаем вперед и, рыча, отскакивали. Визе вытащил меч из ножен, готовясь нанести удар — меч был его излюбленным оружием, он владел им в совершенстве, но внезапно уловил близкий шорох и увидел между деревьями высокую фигуру Герната. Мгновенный холод коснулся души комтура. Он опустил руку и сделал своим спутникам знак не двигаться.
Гернат метнул дротик, вонзившийся оленю в голову. Тот тяжело рухнул на землю. Собаки заливались. Гернат спешился, вынув кинжал, подошел к оленю, чтобы собственноручно его добить, но этого не понадобилось. Подождав, пока не соберутся люди Герната — они наперебой славили силу и меткость своего сеньора, — Визе выехал из-за кустов, слегка склонив голову.
— Ты и вправду, как сказано в Писании, великий охотник перед Богом.
Гернат устало огляделся — псари растаскивали собак, слуги собирали хворост для костра. Он утер пот со лба.