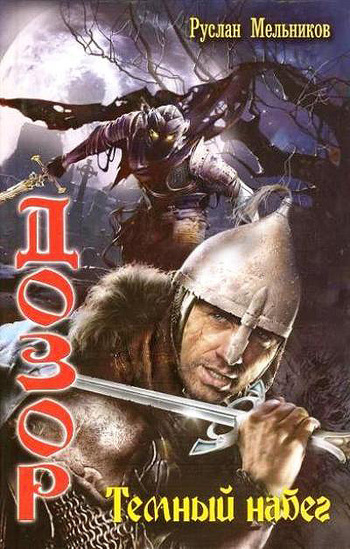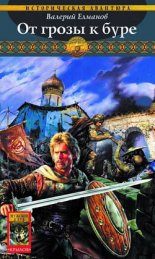Соль земли Марков Георгий

– Копаю, дедушка. Велели мне возле этого кедра шурф пробивать.
– Кто велел? Ты разве не по доброй воле?
– Сама, дедушка, сама. А велел Алексей Корнеич… – Ульяна говорила торопливо, а живое, подвижное лицо её на мгновение будто застыло.
– А он где, Алёша-то, Алексей Корнеич? – спросил Марей, внимательно наблюдая за Ульяной.
– Он другой шурф пробивает, дедушка. Вон там, в ельнике.
– Вместе легче шурф бить. Что ж вы вместе не работаете?
Ульяна что-то хотела сказать, но только кашлянула, вся сжалась и опустила голову. И, взглянув на её согнутую спину, на опущенную голову, Марей понял, что живёт она в большой заботе. «Ах ты печаль какая!..» – подумал старик, испытывая желание чем-нибудь помочь девушке. Он не знал, что произошло между ними, но понимал, что её озабоченность и молчаливость связаны с ним, с Алексеем.
– Ты бы сходила опять, доченька, домой, с мамой повидалась, с подружками. Какое тут веселье – в тайге, – ласково заговорил Марей.
– Нет, дедушка, некогда мне ходить. Слово я дала: пока Улуюлье не разгадают, никуда я не пойду.
Ульяна сказала это таким убеждённым и твёрдым голосом, что можно было не сомневаться: никакая сила не заставит её изменить своё решение.
– Слово дала? Кому же ты это слово дала?
Ульяна потупилась, и Марей понял, что она не хочет говорить этого. «Далеко у них зашло. Даже имя Алёши не называет», – отметил про себя Марей.
– Хочу я, дедушка, чтоб зашумел наш край на всю страну, – помолчав, с прежней убеждённостью произнесла Ульяна.
«А я-то разве против? Дивлюсь, как до сей поры не шумит он», – подумал Марей.
– Хорошее, доченька, желаешь, а старые люди раньше говорили: когда сильно желаешь, то желание сбывается, – сказал Марей, думая про Ульяну: «А папаша твой, видать, плохо тебя знает. Нет, не глупая ты, и не про веселье твои думы».
Из ельничка, где работал Алексей, доносился стук топора. Марей посматривал на ельничек, думал: «Ах, какие молодцы! Между собой неполадки, а дело не бросают».
Но вид Ульяны всё-таки беспокоил старика: она сидела тихая, молчаливая, как пришибленная. Он знал Улю весёлой, бойкой, песенницей; и оттого, что она оказалась иной, непохожей на себя, Марей чувствовал в душе тревогу и острое желание вернуть её в прежнее состояние.
– Ну что же, доченька, иди. Сидеть со мной – веселья мало, – ворчливо произнёс Марей, сердясь на себя за то, что он ничем не может помочь девушке.
– Пойду, дедушка. – Ульяна, не торопясь, пошла к месту, где лежали кучи земли, набросанные её лопатой.
Марей проводил её взглядом и тоже пошёл к стану. По дороге он рассуждал вслух:
– Расспросить бы её, как и что. Да ведь не скажет! А если и скажет, что толку? Можно навредить только. Пусть само собой уладится. Сами поссорились, сами и помирятся…
Марей не знал, да и знать не мог, что никакой ссоры между Алексеем и Ульяной не было. Доставив письмо Алексею от Софьи, Ульяна поняла то, о чём раньше лишь догадывалась: у Алексея есть девушка, которая любит его и преданно помогает ему. Ульяне стало совестно за себя, за своё чувство к Алексею, за свои мысли о себе как о единственной помощнице в его работе. Проведя в слезах две бессонные ночи, Ульяна пришла к той мысли, что на любовь Алексея у неё нет никаких прав, а помогать ему она обязана, потому что их работа связана с будущим её родного края, и это выше всех личных переживаний.
Однажды, когда они утром подошли к месту раскопок, чтобы продолжать работу, она сказала, напрягая всю свою волю:
– Теперь, Алексей Корнеич, я одна буду работать.
– Как это – одна? – не понял он.
– Как? А вот так: вы в одном месте, а я в другом.
– Почему же, Уля? – добродушно спросил он, осматривая яр и думая, по-видимому, совсем о другом.
– Почему? Уж вам про то лучше знать, – сказала она, чувствуя, как что-то перехватывает горло.
Только теперь он по-настоящему понял, о чём она говорит. Он вдруг выпрямился и незнакомо жёстким голосом сказал:
– Хорошо, Уля, работай как хочешь, – и пошёл прочь.
Ульяна не знала, что делать. В первый момент ей захотелось броситься ему вдогонку и просить у него прощения. Совсем некстати сунулась она с этим разговором. Ведь она же видела, что он живёт только работой. Она знала, что ни о чём другом, кроме раскопок, он в последнее время не говорил. Дело так захватило его, что он забывал о себе: оброс бородой, ходил в пропотевшей рубашке, набил на ладонях кровавые мозоли. Ежедневно он столько перекапывал земли, сколько было бы не под силу и трём землекопам. По ночам он сидел у костра, то вчитываясь в геологические справочники, то всматриваясь в карту Улуюлья. Он нёс на своих плечах столько тяжести, сколько порой не выпадет на целый коллектив людей. И в такую пору она рискнула говорить с ним о своих чувствах.
Но это был лишь первый порыв. Когда Алексей скрылся в лесу, Ульяна решила, что она поступила правильно, удержав себя от желания броситься за ним. Она напустила на себя равнодушие и несколько дней скрывалась под этим покровом. Но равнодушие быстро иссякло: так легко и незримо исчезает от лучей солнца утренняя роса.
5
Как-то раз утром Ульяна проснулась от надсадного кашля Алексея. Она приподняла уголок одеяла. Он стоял у костра с книгой, и лицо его было серо-зелёного цвета. «Как бы не заболел он», – подумала она с тревогой. Целый день она работала с ощущением этой тревоги.
Как и прежде, она старалась быть подальше от него, чтобы меньше видеть его и меньше разговаривать с ним. Ей хотелось приучить себя к мысли, что Алексей Краюхин как человек обычен для неё, обычен, как сотни других людей, которых она знала. Но приучить себя к этой мысли она не могла и в мучительном смятении чувствовала, что стал он в эти дни ещё ближе и дороже ей.
Марей, конечно, всего этого не знал. Но, тревожась за Ульяну, он на второй же день после встречи с девушкой возле раскопок вновь заговорил о ней с Лисицыным.
– Пройдёт, Марей Гордеич, пройдёт! Не без того, где и потоскует. Знаем!.. Сами молодыми были! – торопливо выпалил Лисицын.
Марей недовольно покачал головой, но Лисицын, как и в первый раз, слушать его не стал. Он взял ружьё и, думая о чём-то своём, пошёл к лодке. Через несколько минут он скрылся в лесу, на другом берегу Таёжной. Озадаченный его поспешностью, Марей сидел у костра и думал: «Что с ними? Миша всё куда-то бежит, Ульяну как подменили, Алёша изработался – один нос да глаза остались».
День-два Марей испытывал острое одиночество, Лисицын не приходил даже ночевать. Чем он был занят в тайге, Марей и предположить не мог. Алексей и Ульяна с утра и до сумерек работали на раскопках и приходили молчаливые и уставшие.
«А что ж я-то бездельничаю?» – как-то спросил себя Марей, чувствуя, что жить дальше он так не может. Быть просто сторожем стана он не желал, да в этом и не было никакой нужды. «Буду помогать Уле. За молодыми, может быть, и не угонюсь, а делу польза», – решил он.
Ульяна попыталась отговорить старика от работы, но Марей пришёл с лопатой и принялся помогать ей.
Работали они молча. Лопаты звякали о камни, хрустели старые, но крепкие ещё корневища росших когда-то здесь деревьев. Яма с каждым часом становилась глубже.
Отдыхали не в яме, а наверху. Марей видел, что Ульяна мыслями там, с Алексеем. Она настороженно ловила каждый звук, доносившийся из ельника. Когда на минуту Алексей вышел из лесу, чтобы срубить берёзовый шест, она смотрела на него то с восторгом, то с тоской и мукой. «Ах ты, бедняжка! Ну чего бы им вместе-то не работать?» – думал старик, наблюдая за девушкой.
– А что, доченька, не обидел ли он тебя? – осторожно спросил Марей, не рискуя начать этот разговор прямо.
– Что вы, дедушка! Разве Алексей Корнеич может обидеть?! – воскликнула она, и Марей увидел, что глаза её увлажнились.
Именно в эти минуты Марей и решил открыть Ульяне тайну кисета и сам кисет отдать ей. «Куда же дальше таить? И так чуть не унёс с собой в могилу», – укорил он себя. Марей надеялся, что кисет вновь сблизит Ульяну с Алексеем. Когда они поднялись из ямы наверх для очередного отдыха, Марей поближе подсел к девушке и рассказал ей, как тунгусский кисет попал в его руки.
Ульяна слушала Марея, неотрывно глядя на расшитый кисет. Ей верилось и не верилось, что эта вещичка имеет такую необычайную историю.
– Дедушка, неужели это правда, что столько тунгусов было перебито из-за какого-то золота? Ведь об этом страшно подумать.
Ульяна, как и все люди нашей эпохи, относилась к человеку с уважением независимо от того, какой он был национальности. И сейчас, представляя судьбу таёжных людей, она испытывала ужас.
– Уж это так. Кривой Осип и был последним из их рода. – Марей помолчал и добавил: – Много, Уля, в этих лесах разбросано человеческих костей. Не одни тунгусы тут пострадали. Наши русские из беглых тоже гибли, как мухи. Когда я пришёл в староверческий скит, там сказывали, что года за три до того, как мне прийти, великий был мор на людей: опустели избы и зимовья.
Они долго молчали. Марей отдался воспоминаниям, а Ульяна всё ещё думала о том же: как это можно убивать ни в чём не повинных людей?
Потом они заговорили о вышивке на кисете, о тайных сокровищах, которые были обозначены крестиком, о том, сказка это или правда. Ульяна при этом посматривала в ту сторону, где работал Алексей, и Марей понял, что мысленно она разговаривала с ним.
– Ты вот что, Уля, спрячь пока кисет подальше, – посоветовал Марей. – Мне он больше не нужен, а тебе, гляди, и пригодится. Кто его знает, может, тунгусам и в самом деле было что-нибудь известно. Люди они лесные и жили тут долгие годы.
Разгладив спокойными движениями ладони бороду, Марей продолжал:
– А насчёт того, кому сказать, а кому нет, тоже подумай. Народ какой? Пойдёт слух, ну и бросятся в тайгу, а там, может, тлен один.
– Не бойся, дедушка. Уж если скажу, то скажу верным людям.
– Вот это ладно. Это хорошо, – одобрил Марей, вставая и берясь за лопату.
Вечером, когда ужин был закончен, Ульяна ушла на берег, и над тайгой разнёсся её звонкий голос. Она пела так хорошо, так задушевно, что ни Алексей, ни Лисицын, ни сам Марей не проронили ни одного слова. Марей сидел с приподнятой головой и думал: «Опять запел наш соловей. Уж не я ли своим подарком разберёдил её душу?»
Марей не ошибся. Его рассказы о прошлом Улуюлья, о лесных людях, его дар, овеянный романтикой, – всё это взволновало Ульяну, настроило её на раздумье. Но пела она не только поэтому. К раздумью её примешивалась радость. Загадочный кисет лежал у неё в кармане, и он сулил новые тихие беседы с Алексеем и новые встречи с ним.
Глава пятнадцатая
1
Получив приказ о назначении её начальником Улуюльской комплексной экспедиции, Марина отложила все дела и заспешила к брату. Максима ещё не было дома, но Анастасия Фёдоровна уже вернулась с работы и, как обычно, очень обрадовалась Марине.
– Ну как, Мариша, твои дела? Едешь или передумали твои начальники отпускать тебя?
Анастасия Фёдоровна одновременно говорила, закрывала дверь, здоровалась за руку с Мариной.
– Еду, Настенька, еду! Сама ещё плохо верю. Но теперь всё: уже есть приказ, – оживлённо говорила Марина.
– Уезжай скорее, чтобы с глаз начальства долой.
– Дел ещё много, Настенька, раньше чем через неделю не выберусь.
Они вошли в столовую, и Марина увидела, что широкий стол, стоящий посередине комнаты, беспорядочно завален раскрытыми журналами мод, шёлковыми пёстрыми материалами, свисавшими со стола до самого пола.
– Вот как? Ты опять наряжаешься? Ну и модница же ты, Настенька! – лукаво сказала Марина.
– Иди, иди, Мариша, посоветуй. Если этот фасон, а? Как смотришь? Ничего? – подала Марине раскрытый журнал Анастасия Фёдоровна.
Марина взглянула на фотографию полной высокой женщины в лёгком шёлковом платье, окинула взглядом Анастасию Фёдоровну и перевела взгляд на стол.
– А из какой материи думаешь делать? – спросила она, беря в одну руку креп-жоржет стального цвета, весь расписанный бело-розовыми цветами, а другой рукой сжимая густо-коричневый крепдешин с жёлтыми пятнами наподобие сентябрьских берёзовых листьев.
– Ну, конечно, из этой, – сказала Анастасия Фёдоровна, указывая на креп-жоржет.
– А это тоже для платья? – откладывая креп-жоржет и рассматривая коричневый крепдешин, спросила Марина.
– Ой, не говори, Мариша! Так мне попало за него от Максима!.. – воскликнула Анастасия Фёдоровна и сжалась, будто ей и в самом деле было страшно от проборки мужа.
– Ты что же, купила на свой вкус?
– Разумеется. С неделю тому назад захожу в магазин тканей, – опускаясь на стул и жестом приглашая сесть и Марину, начала рассказывать Анастасия Фёдоровна. – Вижу, на прилавке лежит кусок материала. Спрашиваю продавца: «Что это?» Отвечает: «Крепдешин «Осень» для женщин сорока лет и более». Ну, вот, думаю, и отлично, как раз для меня. Прошу продавца отмерить три с половиной метра, плачу деньги, забираю и, довольная, ухожу.
Дома перед зеркалом раскинула материю, стою, любуюсь, думаю: «Ах, какая прелесть, как раз по мне! Ничего кричащего, скромно, прилично». Стою и не вижу, что в комнату вошёл Максим и тоже смотрит и на меня и на материю.
«Где, говорит, ты такую материю нашла?» – «Известно, отвечаю, где, в магазине тканей». – «Это что же, говорит, за пестрота такая?» – «Называется, отвечаю, «Осень». Продавец сказал, что товар для женщин сорока лет и выше». Тут уж Максим разошёлся. «Сама, говорит, на себя старость нагоняешь! От одного, говорит, чувства, что на тебе платье из такой материи, постареть можно». И как начал, как начал… Я стою и слова вымолвить не могу.
– Ну-ну, интересно! Что же он говорил? – оживлённо спросила Марина.
– Про нас. Впрочем, ты ещё молода, это для таких, как я, – заливаясь смехом и всплескивая полными руками, говорила Анастасия Фёдоровна.
– Почему же? Правильно: про нас! Намного ли я моложе тебя? – сказала Марина, чувствуя, что ей всё-таки приятно оттого, что она моложе Анастасии Фёдоровны.
Став серьёзной, Анастасия Фёдоровна продолжала:
– Максим говорит, что женщины часто стареют не от физического нездоровья, а от ущербности сознания. По его мнению, полоса сорокалетия может длиться шесть-семь и даже десять лет, а многие заканчивают её в два-три года и сами себя обрекают на старость. Иная женщина, говорит Максим, так рассуждает: «Муж есть, дети подросли, дела по службе идут сносно. Чего же ещё надо?» И не замечает, что, лишившись больших стремлений, она сама себя добровольно приговорила к ранней старости. Вот и опускается понемногу, и чаще всего это начинается с внешнего облика. Смотришь, на бывшей моднице появляется платье некрасивого фасона и мрачной расцветки. Потом встречаешь такую женщину и видишь, что она и вовсе опустилась: волосы не чёсаны, чулки висят гармошкой, платье не глажено. Да и на душе у неё так же хаотично. Проходит год-два – и совсем невозможно узнать женщину: ходит она сгорбившись, одета кое-как. В общем, почти старуха. А ей сорок пять лет, и впереди у неё ещё двадцать – тридцать лет жизни, и каких лет – зрелости! А зрелость – это же пора человеческих свершений. В юности мы лишь мечтаем об этих свершениях, а исполняем их в зрелые годы. «Как же, говорит Максим, не ценить и не беречь это золотое время?»
– Да ведь это же правда, Настенька! Правда! – воскликнула Марина, слушавшая Анастасию Фёдоровну с волнением.
– И вот, – продолжала Анастасия Фёдоровна, – отчитав меня так, Максим говорит: «Унеси ты свою «Осень» в комиссионку или куда ещё – твоё дело. Материю на платье я тебе куплю сам». Вчера он приходит, расстёгивает портфель и подаёт мне вот этот отрез креп-жоржета. «Это, говорит, тебе будет хорошо». И в самом деле, Мариша, хорошо! Каково, а? Посмотри. Я боялась, не крикливо ли? Просто не переношу, когда немолодые женщины молодятся во что бы то ни стало: украшают волосы бантиками, шьют платья из ярких материй, ходят без чулок…
Анастасия Фёдоровна набросила на себя материю, купленную Максимом, и отошла на несколько шагов в угол комнаты. Марина вместе со стулом отодвинулась от стола и с минуту присматривалась к Анастасии Фёдоровне.
– Одно могу сказать, Настенька: вкус у Максима хороший. Ты знаешь, эта материя не то что молодит тебя – это тебе ни к чему, – просто стальной тон и цветочки как-то очень освежают. Ты когда-нибудь, Настенька, обращала внимание на свежеумытые лица? После воды и полотенца люди становятся розовыми, привлекательными. Вот и ты в этом платье будешь такая.
– Правда? – радостно и недоверчиво спросила Анастасия Фёдоровна и, как бы желая проверить слова Марины, повернулась к зеркалу.
– Очень хорошо будет, Настенька, – ещё раз подтвердила Марина, любуясь её полной фигурой.
В прихожей раздался звонок.
– Максим пришёл! – Анастасия Фёдоровна сняла с себя материю, положила её на стол и лёгкими шагами заспешила к двери.
2
– А-а, да у нас гостья! – протяжно сказал Максим, входя в комнату и подавая руку сестре.
Марина встала и ласково, любящими глазами улыбнулась Максиму. Осматривая светло-серый костюм брата, голубую рубашку с полосатым галстуком, начищенные коричневые ботинки, она как-то невольно подумала о Бенедиктине: «У того опрятность, как пижонство, только раздражает».
– Ну, когда отплываешь, Мариша? – спросил Максим, присаживаясь к столу.
– Осталось упаковать и отправить имущество и окончательно утрясти дела со штатами. Спасибо твоей статье, а то ещё пять лет не собрались бы послать экспедицию. – Марина придвинулась ближе к брату. – Большая трудность, Максим, с рабочей силой. Остаются вакантные места. А где я возьму людей в Улуюлье? Заранее программа экспедиции ставится под удар. Ходила я к Водомерову, просила работников из обслуживающего персонала института. Отказал. «Что же, говорит, прикажете свернуть институт?» И по-своему он прав.
– А по-моему, Мариша, это хорошо. Пусть в штатах будут вакансии. Найдутся люди на месте. Я советовал бы тебе местных товарищей пригласить в экспедицию.
– Артём посоветует. Всё-таки секретарю райкома виднее, – сказала Марина.
– Конечно, людей он знает, – согласился Максим и, подумав, добавил: – А некоторых товарищей я порекомендую. Присмотрись.
Марина вопросительно взглянула на него, явно недоумевая, откуда Максим знает людей, живущих в далёком Улуюлье.
– Я же ездил туда по заданию обкома. Разве забыла? – сказал он, заметив удивление сестры.
– Да, да! – оживилась Марина. – Из головы вон.
– Первым делом, Мариша, познакомься с лесообъездчиком Чернышёвым. Помнишь, я тебе о нём рассказывал?
– Это который называет кедр плодовым деревом?
– Вот-вот! Если он с экспедицией поехать не сможет, ты всё-таки повидай его. Мысли и наблюдения у него интересные.
– Знаю. По кедру он выдвигает ряд верных положений.
– Потом в Мареевке… – продолжал Максим, но Марина его перебила:
– Подожди, я запишу. – Она открыла свою большую белую сумку, вынула записную книжку и ручку с золочёным пером.
В Мареевке живут несколько самобытных людей. Попробуй вовлечь в свою экспедицию Лисицыных: отца и дочь.
– Ты знаешь, Мариша, у этого охотника Лисицына есть дочь Уля. Ах, какая яркая девушка! – вступила в разговор Анастасия Фёдоровна.
– Хорошая девушка! Она нам с Настенькой пела, и так славно, задушевно – за сердце берёт, – глядя на жену, сказал Максим.
– Она талантливо поёт. Я обязательно привезу её в город, – откликнулась Анастасия Фёдоровна.
– Этих людей ты непременно найди. Сам Лисицын – большой знаток Улуюлья. Потом там, в Мареевке, есть колхозник Дегов Мирон Степанович. Знатный льновод района. Старик понимает в сельском хозяйстве и имеет ценные наблюдения по климату.
– Это всё очень для меня важно, Максим, – заметила Марина, не переставая писать.
– Ну конечно же, не забудь также и учителя Краюхина.
– Уж его вернее назвать сотрудником нашего института в отставке, – чуть улыбнулась Марина и, помолчав, добавила: – На Краюхина я во многом рассчитываю. Правда, в экспедицию его не возьмёшь. Этого не перенёс бы профессор Великанов.
– По-моему, Мариша, если делу на пользу, то самолюбие можно не щадить.
Пока Марина и Максим разговаривали, Анастасия Фёдоровна освободила стол.
– Вы разговаривайте, а я пойду обед подогрею, – сказала она.
– Может быть, тебе помочь, Настенька? – поднялась Марина.
– Сиди, Мариша, сиди, пожалуйста, я всё сделаю сама, – удержала её Анастасия Фёдоровна и ушла на кухню.
Максим проводил жену глазами и, понизив голос, произнёс:
– Мариша, в заговор хочу с тобой вступить. – Он серьёзно посмотрел на неё спокойными серыми глазами, и она поняла, что брат не шутит.
– В заговор?.. – На лице её появилось выражение растерянности.
Максим уловил это движение её души и улыбнулся:
– Ничего, Мариша, страшного. Я хочу предложить в твою экспедицию ещё одного сотрудника.
– Кого, Максим? – с облегчением спросила Марина.
– Настю мою.
Марина знала, что Максим любит жену, что живут они дружно, но эта фраза: «Настю мою», сказанная тихим голосом, передала ей его большую тревогу. «Ну, продолжай, продолжай, я всё, всё пойму», – мысленно торопила она брата.
– Настя мечется, Мариша.
– Она же весёлая.
– На перевале она, Мариша. – Он помолчал, подбирая слова. – Знаешь, как бывает, когда поднимаешься в гору и ты – на полдороге. Всё время идёшь и думаешь: а что, не вернуться ли? Откроется ли с вершины что-нибудь новое? Стоит ли идти? И вдруг кто-то крикнет: «А ну, живее! Скоро вершина!» Откуда и силы возьмутся: идёшь, идёшь – и усталости нет.
– Я не заметила у неё усталости, – возразила Марина.
– Усталости нет, но дружеская поддержка ей всё-таки нужна. Ты же знаешь, какая она. Только забот о семье, только работы Настеньке мало. Вспомни, сколько у неё было всяких дел. Весной она вернулась из поездки по Улуюлью – и я не узнал её: кончились разговоры о возрасте, она жила мыслями об открытии курорта на Синем озере. Я чувствовал: Настенька нашла в этом для себя большую цель. Но, видишь ли, там в облздраве, расценили её поездку в тайгу как самовольную отлучку. Её это очень задело, и она не то что оставила свои стремления, а как-то затаила их в себе.
– Да разве это единственный случай?! Сколько ещё у нас формалистов! Надо в душу человека глядеть, а им бумага всё загораживает, – проговорила Марина, думая о судьбе Краюхина.
– Ты возьми её, Мариша, с собой, возьми сверх всяких штатов. Уговори, если она начнёт вспоминать обиду на облздрав.
– А они отпустят её?
– Тут одно новое обстоятельство может помочь: обкому профсоюза ассигнованы центром средства на строительство дома отдыха для рабочих лесной промышленности. Профсоюз просит при выборе площади учесть перспективы развития лесной промышленности. Исполком поручил здравотделу срочно внести свои соображения о месте строительства.
– Да, но могут послать кого-нибудь другого, – обеспокоенно сказала Марина.
– Могут, конечно. Но если она сама захочет, пошлют её. Она знает Улуюлье, прежде ей приходилось вести такую работу.
– А я-то как рада, Максим! Мне с ней легче будет. Боюсь я за себя. Какой из меня организатор?
– Дело нелёгкое, но ведь ты не одна. Побольше опирайся на людей. И не пренебрегай советами практиков. У них иногда недостаёт знаний, зато есть верное понимание смысла дела, чего часто не хватает людям с учёными степенями.
– Учту, Максим твои советы, спасибо! Ну, а у тебя-то что слышно?
– Собираюсь в Москву. Назрело немало мыслей, сомнений, предложений и претензий к министерствам и главкам. Для меня Москва, знаешь, что? Я всегда возвращаюсь оттуда с такой зарядкой энергии, что мне ничего не страшно, никакие трудности не пугают!
– А ребятишки в лагере? – спросила Марина.
– На два месяца. Если Настенька уедет, одной Петровне домовничать придётся.
Вошла Анастасия Фёдоровна со стопкой тарелок в руках.
– Как твои сердечные дела, Мариша? – меняя разговор, лукаво спросил Максим.
– Всё по-прежнему, – тихо, со смущением ответила Марина.
– С Бенедиктиным окончательно разошлись? – Максим говорил уже по-другому: серьёзно и участливо.
– Бесповоротно! – Марина вздохнула, грустно усмехнулась. – Многому я научилась, Максим, на этой истории. И больше у меня нет желания экспериментировать в области любви. Хватит!
– Ну-ну, Мариша, не надо так, – расставляя тарелки на столе, сказала Анастасия Фёдоровна.
– А что не надо-то? Наоборот, надо. У меня столько дел, что и без любви жизни не хватит. Раз не повезло – значит, не повезло! – Марина безнадёжно махнула рукой.
– А возьмёт да и повезёт! – задорно возразила Анастасия Фёдоровна.
– Нет, нет, закую сердце в броню, – невесело пошутила Марина.
– Наше бабье сердце отходчиво, Маришенька. Задумаешь одно, а сделаешь другое…
– Не до того мне, Настенька. Одно у меня теперь: работа, Улуюлье, экспедиция… Поедем со мной, Настенька! Как бы мне с тобой было хорошо!..
– Я бы на крыльях полетела! – мечтательно проговорила Анастасия Фёдоровна.
– Ну и что же, лети! – воскликнула Марина.
– Да разве мне разрешат? Бумажки подшивать заставят, а к живому делу не допустят.
– Да, я забыл тебе сообщить, Настенька, одну важную новость, – заговорил Максим. – Сегодня облисполком рассматривал вопрос о строительстве дома отдыха для рабочих лесной промышленности. Поручено облздравотделу внести свои предложения. Некоторые товарищи авансом высказались за Улуюлье.
Анастасия Фёдоровна посмотрела на Максима с недоверием.
– Я не шучу, – сказал он.
Анастасия Фёдоровна перевела взгляд на Марину, потом ещё раз на мужа и захлопала в ладоши.
– Ура-а!.. Браво!..
– Что с тобой, Настя? – спросил Максим и, глянув на улыбавшуюся сестру, засмеялся.
– Правда на моей стороне – вот что! Тра-ля-ля!..
Пританцовывая, Анастасия Фёдоровна выбежала из столовой. И трудно было поверить в этот момент, что этой высокой полной женщине за сорок лет и что временами её неотступно преследуют невесёлые, тревожные мысли о своей женской доле.
– Поедет! – довольно сказала Марина.
Максим, улыбаясь, утвердительно кивнул головой.
Глава шестнадцатая
1
Жизнь Софьи осложнялась с каждым днём. Бенедиктин с утра до ночи сидел теперь на половине отца. Его раскатистый смех становился всё более громким и вызывающим. Смелее входил он и к Софье. При каждом его появлении она как-то вся внутренне сжималась, словно он мог оскорбить её. К счастью, он подолгу не задерживался и, рассыпав тысячи извинений, удалялся. Но по его пристальным взглядам, по тем нежным ноткам, которые иногда прорывались в его голосе, Софья угадывала, что он исподволь готовит её к чему-то более значительному, чем все эти мимолётные разговоры. «Господи, неужели он вздумает опять объясняться в любви?» – обеспокоенно думала она.
В её душе всё сильнее и сильнее нарастало чувство протеста. Но вместе с тем её ни на минуту не покидало сознание своего бессилия перед ним. Всякий раз, когда он входил, Софья переживала мучительное состояние скованности. Его изысканность, смешанная с нагловатостью, парализовывала её волю. Она чувствовала, что то же самое может произойти и в тот момент, который неотвратимо приближался. Она боялась этой минуты, но, боясь, готовила все свои силы для отпора.
Однажды вечером к ней зашёл отец. Было уже близ полуночи. В большом доме стояла тишина. В широкое окно тянуло свежестью реки. Изредка в комнату врывались отголоски той хлопотливой трудовой жизни, которой жила многоводная река и днём и ночью. Свистки пароходов, то низкие и густые, то пронзительно-звонкие, хруст цепей на ковшах землечерпалок, шум пара, вырывавшегося в пароотводные клапаны, слышались иногда так отчётливо, будто всё это происходило за стеной, иногда же доносились ослабевшими, едва слышимыми, словно перед этим они прошли неисчислимые расстояния. Это в ночи совершалась вместе с людской работой незримая и вечная работа природы: капризные потоки воздуха то гасили силу звука, то отступали, как бы освобождая им путь.
Софья сидела за столом, заваленным книгами и журналами. Возле чернильного прибора лежали карандашные зарисовки улуюльских находок Алексея. Вот уже несколько дней Софья старалась разгадать эти находки, не только напрягая свою память и вспоминая всё виденное в музеях материальной культуры, но и прибегая к помощи книг. Но дать находкам Алексея точное определение ей не удавалось. Ни рисунки, ни описания находок не совпадали ни с одним известным Софье типом древних человеческих культур. «Взглянуть бы на всё своими глазами!» – вздыхала Софья и ещё пристальнее вчитывалась в академические вестники, всматривалась в альбомы рисунков по истории материальной культуры.
За этим занятием её и застал Захар Николаевич.
– Ты ещё не спишь, Соня? – спросил он, входя в её комнату. Захар Николаевич был в длинном халате без пояса. Халат висел на его острых плечах, подчёркивая худобу тела.
– Входи, папа. Мы с тобой теперь так редко встречаемся, что я и не помню, когда ты был у меня, – сказала Софья, отодвигая книги и приглядываясь к отцу.
– И ты меня тоже не жалуешь частыми посещениями, Соня. – Он невесело усмехнулся и, сняв пенсне, посмотрел на неё подслеповатыми, но такими родными и милыми глазами. – Живём по всем правилам коммунальной квартиры: меньше встреч – меньше неприятностей и скандалов, – сказал он тихо, тяжело опускаясь на стул.
– У тебя всегда люди. К тебе не войдёшь. – Софья проговорила это несколько обиженно.
– Да, Соня, у всего есть свои сроки. Есть они и у одиночества. Сколько лет высидел я как затворник! Теперь мне нужно внимание окружающих. Это не прихоть, а потребность души.
Захар Николаевич говорил унылым тоном, и мрачные тени, лёгшие от лампы на его худощавое лицо, двигались по щекам к подбородку.
– Окружающие – это Бенедиктин? – спросила Софья с иронией.
Захар Николаевич резко вскинул голову, глаза его сверкнули, и Софья решила, что он сейчас вспылит. Но, к её удивлению, он сдержался и сказал всё так же спокойно и неторопливо:
– Чужая беда всегда кажется простой, Соня.
– Какая же беда у Бенедиктина? Стыдно от людей за неблаговидный поступок?
– О нет! Бенедиктин откровенен со мной, как ни с кем. Всё обстоит, Соня, гораздо сложнее. Марина Матвеевна – прекрасный научный работник, но, право же, для семейной жизни одного этого качества мало. В женщине должно быть врождённое свойство создавать уют в доме.
– Бенедиктин бессовестно наговаривает на Марину Матвеевну. Ему ничего не остаётся, как лгать и вывёртываться, – перебила Софья отца.
Захар Николаевич, обычно вспыльчивый и нетерпеливый к возражениям, будто не замечал возбуждения дочери.
– Видишь ли, Соня, я думаю, что ты теперь стала взрослой и с тобой можно говорить серьёзно на такие темы, – подбирая слова и волнуясь, сказал Захар Николаевич.
Софья поняла, что ей предстоит услышать что-то особенное, и насторожилась.
– Григорий Владимирович признался мне в большом чувстве к тебе, Соня, – с некоторым усилием продолжал Захар Николаевич. – Это было одной из причин его ухода от Марины Матвеевны, – пояснил он, видя, как лицо Софьи становится злым.
– Гадко и гнусно! – сказала Софья и поднялась, с силой отодвинув кресло. Она отошла в угол комнаты и, протянув руки к отцу, блестя глазами, с жаром спросила: – Ну скажи мне, скажи, почему ты сблизился с ним? Что вас роднит? Что есть у вас общего? Скажи! Только правду! Правду!..
Захар Николаевич повёл плечами, водрузил пенсне на переносье и с полминуты молчал.
– Ну вот, ты молчишь. А я знаю почему!
– Нет, я скажу. Ты знаешь, Соня, мою особенность. Я всегда вставал на защиту слабого. Люди бывают безмерны в своей жестокости. Если б я не оградил Бенедиктина, его могли бы заклевать в порядке, так сказать, «развёртывания критики и самокритики». А ведь он не пропащий человек, у него есть способности и ряд таких качеств, которые мне весьма импонируют…
– Нет, папа, ты говоришь наивные слова, которым сам не веришь.
Софья вышла на середину комнаты, а Захар Николаевич ещё больше втянул голову в острые костистые плечи. Софьи на мгновение стало жалко его, худого и уже постаревшего, но остановиться она не могла. Ей было ясно, что Бенедиктин настолько вошёл в доверие к отцу, что между ними стал возможен разговор на самые интимные темы. И это подогревало гнев Софьи и делало её прямодушной и жестокой до крайности.