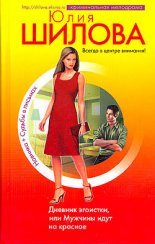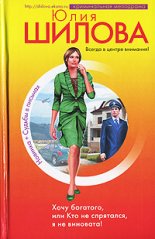Серая слизь Гаррос-Евдокимов
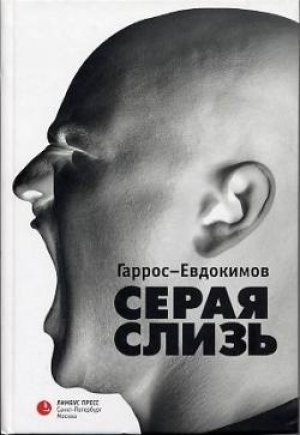
Что Чукотка, помянутая обиженной девушкой Ликой, на самом деле Якутия, я догадался и сам – опять порывшись в net’е. Озера Лабынкыр, Ворота и Хайыр. Где многочисленные очевидцы тоже лицезрели нессиобразных химер. Этим, впрочем, полезная интернет-информация и ограничивалась.
Однако же Инди-Спицын не подвел. Он не только знал, что экспедиция в Якутию прошлым летом действительно имела место, но даже был в курсе, кто именно ее устраивал: Виталий Кондрашин… И даже знал его телефон. И даже электронный адрес.
Телефон не отвечал – ничего, даже “вне зоны”: просто отделывался длинными гудками. Зато на е-мейл пришел ответ. “Здравствуйте, уважаемый Денис. Я действительно знаю Федора Дейча, и он действительно участвовал в нашей экспедиции на Лабынкыр. Экспедиция, правда, вышла безрезультатной и вообще неудачной. Мы, к сожалению, стартовали слишком поздно, и сворачиваться пришлось слишком спешно: в октябре в Якутии уже зима. А Федор с нами расстался на обратном пути, на пересадке в Якутске. Надо сказать, довольно экстравагантно: оставил записку, что у него срочные дела, и исчез из гостиницы. Так что, сами понимаете, в его поисках я Вам помочь не могу. Если найдете Федора – передавайте ему от меня и от ребят привет. Никаких претензий в связи с «пропажей» у меня к нему нет, естественно:) – наоборот, он со своими умениями был неоценимый товарищ. С пожеланием всяческих успехов – ВК”.
Одна знакомая девица утверждала, что он похож на молодого Патрика Суэйзи. Другая – что на молодого Рутгера Хауэра. Разброс достаточный, чтобы догадаться не только, что он не был похож ни на того, ни на другого, но и как у него обстояло с бабами. Хотя знал я и баб, которых Федька всерьез раздражал – с ходу. Все-таки в нем было слишком много агрессии и пофигизма.
Последнего – и по отношению к девкам тоже. В большой степени. Что почти не скрывалось ни на каком из этапов отношений. Так что, если по совести, они – все они – знали, на что идут. Разумеется, это не мешало им ни идти, ни затаивать потом смертные обиды, которых – суммированных и переведенных в мегатонны – хватило бы на непрерывную термоядерную реакцию. И все равно глупо было на него обижаться.
Принцип fuck and forget он исповедовал ведь не только из стихийного мачизма, но и просто в силу гиперактивности, наличия “шила в жопе”. Он никогда не сидел на месте – в обоих смыслах: не только срывался беспрестанно в вояжи и авантюры, лихорадочно менял девиц и сферы деятельности, но и буквально – постоянно двигался, быстро и порывисто.
…Это была интересная порывистость, плавная, мягкая, почти завораживающая: от зрелища ФЭДа, лезущего на тот же Алдара Торнис – не только без остановки, но и без видимого глазу промедления, безошибочно чередуя верхние, боковые, нижние захваты, лишь геснеровские монстры на лопатках то морщатся, то скалятся попеременно в такт сокращениям мышц, – и правда было трудно оторваться.
…И это была интересная мягкость и плавность – опасная. Взрывоопасная. Драться, например, с ним я бы не посоветовал никому, независимо от весовой категории и цвета пояса – не столько даже из-за собственных Федькиных неординарных габаритов, сколько по причине абсолютной его непредсказуемости. Он всегда бил внезапно: и в ситуациях, когда конфликт лишь зрел и, наверное, еще сохранял потенцию к ненасильственному разрешению, и когда супостат окончательно убеждался, что этот шкаф на самом деле полнейший слизняк и вот сейчас послушно отдаст лопатник… И всегда бил беспощадно. В нос, в “солнышко”, по яйцам. В полную силу. “А сил у него немерено”.
Непредсказуем он был, впрочем, во всем. Местами – сплошь и рядом, если уж честно, – это была не слишком комфортная для окружающих непредсказуемость. Тем более – близких. Отчего опять же несть числа обиженным на Федьку, причем обоих полов. В разных странах. Нужно было знать его почти с младенчества, расти с ним в одном дворе, входить во все возглавляемые им компании, шайки, банды и музыкальные группы, выпить с ним гектолитры алкоголя, прыгать с ним с парашютом в Цесисе и на байде с Абавас Румбы, разделить с ним (в разной очередности) не так мало девок, нужно было иметь, словом, мой уникальный опыт – чтобы суметь оставаться его другом. Столько лет. Несмотря ни на что.
И чтобы все равно – в какой-то момент он исчез без предупреждения и с концами. Как исчезал всегда, ото всех и отовсюду.
Да. Кстати. О девках.
Ну – что? Пора? Пора… Пора бы. Больше недели, однако, прошло.
Верчу в руках телефон. Дьявол, пальцы двигаться не желают. Надо же. Что это – ложно понятая гордость?..
Я знаю, что она ответит. Я совершенно точно знаю, что она ждет, когда я позвоню. Я знаю даже, догадываюсь, что эту неделю-с-лишним ее колбасило больше, чем меня… И все равно – не хотят пальцы двигаться.
Чертова мужская прерогатива действовать первому… Ладно-ладно…
Все. Поехали.
Не останавливаясь, под зеленый проходим перекресток с Дзирциема и плавно взлетаем на имантский путепровод.
Морозная четкость, ясность, лаконизм, предельно, болезненно усилившиеся в последние перед погрязанием в вечерней дымке мгновения. Два цвета остались, только два. Победивший серый: матовый серый асфальта, стен, мертвых газонов с сошедшим снегом, не помышляющих еще о зелени; прозрачный, в голубизну переходящий серый неба. И проигравший – густой, отчаянный оранжевый слоеного заката, проседающего в темную щетину леса за микрорайоном; он же, но поблекший до желтовато-опалового – у косо воткнутого в эти небесные волокна полуразвалившегося инверсионного следа; он же, но бесстрастно-розоватый – скользит в стеклах верхних этажей, стекает по трамвайным рельсам вниз с горба путепровода. Навстречу всплывает вереница ксеноновых фар – с их интенсивным отсутствием цвета.
Я поворачиваю голову влево, смотрю на нее в профиль, чувствуя на собственной роже неконтролируемое расползание кретинической совершенно лыбы. Она косится на меня, слабо улыбается и, словно стесняясь этой улыбки, но не будучи в состоянии с ней справиться, наклоняет голову, исподлобья глядя на дорогу, скатывающуюся, расширяясь, к перекрестку с Имантас.
…Есть мужики, способные по-собачьи неотрывно пялиться на своих женщин, искательно заглядывая в глаза. У меня так никогда не выходило. Я наоборот – никак не могу заставить себя на нее посмотреть. Поэтому смотрю на телек, вечно работающий под потолком “Кугитиса”. (На экране англоязычный, кажется – звук все равно отрублен, несинхронным саундтреком – радио Skonto… – музканал, рекламный блок. Фэнтезийно-го сауронистого вида магус в надвинутом куколе мечет из полиартритной длани шаровые молнии. Из-за рамки телеэкрана докатывается оранжевое эхо разрывов. Лаконичный титр: “Fireball”. Камера рывком смещается – по линии огня. В дачном креслице, развалившись, закинув ногу на ногу, молодой раздолбай мотает в такт только ему слышному плейерному музону кучерявой башкой, прихлебывает ежесекундно из красно-черной жестяной баночки… Одесную его магусовы файерболлы безвредно разлетаются в клочья, натыкаясь на невидимую непрошибаемую стену, силовое поле комфорта и спокойствия. Крупно – надпись на баночке: “FireWall”. Слоган: “Nothing Can Get at You”.)
Усилием воли я все-таки поворачиваю голову. Ника тоже не смотрит на меня – смотрит перед собой в столешницу.
И тогда я – уже без малейшего внутреннего усилия и абсолютно спонтанно – протягиваю руки и беру ее безвольные кисти, маленькие прохладные длиннопалые кисти с коротко стрижеными ногтями, с мягкими подушечками у оснований пальцев, легонько сжимаю… сжимаю сильнее, заведенные за голову и сведенные вместе, изо всех сил, вдавливая сквозь простыню в матрас, быстрая судорога идет оттуда по вытянутым рукам – вниз, прокатываясь по телу, завершаясь последним рывком бедер, спазмом, конвульсией – бесконечной, конечной, окончательной…
Конечно же, он не удержался. Не устоял. Все возможное стремится быть произошедшим. И не нужно ему подкрепление в виде практической цели, и не помеха ему – соображения здравого смысла… В общем, он это сделал, герой “Полости”. Он ее украл. Похитил.
Процесс похищения Абель Сигел описывает подробно, кажется, даже не без знания дела, с артур-хейлиевской почти детализацией. На несколько глав роман “Полость” превращается в полноценный, стопроцентный триллер – с сас-пенсом, с учащением пульса: поймают? не поймают? получится? не получится?.. Получилось. Спеленутую, с залепленным скотчем ртом суперстарлетку Эйнджел герой привозит в пригородный недостроенно-заброшенный особняк (обычная история, одинаковая что в престижном подмосковье, что в рижском Балтэзерсе – нуворишеское понтовое жилье, законсервированное на стадии голых краснокирпичных стен после убийства/посадки/разорения владельца), присмотренный им заранее.
Свалив Эйнджел на груду ветоши в несостоявшейся гостиной, герой курит в соседней комнате. Что с нею делать дальше, он не имеет ни малейшего понятия. Как-то он вообще об этом не задумывался. Как-то все мысли обрывались на моменте похищения – оставшемся теперь позади… Требовать за нее выкуп? Но он совсем не просчитывал механизм получения денег (а понятно же, что именно тут его и будут вязать), он не знает, как различить помеченные банкноты, он… Да в конце концов, он проделывал все это не ради куша! А ради чего? Наверное, понимает он, ради того, чтобы хоть как-то избавиться от собственной застарелой мании… хоть как-то сойти с эйнджелоцентрической орбиты… Отшвырнув бычок, он входит в гостиную.
Вообще Эйнджел как-то неадекватно вела себя по ходу киднеппинга. Особенно не орала и не сопротивлялась. Это, конечно, удача. Наглоталась чего-нибудь, прикидывает герой, обкурилась… Или, может, у нее такой тяжелый джет-лаг… Или так выражается шок?.. Он решительно отдирает скотч. Он ждет стонов… или слезных просьб о жалости, снисхождении, освобождении… или угроз… или предложения громадных бабок…
Но мировая поп-знаменитость не издает вообще никаких звуков… Она тупо таращится на героя, не пытаясь ни грозить, ни лебезить. Он видит, что эта идиотка, кажется, вообще плохо осознает – что, собственно, произошло. Она даже не особенно боится. Герой чувствует определенную обиду: он столько парился и рисковал, так виртуозно все придумал и блистательно осуществил – а эта коза, блин, совершенно не просекает, что теперь она полностью в его власти, что теперь все решает он… Герой пытается говорить с ней на неблестящем своем инглише: андерстенд, мол, как ты вообще попала? Ты понимаешь, что я чего захочу, то с тобой и сделаю?
Не понимает.
Потихоньку он начинает заводиться. Он материт ее на всех известных в этой части лексикона языках. Ну хоть какая-то реакция будет, нет, сука?!. Размахнувшись, двигает Эйнджел по скуле. Тонкая полоска лопнувшей кожи. Реакции – ноль. Он бьет еще раз. Еще. Ничего. Он пинает ее в живот. Ни-хре-на.
Абель Сигел оказывается неплохим психологом и порядочным мизантропом – как отсутствие сопротивления провоцирует агрессию, а незлобивый интеллигент превращается в животное, он показывает дотошно и не по-христиански убедительно. Причем автор далеко не полный игнорамус не только в области психо – , но и физиологии – что и демонстрирует с чем далее, тем менее переносимой обстоятельностью.
Герой избивает свою суперзвезду все страшнее, все увлеченнее, он уже не может остановиться. Он с мясом выдирает из ее пупка огромный бриллиант, величину и великолепие которого сам некогда описывал сплошными суперлативами. Он упоенно превращает в месиво растиражированное плакатами, постерами, интернет-линками, развлекательной периодикой, облепившее рекламные тумбы и стены подростковых комнат всего мира, прописавшееся в его кошмарах дебильное лицо. Носками ботинок ломает Эйнджел ребра. Каблуком дробит пальцы. Клочьями выдирает волосы. Он бесконечно, монотонно, отвратно насилует, сношает, харит, лососит ее – сначала во влагалище, потом в задницу.
И вот, бурно, как ни разу в жизни продолжительно, опустошающе откончавшись, отвалившись от жертвы, лежа, с ног до головы в ее крови и моче, рядом с не подающим признаков жизни телом на цементном полу, начиная все-таки понемногу соображать, он вдруг отдает себе отчет, что на протяжении всей экзекуции Эйнджел не только не сопротивлялась, но и почти НЕ РЕАГИРОВАЛА: не стонала, не орала, не плакала. Будто не испытывала ни страха, ни унижения, ни боли… Жуткое подозрение возникает у героя – он отползает от нее, кое-как, размазывая ее телесные жидкости по морде, встает, смотрит на старлетку, едва-едва, бессмыслено и молча ворочающуюся у него под ногами, пятится, пятится…
Выходит в соседнюю комнату. Встряхивается. Возвращается. Подбирает нож, которым для удобства пыточного процесса разрезал собственноручно накрученные на поп-идолище веревки. Пинками переворачивает Эйнджел на спину. И, примерившись, засаживает нож ей в живот. Нажав, вгоняет по самую рукоять. После чего долго, с усилием, с упругим треском тканей, вспарывающим движением ведет вверх – вскрывая звезду от матки до горла. Берется за края разреза, раздвигает…
Он не видит ни сально поблескивающих внутренностей, ни прыскающих кровью перерезанных сосудов, ни мышечных волокон, ни осколков костей – ничего. Внутри у суперстарлетки, под плотной человекоподобной оболочкой, ничего нет. Совсем. Одна только чуть припахивающая пылью пустота…
– …Здорово, рыжий, – отрываюсь от чтения: Венька Лакерник звонит.
– Привет, Динь. Радио сейчас не слушаешь случаем?
– Ты ж знаешь, я его никогда не слушаю. Даже тебя, извини…
– А ты вруби, вруби “сотку”. Песню для тебя заказали…
– В смысле – для меня?
– Ну вот – для тебя… Ты же, кажется, у нас Денис Каманин?
– Кто заказал? – Ищу маловостребованную кнопочку radio на пульте своего “Панасоника”… черт, как это делается-то?.. а, вот… “Мотаю” стрелочкой вправо – на дисплее мельтешат частоты… – Сколько, ты говоришь?
– Сто.
– Так кто заказал?.. Сто эф-эм.
– Девушка, старый, девушка… Так, все, мне пора. Слушай.
“…на теплом радио!” – интимно-приподнятое рекламное радиоконтральто.
Шшшто еще за байда?..
“Добрый вечер… точнее, доброй уже ночи тем, кто к нам сейчас присоединился… – Радиоэфир искажает Венькин свойский басок в той же степени, что эфир телефонный – но иначе. – С вами программа «Трамвай “Желание”» и ее ведущий Вениамин… Мы продолжаем ваши желания и пожелания по мере сил реализовывать… Трамвай наш следует со всеми остановками, невзирая на поздний час… и следующая остановка – для Дениса Каманина. Эту остановку мне объявлять самому приятно… И потому что, так уж получилось, Денис – мой приятель… И потому, что уж больно хорошую композицию ему сегодня подарили… «Роллинг Стоунз», «Paint it Black» – по-моему, лучшая вообще вещь Мика Джаггера и его парней… Денис, ставим для тебя музыкальный… рок-н-ролльный привет, подарок от хорошей, наверняка правильной девушки, которая нам позвонила… Сейчас… От Аськи Саввиной!.. Слушай на здоровье!..”
I see a red door and I want it painted black No colors anymore I want them to turn black… I see the girls walk by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes…
…I look inside myself and see my heart is black I see my red door and it has been painted black Maybe then I’ll fade away and not have to face the facts It’s not easy facin’ up when your whole world is black…
25
Мне, в общем, всегда везло. Скажем так: чаще везло, чем наоброт. Не то чтоб совсем уж радикально (один раз повезло радикально – в прошлом феврале в Берлине) и часто – но более-менее регулярно. Так что никаких поводов чувствовать себя неудачником у меня нет и не было. Однако я всегда был на их стороне – аутсайдеров и одиночек. Не по гуманитарному убеждению, отнюдь – на уровне самых базовых реакций.
Брат мой Андрюха определение “лузер” припечатывает, как доктор – указание: “В морг!” Ничего для него нет презреннее неудачника. Фразу “ну он такой… странненький…” самоуверенный Эндрю произносит не иначе как с ухмылкой предельной брезгливости. Причем брательник мой вовсе не стал таким, поступив на службу в жирный распальцованный банк и усевшись в “бэмку”, – он такой был всегда. Однажды мы с ним даже всерьез подрались.
Я, кажется, знаю, откуда у меня это чувство престранной причастности к странненьким. Благодаря кому.
Отца у Аськи не было, а мать пила. Аська была предоставлена сама себе, сколько я ее помню, – а помню я ее лет не то с четырех, не то с пяти: в детском саду мы вместе переходили из группы в группу. Подруг у нее тоже, по-моему, никаких не водилось. Не то чтобы ее травили – ею пренебрегали.
При этом в ее одиночестве не чувствовалось забитости и ущемленности изгоя. Может быть, ей пришлось с самого начала учиться такому автономному существованию – и она выучилась. Может, это был некий врожденный талант – самодостаточность. Самодостаточность не тупая и нарциссистская, ненавидимая мною как мало что (потому, вероятно, что слишком часто встречаемая) – а органичная и толерантная. Это была – цельность. Не зависящая от других, но другим открытая.
Нельзя сказать, что я составлял Аське компанию, – я питался от ее одиночества. Мы часами могли не произносить ни слова и даже заниматься каждый своим – испытывая спокойное и уверенное чувство единства двух самодостаточностей.
Из всех моих качеств в детстве властно и безусловно преобладала лень. Я был неописуемо ленив лет в пять. Я ленился чистить зубы, завязывать шнурки, класть на место шапку, а потом ее разыскивать. Аська, уже тогда деловитая и домовитая, у которой уже тогда был ярко выражен материнский инстинкт, в садике взяла надо мной добровольное шефство. На том и сошлись.
Мы дружили всегда – всю жизнь. Ее жизнь. Мы дружили, даже когда пошли в разные школы. Даже когда я начал отираться вокруг Кента, Костыля, Фрица-Дейча и прочих дворовых и школьных преступных авторитетов. Даже когда я бил стекла в теплицах и нажирался “Аболу винсом”. Разумеется, с самого начала и до самого конца эта дружба была предметом более или менее ядовитых подколок. Но никогда, ни единого разу мне не пришло в голову этой дружбы стесняться, не говоря – прервать ее.
Среди идиотских стереотипов видное место занимает утверждение, что женщины – существа загадочные и непостижимые. Глупость столь же распространенная, сколь объяснимая: самим женщинам она льстит, а мужикам позволяет уйти от ответа. Всю вторую половину жизни я убеждался, сколь мало какой бы то ни было загадочности в относительной непоследовательности и безответственности, от несколько иного баланса между логикой и эмоциями происходящих. Но – вторую половину. Всю первую я провел ввиду женщины, бывшей самым загадочным человеком из всех, мною встреченных.
Сейчас я даже перед самим собой не могу сказать, в какой мере я действительно воспринимал ее как объект иного пола. Мы ведь общались уже и во времена достаточно половозрелые; да и более-менее опосредованное сексуальное напряжение разного рода – вещь, на самом деле не зависящая от развития вторичных половых признаков… Это точно не была ни одна из разновидностей детской влюбленности – кажется, ни с чьей стороны (с моей – нет). Аська была совсем некрасивой девчонкой. Однако какая-то сложно определимая, но хорошо ощутимая – и противоположного пола представителями в том числе – именно женская составляющая в ней, кажется, имелась. Причем в куда большей мере, чем в сверстницах. Возможно, о чем-то подобном от Гумберт Гумбертова лица и писал энтомологический Владим Владимыч, утверждая, что демоническая сущность нимфетки внешней привлекательности не тождественна. Насколько я помню, некоторые пацаны косились на Аську с довольно специфическим выражением. Насколько я могу судить теперь, подколки некоторых из них в мой адрес не были лишены оттенка зависти.
Что характерно: самым ядовитым из подкольщиков был ФЭД. ФЭД, на меня самого в те времена еще обращавший крайне мало внимания. Суперменистый ФЭД, вообще не особо опускавшийся тогда до мелюзги нашего возраста. ФЭД, бывший на целых четыре года старше нас с Аськой, – которому в наши вполне целомудренные тринадцать было целых семнадцать и который, кажется, уже тогда был половым гигантом…
Черт его знает, с чего и как это произошло – что мы вдруг стали с ним лучшими корешами. Где-то уже в “пункерские” времена… Черт его знает, почему он меня выделил. Вроде, сложно найти двух более разных людей, чем мы с ним. Но, вероятно, противоположности и впрямь притягиваются.
Дружить с Федькой – это уже само по себе было разновидностью экстремального спорта. Адреналин брызжет, все мелькает, дух захватывает, и мало что соображаешь. Лишь успевай на виражах поворачивать. Можно, кстати, и не успеть. Запросто. С соответствующими последствиями. Но кайф – только матерными междометиями и описуемый.
Невозможней, чем не попасть под его обаяние, было только – угнаться за ним. Соответствовать его нагрузкам. Перегрузкам. Любой, угодивший в Федькину орбиту, был вынужден без большой пользы для самомнения всю дорогу в этом убеждаться.
Некоторые пытались с ним соревноваться. Кто в чем. Мало что ФЭД любил больше таких попыток. Да чего там – он всячески сам их провоцировал. Довольно причем, изобретательно: кого на понт брал, перед кем прибеднялся… Результат соревнований был, конечно, всегда одинаков. Но ФЭДу нравилось быть победителем.
В этом отношении я его быстро раскусил – и на провокации не поддавался. По-моему, он меня за это и зауважал. Не знаю. В своих симпатиях-антипатиях Федька был так же непредсказуем, как и во всем остальном.
Пару лет мы с ним тусовались очень плотно. Ну буквально кровными братьями сделались. В прямом смысле тоже – была и совместно пролитая в махаловках, на которые ФЭД без конца, разумеется, нарывался, юха. А также иная, гм, телесная жидкость…
Панковская юность никак не способствует длительному сохранению ряда иллюзий. Начальный период моей личной жизни вышел до крайности неупорядоченным. За редким исключением он комплектовался из девок специфического неформального типажа, в своей комбинации востребованности с нетребовательностью определяемого словосочетанием “плохо лежит”. Темпераментом большинство из них приближалось к предметам неживой природы, а сексуальной взыскательностью – к мусоросборочной машине. Учитывая же, что постоянство и чистоплюйство любого рода тогдашним нашим анархическим кодексом однозначно порицались, легко догадаться, что ротация кадров внутри “системы” была активной и хаотической. (Хотя и тут никуда не деться мне от интеллигентской наследственности: Лоб, например, порол бывшую свою одноклассницу, страшную, как смертный грех, что не помешало ей пару лет отработать блядью в Турции, родить и оставить там ребенка… – на такое у меня все же и тогда не поднималось… ничего.)
Короче, все перли плюс-минус одних и тех мочалок. И уж точно всех их – без исключения практически – юзал гиперактивный Федюня. Понятно, что и у нас с ним тут выходила масса пересечений.
Забавнее… страннее… другое. Что с ним у нас эта сомнительная традиция каким-то образом выжила и после распада “системы”. Вообще на данную тему я старался не задумываться. Просто потому что… ну ее.
Но теперь мне задумываться приходится. И вспоминать. И систематизировать воспоминания. Пусть и представляя заранее, что результат может выйти… показательным.
В данном же случае результатом выходит то обстоятельство, что ФЭД последовательно старался не упускать ни одной моей девки…
По Тилта машины шли густо и на хорошей скорости, опасно-внезапно выныривая слева, со стороны развязки и улицы Дунтес. Из-под колес выхлестывало на тротуар, в воздухе зависали шлейфы мелких капель. Я дождался паузы в автопотоке, перебежал улицу, увернулся от сияющего стеклянного трамвая. Двинул, озираясь поминутно, по Аптиекас вдоль прямоугольных блоков бетонного больничного забора к служебному входу. Дождь судорожно мельтешил под фонарями, в их неприятно-ярком свете было видно, что здание выходящего на Аптиекас двухэтажного корпуса – того самого единственно правильного желтого цвета.
…Лева, санитар с Твайки, позвонил в полседьмого: Кристина пришла к Панковой. Я сорвался, оставив Нику в перепуганном недоумении, схватил мотор. Слава богу, пробки были умеренные. В двадцать минут восьмого вылез у дурки. Слабо представляя, что собираюсь делать. Леву я как-то в голове не держал – мало на этот вариант рассчитывал…
Dienesta.[10] Осторожно захожу во двор. Ну, застану я Кристину… Ну, не станет она со мной разговаривать. Пошлет открытым текстом… Что дальше?.. Заставить – как? Грозить – чем? На людях…
И тут я ее вижу – ч-черт! – Кристина выруливает из-за угла шагах в тридцати. Практически мне навстречу. Я только что смотрел на план больничной территории, я лишь собираюсь повернуться туда, вправо, я пока поворачиваю одну голову… И вижу ее. Я сразу узнаю ее – несмотря на темноту и дождь. Кристи-Тина без зонта и даже без головного убора, руки в карманах куртки. Я рефлекторно отворачиваюсь. У меня на голове просторный капюшон с длинным козырьком – она не должна была меня опознать.
Ну – что?.. Кристи проходит у меня за спиной – к выходу.
Я медленно разворачиваюсь. Девица скрывается за углом – направляясь вправо. Тупо валю следом. Сейчас сядет в машину – и привет… Думай быстрее!
Нет, машина, кажется, ее не ждет – Кристи идет как раз туда, откуда пришел я. К Тилта. На трамвай? Мотор возьмет? Че тут еще?.. Да все че хошь – троллейбус, автобус, электричка даже вон недалеко. Следить за ней?.. Полнейшая глупость… Догнать ее, что ли? Сымпровизирую на ходу…
Только как-то странно она идет… Остановилась. Перешла на другую строну. Осматривается. Останавливаюсь и я, стараясь держаться поближе к забору. (Что-то у нее не так?.. Допустим, все-таки должна была ее ждать машина – и не ждет?.. Только почему – у служебного входа? Я-то таким макаром шел, чтоб не светиться лишний раз на всякий случай… А она? Тоже чтоб не светиться?..)
Девица доходит до конца Аптиекас, останавливается перед трамвайными путями. Я торчу метрах в сорока позади. Кристи держит правую руку у головы – говорит по мобиле. Вдруг оборачивается – я наклоняю голову, прикрываясь козырьком капюшона. Я в темноте, в паузе между фонарями – не разглядит…
Когда я поднимаю лицо – Кристи уже на той стороне улицы. М-мать… Рву бегом. Сквозь траффик вижу, как девка быстро удаляется в перспективу маленькой, перпендикулярной Тилта, улочки – куда она, черт бы ее?.. Яростный дребезг трамвайного звонка – “девятка” накатывает слева, я прыгаю вперед – под “пятерку” со стороны центра… Мать, мать и мать!!
Лесовоз… бензовоз… лесовоз… – взревывающие глыбы мокрого железа прут впритирку, раз за разом охаживая сырыми полотенцами плотной мороси. Прицеп, прицеп… Сейчас я ее и потеряю… Кидаюсь практически под колеса – матерно сигналят, маршрутка чуть не размазывает меня по радиатору… Паркур, бля…
Ну – потерял?.. Кажется… Нет – вон она! Еле видна уже… Быстрее! Улочка – Алекша, если верить табличке, – едва освещенная, узенькая, уходит вкось и чуть под горку. Справа что-то панельное, слева что-то деревянное, подворотни, фигуры в тени. Кристи сворачивает влево. Бегу.
Совсем какой-то дохлый переулок, кривые заборы с граффити: “Батя”, “Бабы суки” (без знаков препинания). Баба-сука вышагивает очень быстро, словно вот-вот сама на бег перейдет. Кажется, целенаправленно. С трудом вижу ее.
Ничего не понимаю – но совершенно мне все это не нравится…
А может, ну ее на хрен?.. Не, ребята, хватит с меня этих риэлити-шоу. Эту мочалку я разведу на разъяснения.
Двор. Полуутопленная в землю – словно средневековый собор, вокруг которого за века культурный слой нарос, – котельная. Дощатые сараи, затоваренная помойка с отдельно лежащим диванным валиком. Где она? Груда булыжников. Кусты. Где? Вон… Подворотня в противоположном конце двора – в ней Кристи и скрывается. Она что, оторваться пытается? От меня? Да не должна была она меня заметить… Снова бегу.
Улица Приежа. Сосновая то бишь. Ну, насчет “улица” – это они ей польстили… Вовсе уже трущобы пошли. Кристи двигает вправо – в ту сторону, где эта При-ежа упирается в заводские ворота (синюшно светят лампы, уходят в неразличимую темень громадные дымовые трубы разного сечения). Ага, опять по мобиле говорит – и снова озирается. Указания, что ли, получает?..
Куда она – на завод? Нет, дойдя до заводского забора, сворачивает вправо. Что за зигзаги, блин? Или она сейчас хочет к Дунтес вырулить? В той же стороне, кажется, Дунтес – большая улица…
Бегом-бегом. Ну е-мое… – щель между забором и кривой халупой, спуск вниз, темень – глаз коли, скольжу на мокрой грязи…
Дождь принимается валить стеной. Ни одного фонаря не горит в этом дворике. Темные массы сгрудившихся двухэтажных домов еле различаются в потемках (и одно только тлеет гнойным светом чердачное какое-то окошко). Ни черта не видать. Никакой Кристи тоже…
Бреду сквозь стену воды, на ощупь практически, пытаясь вслушиваться. Бесполезно. Один ровный, тяжкий, плещущий шорох, да клекот потоков в сточных желобах. Нет, тут тупик. А, вон там подворотня, вроде – тоже темная…
Я уже почти захожу в нее, когда сквозь шипение и шлепанье дождя различаю приглушенные голоса. Замираю. Говорят – тут, в подворотне (ее стены сыро резонируют). В двух шагах. Напряженно. Но вполголоса. В четверть голоса. Ничего не разобрать, кроме того, что один из голосов, кажется, женский. Кристи? Хер знает… Другой, кажется, мужской.
“А мне насрать!” – неожиданно громко: женщина. Точно Кристи! Ругаются, ну да…
Я – у самого угла, я боюсь из-за него показаться, несмотря на темень: слишком уж ЭТИ близко. Метрах, может, в четырех. Если не в трех. Дьявол, ни слова не разобрать… Дождь висит на плечах, как экспедиционный рюкзак, с козырька капюшона – струйки.
Вдруг голоса замолкают – им на смену приходят быстрые и совсем уж невнятные звуки. Вроде короткой возни, чьего-то оханья. Небольшая пауза. Шаги? Какие-то неровные… Удаляются? Кажется… Я наконец высовываюсь из-за угла. И ничего, конечно, все равно не вижу.
Звонкий хлопок – как автомобильная дверца. Или капот, или багажник. Где-то у выхода из подворотни. Еще такой же хлопок. Начинает урчать стартер, и одновременно метрах в пяти-шести передо мной загораются красным задние фары машины. Я шарахаюсь назад – здесь, в этом каменном коридоре, я как на ладони. Но машина стоит ко мне боком – я вижу только багажник. Странно покатый багажник. Какая-то, кажется, сильно старая тачка…
Машина чуть сдает задом – кажется, это старая “Волга”, воспетый Рязановым “ГАЗ-21”, что вдруг сделался в последние годы культовым и дорогим. Разворачивается – мордой в противоположную от подворотни сторону. Я бегу вперед, выскакиваю под ливень – в следующий крошечный дворик. “Волга” притормаживает на выезде из него, собираясь сворачивать на Дунтес, пропуская идущие по ней тачки. Она в этот момент стоит под фонарем, и я разбираю, что стекла у нее тонированные, что “двадцать первый” покрашен в тот самый сиреневато-розовый цвет, какового цвета “кадиллак”, фигурирующий, помнится, в “Wild at Heart” и “True Romance”, Элвис – если опять же верить кино, “Достучаться до небес”, – подарил некогда своей маме. И еще разбираю – номер. DH-1777. Латвийский.
Через пару секунд “Волга” мягко газует (может, и движок ей сменили), выруливает на Дунтес и исчезает в сторону центра. Вот и все.
Я бессмысленно топчусь во дворе, потом зачем-то возвращаюсь в кошками воняющую подворотню. Отбрасываю капюшон. Что тут произошло-то? Достаю зажигалку. Щелкаю, свечу по сторонам. Пятна на стенах, полустершиеся граффити. Свечу под ноги. Делаю пару шагов, снова свечу вокруг. Вниз.
Я стою прямо в небольшой темной луже. Я приседаю, опускаю зажигалку. Что растеклось по растрескавшемуся асфальту, понятно сразу – хотя в таком количестве я ее не видал, наверное, все-таки никогда. Кровь.
26
Звонит Лера – опять что-то случилось. Маховский пропал.
“То есть?” – “Ну, пропал. Никто не знает, где он. Ни родные, ни адвокат. Даже Круминьш ни хрена не понимает: ни разу не помню, чтоб он был таким – откровенно прибалдевшим…” – “С-слушай, давай пересечемся. Быстрее по возможности. Как у тебя?..”
Пересеклись в барчике метрах в тридцати от биофака, прилепившемся к теннисным кортам (на зиму их превращают в каток – а сейчас они праздно зависли в межеумочном состоянии).
– На сегодня психиатрическое обследование его было назначено. – Лера единым круговым движением свежует пачку “Caines”, комкает целлофан, кидает в пепелку. – А его нету нигде. Все. С концами.
Шарю по карманам в поисках зажигалки – дать ей огоньку. Забыл зажигалку. Впопыхах.
Лера достает свою. Перенимаю ее из Лериной руки, скрежещу колесиком… ни фига себе огнемет… но Лера, видимо, приноровилась – заранее отвела ладонью волосы… Разглядываю зажигалку – никогда у нее такой не видел… Лера усмехается.
– Прикол… – Возвращаю ей. – Из чего это?
– Из пулеметного патрона. Говорим о процессе – нервно. Что, не будет теперь никакого процесса? Ну а как ты себе это представляешь – в отсутствие обоих подсудимых? Них-хрена… Значит, ты все правильно предполагала… Что это – менты следы заметают? Очень не исключено… Выходит, в натуре варка – мама не горюй…
(…И странно загнувшийся месяц назад Леонид… И Кристи – что с ней произошло?.. Действительно ж никого не осталось уже, кто более-менее в курсе дела… Нич-че себе зачисточка… Менты, значит… Менты.)
– …Я одно точно знаю: нам сейчас отсвечивать никак, ну вот никак не стоит… и тебе, Дэн, в особенности… Ты понимаешь, Дэн?
Да… Попробуй тут не отсвечивать…
Закуриваю. Зажигалка, бензиновая – из гильзы длиной в палец. Бутылевидной. Самопал. Но стильный.
…Пояснять ей – рассказывать про вчерашнее? Не пояснять?.. Не пояснять.
– Слышь, Лер… Э-э… Ты не можешь… Извини, что я опять тебя юзаю…
Смотрит внимательно, чуть прищурившись: я даже глаза опускаю… целлофановая обертка в пепельнице ежится от стряхиваемых горячих крупинок.
– Можешь ты номер автомобильный пробить?
– А что за номер? Отдуваюсь, мычу, собираю лоб гармошкой…
– Ладно, – Лера. Грустно. – Диктуй.
– Дэ Ха один-семь-семь-семь.
– Сейчас… – Записывает на треугольной салфетке, складывает пополам.
Снова беру ее зажигалку:
– А от какого пулемета гильза, не знаешь?..
– Не помню. От немецкого какого-то. Киваю. Киваю. Поднимаю глаза:
– Откуда она у тебя такая… если не секрет? Медлит:
– А что?
– Да не, ничего… прикольно просто… Молча улыбается: так… про себя.
– Подарок?
– Допустим…
Пять лет назад, в июне девяносто девятого, в Таллин с концертом приезжала “Металлика”. Это был единственный тогда концерт Хэтфилда с компанией (еще той, классической, с Ньюстедом на басу) в Прибалтике – и билеты на него продавались в Риге тоже. Мы с Лехой Соловцом, понятно, не поехать не могли.
Вышло так, что для меня это был первый визит в соседнюю столицу – по городу водил и в марках эстонского пива просвещал меня Сол. Ну, вечерком мы, естественно, вдоволь напрыгались на концерте, сорвали голоса – оба… Обратные билеты у нас были на первый утренний автобус – часов в шесть. Всю ночь – белую, короткую – мы превесело проквасили на смотровой площадке в Вышгороде. С видом на весь Старый город, порт и залив. Оглашая исторический центр ангинными версиями “Гив ми фьюэл” и “Анфогивена”. Пили, как сейчас помню, местную водку “Виру”. Часа за полтора до автобуса, когда пузырь закончился, двинули в сторону автовокзала – городской транспорт еще не ходил. Но по пути еще намеревались затариться добавкой: пьяны были покуда в меру. То есть это мне так казалось.
Дело в том, что то был еще и мой первый совместный опыт более-менее масштабного бухалова с Лёшичем: я не был знаком с его особенностями индивидуального ужора. Особенности же эти для собутыльника чреваты: командный центр в Соловом мозгу перестает функционировать так внезапно и бесповоротно, словно его захватывает вражеский спецназ. То есть по пути с горки Леха еще пытался бойко клеить припозднившихся аборигенок, но к подножию уже перестал реагировать на внешние раздражители, сел – лег – на первую же скамейку и покинул мир живых.
И вот за час до отбытия я оказываюсь не только без представления о дальнейшем маршруте посреди абcолютно безлюдного незнакомого города, но и с трупом на руках, с обратными билетами на конкретный рейс – и практически без денег. (Труп тут не фигура речи. Из приподнятой активной жовиальности Сол скачкообразно переместился в ту стадию опьянения, когда человек представляет собой “вещь, предмет, может быть, тело”: этот телефон не работает…)
Роуд-муви наша дальнейшая заслуживает, бесспорно, увековечения гомеровским гекзаметром; возможно, дожив до пенсии, я этим займусь. Факт то, что кое-как добрались. Потом уже я имел неоднократное счастье наблюдать процесс (если корректно именовать процессом нечто практически одномоментное) Лёшичева срыва в штопор. Помнится, в конце декабря того же самого девяносто девятого по пути в Прагу, где мы встречали миллениум-demo, упитый Леха отключился в сортире “Неоплана”. Через какое-то время свет в “экологическом туалете”, как положено, вырубился. Еще через какое-то время Сол очнулся. И обнаружил себя – ничего спьяну не соображающий! – в теснейшем замкнутом пространстве в кромешной темноте. Ужас похороненного заживо: автобусный салон огласился глухими воплями и гулкими ударами в сортирные стенки…
Почему-то сортир вообще был постоянным соловским порталом для нуль-транспортировки в иную реальность. Кажется, в девяносто девятом (опять же) на собственном дне рождения (в сентябре) Леха пал смертью Винсента Веги на толчке в тогда еще красном “Красном”. Удача: он не озаботился защелкнуть дверь. Мы вдвоем с ФЭДом снимали тело с очка, застегивали пряжки и пуговицы, производили вынос, ловили такси, паковали в салон, волокли на третий этаж в “хрущобе” на Марупес и сгружали на руки безутешным родным, предварительно расшнуровав Лехины ботинки.
А на обратном пути, тут же, на выходе из шашечного строя серокирпичных пятиэтажек, на траверзе анонимного (то есть он, разумеется, называется как-то – но каждый раз, оказываясь у Сола, я забывал глянуть – как) шалмана нас встретили “марупские пацаны”. Актанты Лехиных баллад, коих криминальную грозность я, не столкнувшись с ними ни разу за пару лет, совсем было списал на простительную патриоту родного района и творческой натуре склонность к гиперболизации. Числом четыре (вечная паскуднейшая тактика гопоты: докапываться только при безусловном превосходстве…).
– Закурить будет? – Откуда, интересно, эта неистребимая страсть к сохранению самых анекдотических ритуалов, примета, блядь, архаического сознания?.. Дейче-вой почти весовой категории – только распределенной скорей по горизонтали, жлобина тот еще – флагман безошибочно адресуется к ФЭДу. Прочие гопнички рассредотачиваются классически – один маячит у лидера за плечом, двое берут в клещи – с комическим (наверное: если наблюдать со стороны) видом терпеливой непричастности… Намерения марупских слишком очевидны – как и то, что вечер окончательно перестал быть томным.
Я, страясь определить, “того, которому я предназначен”, жду реакции ФЭДа – готовый ко всему. (Инициативный и непрогнозируемый Федюня горазд начинать драку; кроме того, бить первым ему сподручно – ФЭД ведь левша, так что даже противник с хорошей реакцией почти наверняка его удар не сблокирует.)
– Держи. – Федька вместо этого протягивает пачку. Непринужденно-так-непринужденно. Как мне.
Широченный не с первой попытки выуживает сигарету. Предполагаемый “мой” скучает вполоборота. Костистый, оловянноглазый.
– А прикурить? – Жлобская раскатистая вальяжность.
– Запросто… – ФЭДовы дружелюбие и безмятежность растут с каждой секундой.
Сейчас. Примеряюсь: лучше всего – в носяру (словно правда попаду…). Скрежет, пламя. (Зубы, зубы держать неплотно, но сжатыми – а то раскрошат…)
– Покажь… – Императивно. – Это че у тебя такое?
– Из гильзы, – косится Федька почему-то на меня. – От пулемета фашистского…
– С понтом. – По-моему, сейчас вломит (чего ФЭД ждет?! вечные, на хрен, его заплеты…). – Где надыбал?..
– Сам сделал… – и снова на меня поглядывает. Словно не я его действий жду, чтоб по мере возможностей соответствовать, а наоборот.
– Бля. Клевая муля…
И тут я понимаю – он и правда ждет, чтоб я врезал первым. То есть проверяет – врежу или нет. То есть понятно, что бить первым обязательно, если ты хоть на что-то рассчитываешь, особенно когда все настолько недвусмысленно… А вот пороху хватит?.. Ведь слизнячок-то в подсознанке верещит, что раз они разговоры разговаривают, то, может, и отстанут? Может, обойдется, а? Миром-добром, все же мы люди, все же мы человеки… И я понимаю, что ФЭДу сейчас насрать на исход драки, на возможные пару выбитых зубов насрать – ему гораздо интереснее меня проверить. Это не нас, не его гопники марупские сейчас на испуг берут, а он меня – на слабо.
И вот когда я это понимаю, мне тоже становится насрать на исход и на зубы. И я подмигиваю ФЭДу: хрен те, брат. Не покупаюсь я на твои провокации…
– На. – Широкий возвращает hand made огнемет (приступ немотивированного превосходственного благодушия – бывает, хотя и редко… Или?..). – Ну че, спасибо…
– Да не за что…
– Ты сам с какого района?..
– С Иманты…
– А че здесь-то?..
– Корефана привозили. Именинника…
– Че, нажрался?..
– Ну…
– Ну ладно… бывайте, пацаны… (Тут еще важно не убыстрять шаг. Не мельтешить.
Неторопливо… Из окна хачевского общежития – музон: тягучие индусские подвывания. Во влажном асфальте монотонно мигает одинокая светофорная желтизна.)
– Не вышло сегодня подраться? – Федюня весел. Выщелкивает, прикуривает, протягивает. – Будешь?
(Ну – и кто кого победил? Мы их? Они нас? Я ФЭДа? ФЭД меня?)
– Давай.
(Натурально, огнемет. Сама зажигалка – в палец, факел – чуть не в полтора. Из гильзы MG Федюня ее соорудил, немецкого станкача времен Великой Отечественной. Долго отдраивал ржавый сувенир – от кореша, роющего в поисках оружейного эха войны болотистую пересеченку когдатошнего Курляндского котла, – сверлил, паял… Зато другой такой ни у кого нет.)
Маетная противная телесная легкость, неизбежное мышечное похмелье…
– Че, по пивасику еще? – Он скребет сквозь канареечную тишотку с надписью “US Navy” даже так просматривающийся грудной рельеф.
Ты вообще стремаешься когда-нибудь, блин?..
Почти метр девяносто и пропорционально широкий в плечах. Никогда специально не качаясь, он был мускулист от природы – но сухо, жилисто мускулист, поджаро. И тонок в кости. С узкими интеллигентными кистями и стопами маловероятного сорок третьего размера.
Частично монголоидное происхождение по его лицу определить было практически невозможно – но сразу бросающуюся в глаза экзотичность оно ему придавало. Азиатские скулы, светло-серые, но миндалевидные, почти бабские глаза. Вчуже полагаю, пидоры от него бы съезжали с катушек. Но даже боюсь представить, что бы стало с тем пидором, который рискнул бы ему об этом сказать.
Светлые волосы, всегда, сколько его помню, пребывавшие в большем или меньшем беспорядке, – он уделял им (как и вообще внешности) минимум внимания, а в какой-то момент, годам к четырнадцати, окончательно наскучив регулярными походами в парикмахерскую (его буквально трясло от любого регулярного принудительного действия), стал попросту подвязывать их ботиночным шнурком… От тех же привычек происходящая вечная небритость, периодически достигавшая состояния довольно гнусной эспаньолки. Кривоватый – еще в глубоком детстве свернутый, в драке, разумеется, – нос. Четыре кольца в левом ухе, добавившиеся в “альтернативно-музыкальную” эпоху.
…На большем или меньшем удалении от этого человека – но так или иначе в постоянном, даже если заочном, его присутствии я провел всю сознательную жизнь. Некоторое время считал его лучшим другом. Учился у него: драться, пить, похмеляться, цеплять девок, бросать девок, греть в фольге перед забивкой шарик гаша, ненавидеть ментов, метать ножик, презирать мажоров, играть на гитаре, плевать на деньги и собственные мелкие заморочки, вязать “восьмерку” и “двойную восьмерку”, переть в главном до конца. Я видел его обдолбанным в кашу, зеленым с бодуна, испражняющимся, совокупляющимся, измордованным. Я думал, что знаю его, как себя.
Теперь я понимаю, что никогда его не знал.
Нечеткий силуэт на фоне солнца на ограде площадки телебашни – спиной ко мне…
Стоящий спиной ко мне светловолосый амбал в темно-синей куртке в помещении студии “ДК Dance”…
…Мой личный мартиролог, поименно продиктованный мне. Что связывает этих людей, кроме меня? Кто?
С Аськой он, как и я, рос в одном дворе. Я не помню, рассказывал ли я ему про Кобу – но вполне мог рассказывать. С Крэшем он дружил поболе моего – и если я не делился с ФЭДом “лосиными” телегами, то почему не мог поделиться Костян?.. С Гвидо Эпнерсом он меня свел. С Димой Якушевым он, оказывается, как минимум приятельствовал (а значит, теоретически мог разжиться и его тетрадочками). С Володькой Эйдельманом общался довольно плотно – плотней опять же, чем я. С Санькой Князевой… с Санькой до его отъезда в Москву они знакомы не были.
“…Дэн, я с одним человеком общалась, ему двадцать восемь лет…” ФЭДу сейчас двадцать восемь.
“…У нее не было кровоподтека на лице – вот тут, с правой стороны?..” Провожу пальцами по собственной правой скуле, на которой еще отлично видна царапина.
“…А как он выглядел, этот Коба?..” – “Хорошо выглядел. Лет, наверное, под тридцать, крупненький такой. Высокий, бицепсы, полный порядок. И я говорю, блондин. Нибелунг такой…”
Мы с Никой начали встречаться, когда ФЭД был еще в Риге. Но, памятуя историю с Дашкой, между собой знакомить я их не спешил. А потом Федька свалил…
И только теперь наконец я понимаю, что цепануло меня в разговоре с московской девушкой Ликой. Фред. Она поминала его под этой никогда нами не использовавшейся кликухой. Сашка Князева, ответив единственный раз на вызов, озвученный “Paint It Black”, – вспомнил-таки! – называла собеседника так же: Фредом.
– Стас, ты помнишь того… человека, с которым Сашка стала встречаться после тебя? Ты говорил, ты его видел… Ты его хорошо тогда разглядел?
– Н-ну, не так чтоб очень… я… издалека все-таки… А что?
– Сейчас я тебе фотку покажу и одного пацана на ней. Скажи, это он?
– А что такое?
– Да нет, ничего. Просто скажи, ладно? Вот. Вот этот. На остальных внимания не обращай (на всех более-менее четких фотках с Федькой, какие я смог нарыть в своем бардаке, был либо я сам, либо кто-то еще – показываю в итоге Тюре кадр, где они с Лбом, Серегой и батареей пива: что бедный Стас подумает?..)……
Стас смотрит на фотку – долго: но я сразу, даже никакими психологическими спецумениями не обладая, понимаю, что ФЭДа он опознал с первого взгляда. Потом Тюря поднимает глаза и некоторое время разглядывает уже меня:
– Кто это?
– Это он, да?
– Допустим… Кто это?
(Сначала я вообще хотел сунуть Федькину фотографию Нике: не тот ли, мол, грузин из “Кугитиса”?.. – не стал. Не из логических соображений даже, а из интуитивного, скорее, позыва – но достаточно четкого…)
– Вряд ли тебе его имя что-то скажет. Федор Дейч.
– И кто он?
– Не знаю, Стас… Честное слово – уже не знаю.
Подходя к своему дому, я замечаю ее издалека. Старую “Волгу”, “ГАЗ-21”, выпендрежного розового цвета. Тачка торчит почти напротив моих дверей – абсолютно не скрываясь.
Я останавливаюсь за два подъезда. Я просто не знаю, что делать. У “Волги” тонированные стекла – так что непонятно, сидит ли в ней кто, и если сидит, то сколько народу. После зрелища лужи крови в подворотне на Дунтес у меня мало желания особо выдрючиваться…
Суки. И ведь суки наглые, и наглость свою демонстрируют – вот так вот, под окнами, не где-нибудь… Пугаете, бляди? (Что ж, нельзя сказать, что совсем безуспешно…) Шальная мысль: не могут это быть две разные машины?.. Да что за бред – две разные именно старые “Волги” именно такой расцветки?.. Кстати, это легко проверить… По крайней мере, если они тут так открыто такие приметные торчат, вряд ли приехали меня валить – у собственного подъезда…
Иду. Прохожу мимо. DH-1777. Она, она родимая… Ну, вот он я – что дальше? Повернувшись к тачиле спиной – набрать три цифры кода на двери, – несколько секунд ощущаю себя не слишком уютно… Ничего не происходит.