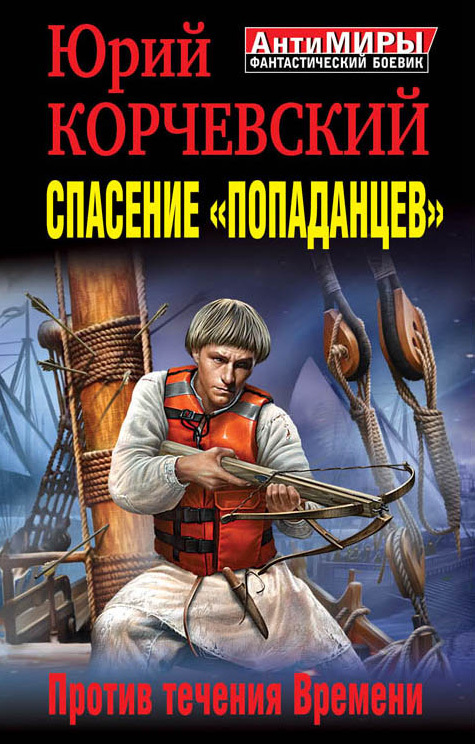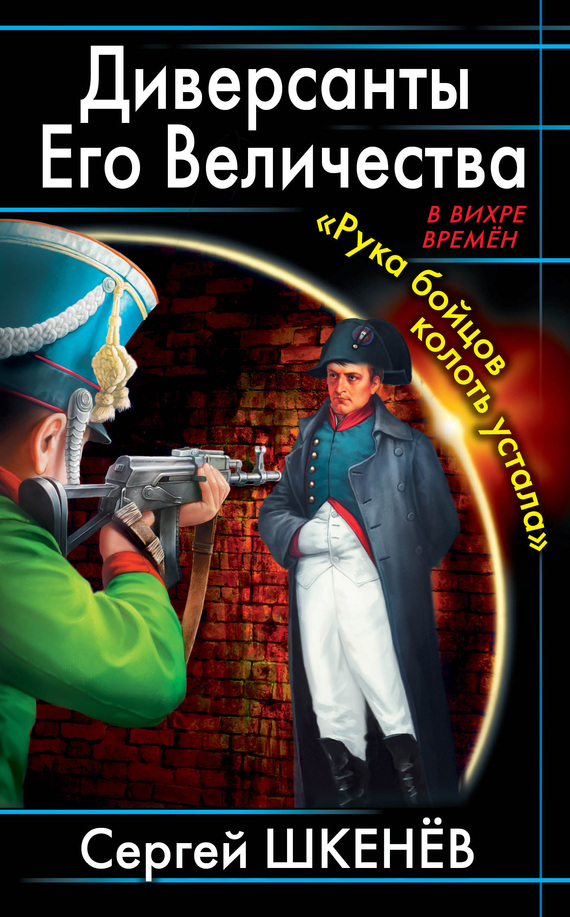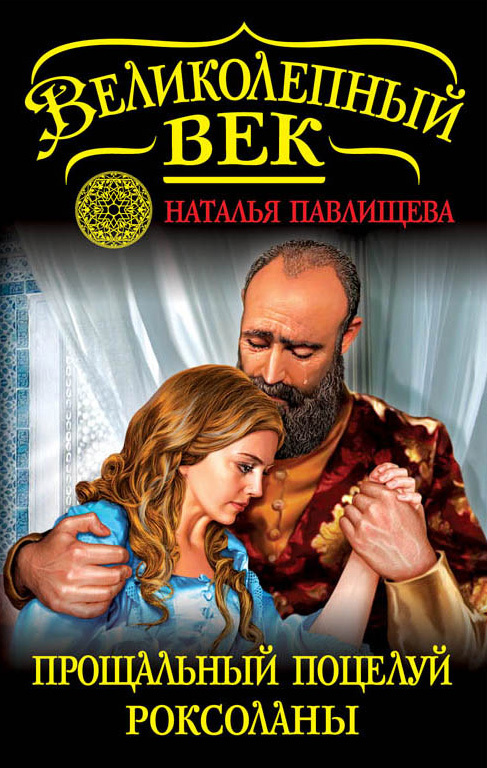Физиогномика и выражение чувств Мантегацца Паоло

Это аналитическое исследование дает нам, между прочим, метод, с помощью которого можно наблюдать и описывать проявления всех остальных форм мимического лицемерия.
Притворное удовольствие, например, выражается принужденным смехом, глубокими и продолжительными вздохами, вылетающими невпопад и без меры. Притворный гнев сказывается усиленными движениями членов и принужденным сокращением бровей, между тем как губы невольно улыбаются, а глаз смотрит в другую сторону.
Все притворные выражения могут быть сведены к двум типам:
Преувеличение слабого волнения или имитация волнения не существующего.
Ослабление мимического выражения или полное угнетение (скрытие) этого выражения.
Стараясь преувеличить мимику, мы почти всегда хватаем через край и выходим за пределы вероятного. Это упражнение в лицемерии нас утомляет; поэтому, мы часто отдыхаем, и в эти промежутки, сами того не замечая, нередко примешиваем к избранной нами роли мимику диаметрально противоположную.
Так, однажды я видел, как одна женщина при получении наследства от своего брата, билась головою о стену и рыдала, прикидываясь неутешной, а потом вдруг залилась смехом. Точно также, когда выражают напускное религиозное чувство, притворное удивление или сострадание, может случиться, что при этом вырвется внезапно циничный или язвительный смех, или промелькнет смешная гримаса поддразнивания языком.
Преувеличивание выражения, беспорядок в движениях, заметные перемены – вот самые выдающиеся признаки мимики, которая стремится выразить больше, чем сколько чувствуется на самом деле, или уверить в существовании такого волнения, которого совсем нет на лицо.
Есть, впрочем, и другой признак, еще более постоянный, но, вследствие своей тонкости, большей частью ускользающий от внимания заурядных наблюдателей.
Из всех мускулов более всего подчинены нашей воле мускулы туловища и членов; лицевые мышцы уже не так ей повинуются, глазные же – самые независимые из всех. Вот почему в притворном выражении является столько движений руками и ногами, столько сокращений лицевых мускулов, в то время как глаз мужественно сопротивляется лжи или, по крайней мере, поддается ей последним. Вы видите ураган в миниатюре, перед вами целая буря конвульсий; но глаз остается неподвижным и апатичным – и этого достаточно, чтобы обнаружить тайну притворства. Слезы очень редко текут из глаз при напускном страдании, и только разве некоторые женщины, по истине гении лжи, умудряются иной раз проливать настоящие слезы, не испытывая ни малейшей печали. В обыкновенном состоянии, слезные железы не повинуются нашей воле; но, путем длительных упражнений, их тоже удается подчинить себе и приурочить к известному порядку; тогда они начинают выпускать свою драгоценную влагу, как только в этом представится надобность отъявленному лицемеру, желающему обмануть ближнего.
Приучившись с детства выражать то, чего не чувствуешь, можно сделаться великим артистом лицемерия; но и достигшие в этой области первоклассного таланта все-таки постоянно боятся потерпеть неудачу в своем искусстве, так как чувствуют разницу между искренним чувством и разыгрываемой комедией. Отсюда – неудержимая склонность к преувеличиванию, беспрестанное сомнение относительно удовлетворительности своей мимики и потребность усиливать ее криками и словами. Сильная скорбь почти всегда безмолвна, и самое большее, если она сопровождается такими жизненными явлениями, которые можно бы назвать автоматическими, и к которым относятся, например, вздохи и стоны; наоборот, волнения притворные чаще всего бывают красноречивы и сопровождаются большими взрывами болтливости.
Наоборот, если с какой-нибудь целью стараются скрыть волнение, то прибегают к совершенно противоположным приемам.
Прежде всего, является стремление ограничить область мимики, при этом, естественно, начинают с таких мускулов, которые быстрее и легче всего подчиняются нашей воли. Прежде всего, стало быть, приостанавливают движения ног, рук, туловища, шеи. По мере того как возрастает умеряющее действие мозговых полушарий, мимическое поле все более и более суживается, так что прекращаются даже движения мышц рта и щек, пока, наконец, выражение не очутится в границах той последней территории, которая во все времена и на всех языках недаром называлась зеркалом души.
Именно в области глаз происходит решительная битва; они представляют собою последнюю крепость, где выражение сосредоточивает все свои силы и часто остается победителем, хотя бы оно уже покинуло все остальные области мимики. Толпа, которая смотрит на вещи поверхностно, скажет теперь, что волнение прошло, или что его вовсе не было, и скажет это потому, что она видит неподвижность членов и туловища и бесстрастное выражение лица; но более внимательный наблюдатель найдет, что в глазах собраны теперь все силы, рассеянные перед ним на обширном пространстве, и справедливо признает, что в данном случае волнение еще очень сильно, но оно всецело сосредоточено в тесной крепости.
Иногда с помощью лицемерия или героизма (ибо, рассуждая о физиологии известного явления, можно не принимать в соображение нравственной его стороны) удается наложить тормоз на все мимические мышцы туловища и конечностей, но тогда на сцену выступает противоположная мимика. Мы донельзя огорчены и оскорблены, а между тем смеемся и оживленно двигаем пальцами, шеей или ногами. Все наше тело выражает удовлетворение; только один глаз молчит и сопротивляется этой оргии криводушия. Но вот вдруг две крупные слезы катятся по щекам и выдают тайну грустной борьбы, которая только что происходила. Великие живописцы и драматурги умеют воспроизводить все сокровенные красоты этих возвышенных картин; нам же, не причисляющим себя ни к живописцам, ни к актерам, приходится изучать эти усложнения мимики, чтобы иметь возможность лучше ориентироваться в жизни.
Я не раз подмечал, как некоторые дети, казавшиеся сильно углубленными в свои занятия, предавались своим порокам, при чем я следил только за выражением их глаз, которые одни выдавали то, что удавалось скрыть остальным частям тела.
Сосудодвигательные нервы, в свою очередь, почти или совершенно не подчиняются воле. Поэтому, на внезапную красноту или бледность лица также следует обращать большое внимание: та и другая часто невольно выдают известное волнение, хотя бы во всей остальной мимической области и даже в сфере глаза нельзя было открыть ни малейших его следов.
Если во время оживленного разговора в театр или в бальную залу неожиданно войдет лицо, которому отдается предпочтение, то можно сказать, наверное, что в девяноста случаях из ста влюбленная в него женщина внезапно покраснеет или что случается гораздо реже, побледнеет. Ни одним знаком удивления, никакой улыбкой, никаким движением она не приветствовала этого появления, исключая, быть может глаза, который закрылся, или века, которое опустилось, с тем, чтобы скрыть внезапный блеск этого зеркала души; но сосудодвигательные нервы должны были уступить волнению и вызвали краску или бледность лица.
Если при входе в залу возлюбленного мужчины не изменяется цвет лица и не опускаются веки у любимой женщины, то одно из двух: или она его не любит, или уже успела дойти до такого совершенства в лицемерии, что можно усомниться, бьется ли еще сердце в ее груди.
Мужчины с твердою волей и женщины, слишком долго упражнявшиеся в притворстве, вытеснив мимику в последнее ее убежище, т. е. в глаза, иногда одерживают над ней победу даже в этой неприступной крепости, так что внутреннее пламя уже никоим образом не может вырваться наружу. Но когда таким образом закрыты все клапаны мимического выражения, почти всегда случается, что один из членов (нога, рука, палец) внезапно поражается ритмической судорогой и начинает правильно выбивать такт. По большей части ударяют пальцем по какому-нибудь твердому предмету, таким образом, чтобы это производило шум, или же постукивают ногою о землю. Реже наблюдается тяжелое, затрудненное дыхание, которое может даже превратиться в свист.
Явления эти нередко можно проверить в тех случаях, когда стараются скрыть гнев. Последний тем сильнее, чем чаще повторяются ритмичные удары, заменяющие в данном случае обычную экспансивную мимику, особенно если она сопровождается затрудненным дыханием. Кажется, что в этом случае не только в переносном смысле тут ключом кипит закрытый котел, который может ежеминутно лопнуть, но что действительно дело идет о полоненной силе, вырывающейся из своей тюрьмы с бешенством, тем более ярым и стремительным, чем теснее найденный ею выход.
Во всех этих случаях притворства и скрытности дело идет, в сущности, о проявлении мышечной силы или, самое большее, о сопутствующих ему отдельных феноменах, каково, например, проливание слез; но существуют и другие, более глубокие и вместе с тем более темные для нас трансформации силы, при которых явление чисто мимическое переходит в психические, более возвышенные сферы. Не желая выходить из пределов темы, которой посвящено это сочинение, мы должны, однако, исследовать, каким образом означенные явления могут быть связаны с мимикой.
Довольно часто усилие, сделанное с целью скрыть волнение, бывает настолько громадно, что, продлись оно несколько дольше, оно непременно вызвало бы глубокие расстройства в нервных центрах. Сила мимики, не находя себе исхода в мышечной системе, стремится уже в область мысли и создает здесь новые и мощные выразительные формы. Положим, что в залу входит мужчина и любящая его женщина не выкажет никакого волнения; но из молчаливой она вдруг сделается чрезвычайно разговорчивой, а если перед тем она участвовала в разговоре, но равнодушно, то теперь она начнет говорить с воодушевлением; звук ее голоса изменяется и может даже сделаться музыкальным. Чаще всего она забывает предмет разговора, и по какой-то странной, причудливой ассоциации идей принимается болтать о сотне посторонних вещей, не имеющих отношения ни к предмету общего разговора, ни к обществу, в котором она находится. Неожиданные ласки к ребенку, которого она до тех пор не замечала; внезапное восхищение картиной иди мебелью, мимо которой она проходила сто раз без всякого внимания, – вот очень драгоценные и важные признаки, указывающее нам на то, что волнение было очень сильно, но, не имея возможности вылиться в естественное мимическое выражение, оно вторглось в сферу мысли и чувства и вдруг пробудило там необычную и беспорядочную деятельность.
Власти, творящие суд; матери, воспитывающие своих детей; девушки, начинающие любить; женщины, дерзающие оставаться наедине с развратниками; президенты, составляющие министерство, – все вы, отыскивающие на человеческом лице следы виновности или невинности, любви или измены, опасности, самолюбия или ложной скромности, должны изучать самым тщательным образом те факторы, которые умеряют мимику и делают ее изменчивой.
Глава XX. Способы оценки степени и силы волнения при помощи мимики
Лицо почти неподвижное не выражает ничего; лицо очень подвижное может выражать сильное волнение; лицо же совершенно неподвижное способно выразить самую высшую степень волнения.
Я не плакал, но все у меня окаменело внутри.
Вот стих, памятный всему миру и показывающий, что наш великий поэт был вместе с тем и глубоким наблюдателем. В то же время он нам доказывает, до какой степени трудно измерять напряженность волнения по известной степени мимики. Не подлежит никакому сомнению, что и в мимике крайности тоже сходятся, и что циничный смех может сопровождать мучительное страдание, подобно тому как слезы порою служат знаком величайшей радости.
Проникая своим скальпелем глубже, мы узнаем, что запутанность отношений не так велика, как это казалось с первого взгляда. Лицо, сделавшееся неподвижным под влиянием чрезмерного волнения, приходит в состояние непрерывного или титанического сокращения, тогда как на лице, лишенном выразительности или безразличном, мышцы находятся в состоянии полупокоя, при котором не происходит ни малейшего нарушения равновесия ни между мышцами поднимающею и опускающею губу, ни в сфере мускулов, направляющих глазное яблоко в ту или другую сторону горизонта. Безразличное лицо представляем общую, но не спазмолическую неподвижность, при чем на нем не замечается никаких характерных расслаблений, а также никаких специальных сокращений. Омнибус – одно из лучших мест, где удается наблюдать некоторые образчики таких безразличных или нейтральных физиономий; но при этом следует оговориться, что вполне индифферентные лица встречаются весьма редко. Малейшей степени внимания, скуки, удовольствия или страдания, простого вспоминания смешного слова или тяжелой сцены уже достаточно, чтобы придать глазу более блеска, чтобы заставить приподнять или опустить угол рта и таким образом вызвать на лице легкую мимическую игру. Безусловно, отрицательное выражение на лице человека, который не спит, встречается до такой степени редко, что даже на полотне или мраморе, в портретах, снятых без намерения передать какую-нибудь страсть, – словом везде мы непременно отыскиваем ту или другую черту, раскрывающую мысль, характер, и вообще известные следы психического акта. И чаще всего подобная черта действительно существует, так как многократное повторение одного и того же выражения рисует или высекает ее на лице, и если живописец или скульптур – не простой копировальщик носов и ушей, он обязан воспроизвести те черты физиономии, которые относятся к области мимики. Это так же верно, что, рассматривая известный портрет, мы каждый раз ищем это выражение: если мы его не находим и следовательно не можем сказать, что физиономия выражает ум или вдохновение, или же что она похотливая, печальная или веселая, то мы говорим, что данное лицо – тупое, а это для нас почти синоним лица вполне апатичного и лишенного всякого выражения.
Один из моих ближайших друзей до того не общителен, что мимика его отличается поразительно слабой выразительностью: но когда он читает или слышит что-либо, способное вызвать в нем удивление, он вытягивает в вертикальном направление туловище, – все равно, сидит ли он или стоит, – и этим простым движением выражает свое волнение и удивление.
Из состояния полной апатии, соответствующей нулю, постепенно, шаг за шагом, переходят к выражению высших степеней сладострастия, отчаяния, гнева или любви.
Таблица 7
Степени выражения: а, б – удовольствия, в, г – страдания, д, ж – любви, з, е – ненависти.
Независимо от природы чувства, которое движет нами, сила душевного волнения определяется следующими данными:
1. Силою сокращений мимических мышц.
2. Устойчивостью этих сокращений.
3. Распространением движений в смысле более и более обширных мимических кругов.
4. Быстротою чередования периодов сокращения и расслабления.
Обыкновенно напряженность волнения измеряется силою сокращений. На таблицах, приложенных к этому сочинению, можно видеть первые следы развивающейся улыбки и смех во все горло, легкое облако скорби и жестокое страдание, равно как и различные степени ненависти и любви, выражающиеся по преимуществу количественным различием мышечной энергии, присущей мимическим движениям.
Акт стискивания челюстей, прижимаемых одна к другой, есть один из самых верных признаков гнева; но от простого закрытия рта постепенно переходят к скрежету зубов и, наконец, к спазмолическому сокращению мышц, какое мне случилось однажды наблюдать у одной женщины в припадке ревности.
Устойчивость мимического явления служит менее надежным признаком, ибо самые сильные волнения длятся недолго. Вообще, однако, если дело идет о сильном, но не чрезмерном волнения, устойчивость выражения может свидетельствовать о напряженности соответствующего психического явления. Продолжительные слезы обыкновенно сопровождают затяжные страдания (при прочих равных условиях), а долго не умолкающий смех едва в состоянии освободить нас от того сильного напряжения, которое вызывается в нас очень комической или смешной сценой.
Распространение мимики в форме все более и более расширяющихся кругов может, пожалуй, служить более точным мерилом силы волнения. Сначала мимическая картина выражается небольшим числом мышц, затем выражение распространяется на мышцы все более и более отдаленные и, наконец, оно становится всеобъемлющим.
То, что происходит в подобном случае, напоминает те центробежные круги, которые образует на поверхности озера камень, брошенный в него.
Это прогрессивное распространение мимики можно изучать, наблюдая улыбку, которая в начале едва сокращает поднимателя верхней губы, а впоследствии превращается в смех, в котором участвуют все мышцы лица, равно как грудобрюшная преграда и дыхательные мышцы грудной клетки и шеи; когда смех становится неумеренным и чрезвычайным, то в сотрясение приходят руки, ноги и мышцы туловища, и, в конце концов, данное волнение, выйдя из пределов цереброспинальной системы, вторгается, по-видимому, в сферу сочувственной нервной системы и обусловливает непроизвольные отделения мочи и кишечных газов.
Распространено мимических кругов следует известным законам сопредельности и симпатии. На лице это происходить, как кажется, просто вследствие смежного расположения мышц, с чем неизбежно совпадает и смежность соответственных нервно-двигательных (эксцитомоторных) центров. После лица следует шея, которая тоже часто приходит в движение, затем руки, далее туловище и, наконец, ноги.
Вообще говоря, высокое искусство представляет больше мимики, чем искусство второразрядное, а возрастающая напряженность речи и воли сопровождается даже движениями рук и ног. Впрочем, в некоторых случаях, сочувственное сообщение между мимическими кругами происходите скорее вследствие соответствия отправления, чем благодаря смежности выразительных мускулов. Таким образом случается, что сладострастная мимика лица, по мере того как волнение становится более сильным, вызывает сочувственное возбуждение в мышцах таза и нижних конечностей прежде, чем в мускулах руки, не смотря на то, что эти последние отличаются большею выразительностью.
Плечо и рука – это настоящие орудия мимики: они совершенствуют, утончают, и дополняюсь мимическую деятельность лица. К поцелую, который обрисовывается на губах, примешивается либо улыбка, либо соединение рук в знак обожания. При изумлении, вместе с широким раскрытием рта и расширением глаз, происходить переплетение пальцев рук. К губам, сжатым под влиянием пива, присоединяются стиснутый кулак и горизонтально протянутая рука и т. д.
Как ни разнообразны отправления мышц лица, туловища и конечностей, тем не менее, при распространении мимического выражения по различным мышечным областям общий характер известной выразительной формы постоянно сохраняется. Таким образом, внезапная и сильная радость, вызывая на лице движения исключительно центробежного свойства, вместе с тем неудержимо заставляет широко расставлять руки, потом ноги. И наоборот, жестокая печаль, придавая всем мышцам лица одно общее центростремительное направление, заставляет приблизить к средней линии тела как руки, так и нижние конечности. Это зависит оттого, что выражение удовольствия всегда центробежно, а выражение страдания всегда центростремительно.
Расширение мимического поля соответственно возрастающему напряженно волнению представляет собою один из главных законов, управляющих распространением движений, и в основе этого закона лежит весьма простое, элементарное физическое явление. Небольшого числа нервов и мышц не хватило бы для распространения и превращения данного количества психического движения. И вот, после того как истощены все средства цереброспинальной и симпатической нервной системы, мимические акты иногда, по-видимому, стремятся выйти из нас наружу, при чем мы сочувственным образом вовлекаем в движение внешние, окружающие нас предметы, как одушевленные, так и неодушевленные. Как часто человек, опьяненный счастьем, в период наибольшего напряжения мышц своего тела заставлял танцевать стулья и столы своей комнаты, а также своих друзей, если только они находились под рукою! В других случаях, те же предметы, попадая в наше распоряжение, становятся как бы метательными снарядами, которые в припадке страдания или ненависти мы далеко отбрасываем от себя с большой центробежной силой.
Следующая схематическая фигура представляет графически распространение мимических кругов, в том виде, какое оно имеет в большинстве случаев; начинаясь с лица, движение переходит на шею, руки, туловище, нижние конечности и, наконец, в бессознательную область своей чувственной нервной системы.
Рис. 3
Последний критерий, весьма важный для измерения силы волнения, заключается в быстроте чередования мимических сокращений и расслаблений, т. е. в последовательной смене различных мимических картин. Здесь напряженная сила центрального движения, сопровождающего данное волнение, благодаря именно такой смене, находит возможность освободиться к несомненной пользе нервных центров. Это чередование особенно ясно можно наблюдать при выражениях страдания: за слезами следуют рыдания, стоны, крики, вздохи, вздрагивания, и все эти явления могут следовать одно за другим в различном порядке.
Таким образом, спазмолический и удушливый смех может чередоваться с воплями и различного рода конвульсиями.
Когда все четыре элемента, исследованные нами порознь, соединяются вместе и сочетаются между собою, тогда уже в одной мимической сцене находятся налицо все доказательства сильной напряженности волнения. Действительно в одно и тоже время могут проявиться сильные сокращения и сокращения продолжительные, а также широкое распространение мимических явлений и последовательная смена различных картин.
При самых высших степенях волнения ни одно из этих условий само по себе, ни все четыре, взятые одновременно или последовательно одно за другим, не оказываются достаточными для полного воспроизведения мимической картины. В этих случаях имеет место паралитическая форма выражения, вызываемая истощением нервных центров и усталостью мимических мышц. Отсутствие движений может быть абсолютным или почти полным. Но это уже совсем не та неподвижность, какую представляет тот, у кого все внутри окаменело; это скорее неподвижность мнимой смерти. Много, если при этом замечается несколько характерных следов того волнения, которое привело нас к такому крайнему состоянию. Крик – я умираю – одинаково может служить выражением как крайней степени удовольствия, так и чрезмерного страдания; обморок может быть последним финалом яростного гнева, равно как неистовой зависти, или обманутого честолюбия. Глубокий наблюдатель в подобных случаях всегда может открыть истинную причину этой высшей мимической катастрофы. Великие художники умеют изображать различным образом, но одинаково хорошо Франциску де Римини в тот момент, когда она в объятиях Павла перестает читать роковую книгу, и христианскую мученицу, падающую в обморок от ужаса пред секирою палача.
Глава XXI. Пять критериев относительно человеческого лица
Человеческое лицо представляет нам такое обширное поле для наблюдений, что с самого детства мы привыкаем считать его важнейшим предметом среди всего одушевленного, окружающего нас мира. Можно сказать, что самый первобытный дикарь, более всего похожий на обезьяну, все-таки, будучи животным общительным, чувствует потребность прямо смотреть на другого дикаря с тем, чтобы читать на его лице угрозу или любовь, желание или страдание. Наши дети, с самого юного возраста, не получившие еще никакого воспитания, очень скоро приобретают достаточно опытности для надлежащего понимания языка человеческой мимики: в этом отношении они обладают даже удивительной проницательностью, так что могут угадывать наши желания, дурное расположение духа, наши подозрения, прежде чем мы выразим все это словами. Эта опытность из году в год совершенствуется и, в конце концов, создает в каждом из нас известный физиономический талант, который, начиная с бессознательного толкования наиболее автоматических явлений, постепенно возвышается до самого утонченного распознавания морщин, улыбок и слез. Это и есть обильная жатва, откуда наука должна выбрать несколько содержащихся в ней спелых и здоровых зерен, отделивши их от всей мякины легкомысленных догадок, и предположена, от всей туманности того инстинкта, который умеет только предчувствовать истину, но не способен передать ее в ясных и точных выражениях.
Бросив взгляд на человеческое лицо, мы сразу, пожалуй, не заметим цвета глаз, формы подбородка или длины носа; но почти всегда мы в состоянии при этом сформулировать нисколько суждений, относящихся к одной из следующих пяти главных проблем, представляемых лицом каждого человека.
1. Состояние здоровья или болезни.
2. Степень красоты или безобразия.
3. Нравственные качества.
4. Умственные качества.
5. Раса.
Эти пять проблем приводят к пяти различным критериям, которые мы можем применить к человеческому лицу, а именно:
1. Критерий физиологический.
2. Критерий эстетический.
3. Критерий нравственный.
4. Критерий умственный.
5. Критерий этнический.
Когда я имел удовольствие считать в числе своих учеников несколько интеллигентных молодых людей, слушавших курс филологии и философии во флорентийском институте высших наук, я старался поощрять в них дух наблюдательности. Обыкновенно одни только натуралисты тренируют в себе эту способность, а между тем для всех, желающих изучать психические явления, тоже было бы необходимо развивать ее в себе путем правильного, рационального упражнения. Вместо этого, именно в силу того, что названные явления сложны и неясны, они предоставляются произволу эмпирических догадок, или же их стараются постигнуть на крыльях метафизического Икара.
Вот каким образом я тренировал моих молодых людей: я клал перед ними хороший фотографический снимок мужчины или женщины и предлагал им высказать об этом незнакомом лице троякого рода суждение: эстетическое, нравственное и интеллектуальное. Я не ставил им задачей определение здоровья или расы, потому что для оценки первого фотография представляет разве лишь недостаточные данные, а второе – требует этнологических познаний, которыми эти молодые люди не обладали. Собрав сведения, заключавшая в себе троякий приговор, я обсуждал их вместе с моими учениками, спрашивая последних о мотивах высказанных ими суждений; затем, делая выкладки из этих цифр, я составлял свою статистику. Во избежание сбивчивости при таких суждениях, я предложил употреблять только три формулы для каждого определения: красивый, безобразный и посредственный – в эстетическом отношении; добрый, злой и посредственный – в нравственном; умный, глупый и посредственный – со стороны умственного развития.
Вот результат моих экспериментов, сгруппированный в одной таблице, которая доказывает всю пользу подобного рода исследований. Когда теоретическая философия, мораль, метафизика и множество других ложных наук, следуя естественному закону развития, преобразуются в экспериментальную психологию, тогда чувство и мысль будут изучаться только этим методом.
Оказывается, что наибольшее число согласных показаний дано в области нравственной оценки и меньше всего в области умственной; эстетическая оценка занимает середину – и это совершенно естественно.
Чувства оставляют на нашем лице более глубокий и более характерный след, чем мысль, а с другой стороны, выражение последней может совершенно исчезнуть в фотографии. Большинство наших фотографов обладают драгоценной способностью превращать в идиота гениального человека, будь это Данте или Шекспир. Кстати, я всегда буду вспоминать одного смелого фотографа, который, желая мне всякого добра, добивался с помощью различных манер и артистических поз сделать из меня Аполлона или Байрона. Как он ни старался осуществить эту мечту, но в каждом новом портрете получалось все больше и больше безобразия и тупости выражения. Я ему не мешал и, насколько хватало у меня терпения и снисходительности, покорялся пытке, которой он меня подвергал, имея лучшие и самые чистые намерения. Наконец, после десятой или одиннадцатой пробы я сказал этому усердному другу: «На этот раз вы все-таки достигнете своей цели и получите тип совершенного кретина».
Есть и другая причина, вследствие которой наши суждения часто гармонируют между собою в деле нравственной оценки человеческого лица, а именно привычка, начало которой кроется в самом раннем детстве, направлять свою наблюдательность в этом смысле. Ничто нас так не интересует, как знание того, чего можно ждать, с хорошей или дурной стороны, от известной женщины или от известного мужчины, которых мы приближаем к себе. Для нас гораздо важнее знать о человеке, добрый ли он или злой, лживый или искренний, чем насколько он красив или умен. Чтобы убедиться в этом, притворитесь только, будто вы журите своего ребенка, и старайтесь при этом выражать на своем лице попеременно знаки то гнева, то расположенности. Ребенок будет смотреть вам прямо в лицо и изучать вас бессознательно, но глубоко; со своей стороны, он начнет производить над вами эксперименты, улыбаясь, когда вы будете серьезны, и, удерживая свою серьезность, в то время как вы улыбнетесь, с тем чтобы узнать, действительно ли вы сердитесь или шутите. Тот же опыт вы можете повторить с умной собакой, и, видя, что тут получается то же самое явление, вы убедитесь (если еще имеете в этом надобность), что азбуку мимики нужно искать у детей и у собак, а не на высотах метафизики.
В тех случаях, когда дело идет об эстетической оценке, субъективные влияния вносят сбивчивость в наши суждения; за исключением случаев редкой красоты или крайнего безобразия, разногласия встречаются на каждом шагу.
Из нашей таблицы вытекают еще два других заключения. В суждениях относительно сильных выражений сходятся все; но различия мнений выступают очень резко, коль скоро дело идет о выражениях менее определенных. Точно также я могу заметить, что суждения всего более согласуются между собою, когда речь идет об индивиде нашей расы, и, наоборот, до крайности расходятся, когда мы говорим о людях, принадлежащих к такому типу, который с морфологической точки зрения сильно уклоняется от нашего.
Так, например, при определении красоты миловидной маленькой римлянки, из десяти мнений девять получилось согласных, и только одно признало ее красоту посредственной. Напротив, Тьебо один из двух Аккасов, находящихся в Вероне, был признан красивым шестью голосами, безобразным – пятью, посредственным – двумя. Однако же, если красота или безобразие выступают очень резко, то значение этнического элемента отходит на задний план, и наши суждения оказываются согласными. Вот почему негр из Занзибара был всеми единодушно признан безобразным, а маленькая японка названа красивою семью голосами из девяти.
Я не собирал при своих наблюдениях цифровых данных относительно такого рода суждений, которыми, на основании исследования лица, определяется состояние здоровья или болезни. Но я могу утверждать, что в этих суждениях, называемых мною физиологическими, существует больше согласия, чем где бы то ни было; это, быть может, зависит оттого, что оценка в данном случае составляется легче, а может быть и оттого, что мы постоянно упражняем в этом отношении свою наблюдательную способность. Что-то невероятное представляет собою то совершенство, которое могут достигнуть наши чувства, когда они постоянно упражняются в одном и том же направлении, или когда наше внимание сильно напряжено вследствие особых побуждений. Сколько раз приходиться слышать суждения: «О, какой здоровый вид и право, приятно смотреть» или «О, несчастный, какой у него жалкий вид ему остается прожить всего несколько дней» и т. п. Более всего странно то, что подобного рода эмпирические суждения заключают в себе огромную ценность, часто такую же, как и в приговоре, произнесенным людьми науки.
Если вы спросите людей, незнакомых с медициною, на чем построены их определения, относящиеся к здоровью, вы еще более удивитесь вескости простого наблюдения. Все те основания, которыми они руководствуются, заключают собой половину физиологии и патологии. Тут будут приняты в соображение и условия питания, и состав крови, равно как гармония и сила инервации многочисленных мышц, заправляющих движениями глаза и остальных частей лица.
И эти немногие стенографические знаки, добытые народным опытом, воспроизводят столько явлений нашей жизни, что могут служить для нас надежными критериями при составлении верных суждений.
Говоря о прекрасном цвете лица, что подразумевают, как, не кровь, достаточно снабженную шариками, в количестве которых нет ни недостатка, ни избытка, и циркулирующую с надлежащей быстротой в сосудах кожи лица? И наоборот, что подразумевают под дурным цветом лица, как не порочное смешение крови, с очень скудным или чересчур большим содержанием различных составных частей? И простой люд совершенно здраво рассуждает, что в надлежащем составе и в правильном обращении крови заключается большая половина условий для обладания прекрасным здоровьем.
Лицо ни худое, ни жирное может выражать, по всей вероятности только одно – именно, что хорошее питание не истощает тела перевесом расхода над приходом, равно и не обременяет его чрезмерным избытком последнего. С другой стороны, не служит ли исхудание лица выражением такого упадка питания, который мало-помалу приводит к смерти?
В основу эмпирического представления, сложившегося в народе относительно здорового вида, входят не только свойства крови и общее питание, но также известная оживленность мышц, которые, подобно хорошо вооруженным солдатам, готовы в каждый данный момент приступить к действию. Эта оживленность лица – явный признак того, что нервные центры находятся в возможно лучшем состоянии. А при таких условиях, когда человек обладает хорошей кровью, хорошим питанием и сильной иннервацией, как ему не быть здоровым, и как нам не испытывать возникающего в нас удовольствие при взгляде на картину полного здоровья?
Все эти эмпирические наблюдения, собранные вместе, приведенные в порядок, освобожденные от всевозможного сора, могли бы привести нас к двум следующим научным определением хорошего и дурного вида.
Под хорошим видом, или здоровой физиономией, нужно различать то, как в лице отражается хорошее общее питание, наилучший химический состав крови, а также гармония и мощность иннервации.
Дурной вид, или болезненная физиономия, означает отсутствие одного из этих трех условий хорошего здоровья. Это может зависеть от недостаточного или чрезмерного питания, или от бедности крови красными шариками, или от ее засорения, или от недостаточного насыщения ее кислородом, или, наконец, от слабости и расстройств иннервации. Эти три условия могут встретиться, или все сразу, или же только два из них, и основательность нашего приговора будет пропорциональна большему или меньшему числу расстройств, которые замечаются нами на лице и из которых каждое указывает на болезненное состояние одного из органов или одной из функций, необходимых для жизненной работы.
В своей «Физиологии страдания» я описал некоторые стойкие выражения физического страдания, которые в то же время представляют собой различные формы болезненного вида. Но патологам и клиницистам следовало бы специально заняться этим предметом, так как весьма часто достаточно одного наружного вида больного и особенно взгляда на его лицо, чтобы разгадать природу болезни и быть на пути к верному диагнозу. При некоторых специальных душевных болезнях своеобразная природа страдания до того резко отмечена на лице, что непосредственно диктует диагноз наблюдающему врачу, прежде чем он приступит к исследованию больного. У страдающих бугораткой, удушьем, ипохондрией, раком физиономия и мимика на столько характерны, что их часто распознает даже обыкновенный наблюдатель. Никто в новейшее время не трактовал об этом предмете так хорошо, как наш Полли в своем специальном исследовании о физиономиях больных[92] – это юношеское произведение служит лучшим памятником подвижного и смелого ума автора. Надеемся, что читатель не посетует на нас за то, что мы обращаемся к этому труду, напечатанному около полстолетия назад и почти совсем забытому.
Таблица 8
Выражения физиологические. Красота и Безобразие. Здоровье и Немощь
Полли, определив значение патогномомии, или науки о болезненных физиономиях, и подвергнув последние аналитическому разбору, соответственно возрасту, темпераменту и другим различным признакам, предлагает следующий перечень отдельных форм болезненных физиономий:
Физиономия страдальческая.
Физиономия зловещая.
Физиономия умирающего, или гиппократово лицо.
Физиономия больного головой.
Физиономия больного животом.
Физиономия больного водянкою головы.
Физиономия больного пороком сердца.
Физиономия больного воспалением грудобрюшной преграды.
Физиономия больного чумой.
Физиономия больного холерой.
Физиономия больного гриппом.
Физиономия больного истерикой.
Физиономия больного тифом.
Физиономия больного воспалением брыжейки.
Физиономия больного свинцовой коликой.
Физиономия больного водянкой
Физиономия больного диабетом.
Физиономия больного перемежающейся лихорадкой.
Физиономия больного простудным воспалением брюшины.
Физиономия больного водянкой матки.
Физиономия больного подагрой.
Физиономия больного цингой.
Физиономия больного пеллагрой.
Физиономия больного столбняком.
Физиономия больного судорогами.
Физиономия больного водобоязнью.
Физиономия больного глистами.
Физиономия больного онанизмом.
Конечно, в этих тонкостях подразделения не мало схоластики и преувеличения, ибо выражения многих перечисленных физиономий не имеют ясно определенной индивидуальности и потому легко смешиваются; но, тем не менее, можно удивиться тонкой наблюдательности, которой обладал Полли. Здесь я приведу самые замечательные из его описаний, которые могут быть интересны также и художникам, так как эти последние иногда изображают на своих картинах известные болезненные состояния человека.
Физиономия умирающего, известная также под именем гиппократова лица, потому что Гиппократ был первый, кто составил ужасное ее описание.
Все части тела умирающего опускаются, теряют жизненное выражение и по своей неподвижности и окоченелости напоминают неодушевленную материю. Кожа лба натягивается, становится сухою или покрывается холодным потом; синеватые, бессильно упавшие веки во время дремоты и сна не вполне закрывают глазное яблоко, так что из-под них виднеется белая поперечная полоса; роговая оболочка уплощается, становится вялою и покрывается слоем слизи; глазное яблоко западает в орбиту и отделяет несколько слезинок; нос делается тоньше и холодеет, крылья его опадают и сближаются; из ноздрей выдаются внутренние волоски, покрытые темно-серой пылью; виски делаются углубленными, а скуловые кости выдаются; щеки западают; уши высыхают и сморщиваются; губы бледнеют и тускнеют; нижняя губа отвисает, так что рот остается постоянно открытым.
Физиономия онаническая. Молодые люди, усвоившие пагубную привычку к онанизму, отличаются бледным, свинцовым цветом лица; их кожа часто принимает стойкую желтушную окраску; маленькие сальные железы на лбу, висках и на крыльях носа превращаются в красные прыщи, которые исчезают только для того, чтобы уступить место другим; глаза теряют свой блеск, становятся впалыми, мутными, гноящимися; зрачок постоянно расширен, и зрение мало помалу слабеет, так что более продолжительное чтение вызывает усталость глаз и слезотечение; губы утрачивают свой румянец, бледнеют и трескаются; зубы делаются грязными; рот издает резкий и отвратительный запах. Выражение лица тупое и меланхолическое; в манерах замечается нерешительность и известная робость, причина которой для опытного глаза сразу становится понятной. Тело представляет вообще недостаточное развитие относительно возраста; часто также развиваются худоба, наклонность горбиться все более и более и всеобщее бессилие организма.
Такие индивиды часто соединяют в себе дряхлость старика с привычками и стремлениями молодого человека; сон их всегда прерывист и сопровождается страшными сновидениями; умственная способности у них притуплены, а память почти совершенно утрачивается.
У женщины клиторизм вызывает подобные же эффекты, хотя и не так быстро ведет к полному истощению. Розовый цвет лица уступает место страшной бледности; губы обесцвечиваются; глаза быстро утомляются; нижние веки расслабляются и приобретают синевато-свинцовый цвет; нос принимает иногда болезненное выражение; грудь сплющивается и делается слабою; гнойные прыщи беспрестанно обезображивают лоб, и т. п.[93].
Полли составил так же несколько прекрасных описаний различных болезненных телосложений; мы приведем здесь в виде примера, изображения апоплектика и чахоточного[94].
Телосложение апоплексическое. Плотное, коренастое туловище; мускулистые члены; округленные плечи; широкая и очень короткая шея; короткие и толстые пальцы рук и ног: неловкие, грубые, но твердые движения; лоб широкий; хорошо развитый затылок; глаза обыкновенно маленькие; веки большею частью закрывают половину глаза; кожа на носу ноздреватая: щеки и подбородок объемистые, жирные, лимфатические; живот часто вздутый, тучный; голова постоянно горячая, потому что сердце смежно с мозгом: характер раздражительный, беспокойный, упрямый, почти всегда тщеславный и дерзкий.
Телосложение чахоточное. Это телосложение почти во всем противоположно предыдущему; отличительные признаки следующие: фибры худощавые, напряженный, нежный и раздражительный; белизна и тонкость кожи; присутствие некоторых признаков английской болезни и золотухи; волнистые волосы; тонкий и длинный нос; очень выдающиеся челюсти; большие, широко открытые, чаще всего голубые (?) глаза; молочная белизна склеротики глаза; тонкая, длинная, наклоненная вперед шея, на которой ясно выступают синие вены; узкая и плохо сложенная грудь; высокий стан и длинные, тонкие конечности. Этой конституции присущи: живой, влюбчивый характер, проницательный, иногда сатирический ум, наклонность копировать других, а также очень раннее развитие умственных способностей. Особы такого темперамента говорят много, едят и спят мало, крайне обидчивы, любят развлечения и легкую литературу.
Есть, однако, и другая разновидность чахоточного сложения, отличающаяся исхудалым, как бы измятым телом, непропорциональной длиной членов, плохо уравновешенными движениями; представители ее лишены той нежности и тонкости очертаний, какие свойственны первому типу; они обладают слабым, нерешительным, застенчивым характером и в свою очередь представляют болезненную расположенность к легочному страданию.
Удачнее описывает Полли физиономию чахоточного, когда болезнь находится в последнем периоде и когда истощение членов достигло крайней степени.
Глаз прячется под бровями, то с живым и блестящим взглядом, точно в нем собралась вся жизненная энергия, прежде чем ей исчезнуть навсегда, то прикрытый посиневшим веком, окаймленным темным кругом; лоб имеет выражение скорее унылое, чем сердитое; волосы небрежно разбросаны, что придает лицу много выразительности, особенно у женщин; виски и щеки ввалившиеся, высохшие и исхудалые; углы рта опущены к зубам, как при горькой улыбке; подбородок заострен и угловат; губы стали тоньше, бледны, бессильны и более не соединяются одна с другой; румянец, выступающей в виде небольших пятен, придает скулам лица обманчивую жизненность, напоминающую, по выражению Бальзака, вечернее зарево, которое предвещает заход солнца. Длинная, худая, немного искривленная шея оканчивается двумя выдающимися шнурками, между которыми находится глубокая впадина, пересекаемая у мужчины резко очерченным кадыком гортани; межреберные промежутки широки, и ребра настолько выступают из-под кожи, что образуют на груди двойную лестницу; у женщины грудные железы почти исчезают, так что от них ничего не остается, кроме сосков; ключица почти отделяется от туловища и, по-видимому, угрожает продырявить растянутую кожу; конечности, почти лишенные мускулов и превращенные в кости, обтянутые кожею, готовы, кажется, сломаться при малейшем движении; сочленения толсты и резко выдаются; исхудалые, удлиненные, прозрачные пальцы рук оканчиваются загнутыми синеватыми ногтями; повышенная температура кожи и ускоренный пульс свидетельствуют о том, что организм пожирается внутренним пламенем, очаг которого находится в легких; живое вещество мало помалу исчезает, и остается один только остов тела. Эта ужасная болезнь, часто похищающая прекрасные существа в полном блеске молодости, придает выражение глубокой скорби всему лицу и особенно взгляду умирающего, ум которого остается нетронутым, который лично присутствует при угасании и разрушении собственного тела и живо чувствует, как ускользают от него все радости, все счастье, которые сулила жизнь его молодости; с этих пор у него не остается ничего, кроме жалкого утешения быть предметом сострадания ближних.
Как ни живописны эти картины, тем не менее, они имеют важный недостаток: почти на каждом шагу они колеблются между смутною фразеологиею и карикатурным преувеличением правды. Ипохондрики, которые будут читать эту книгу, должны хорошо помнить об этом; в противном случае каждый из них в этих картинах может увидеть свой собственный портрет.
Старинные врачи занимались патогномонией гораздо больше, чем новейшие, потому что они не знали ни постукивания, ни выслушивания больного, и вообще – всех современных способов объективного клинического исследования. Но, с другой стороны, врачи нашего времени, слишком пренебрегающие этим учением, впадают в противоположную крайность. Поэтому, и теперь еще можно воскликнуть вместе с Лафатером, почти ничего не изменив в его словах: «Медицина, опирающаяся на физиогномику, была бы произведением достойным вашего имени, знаменитый Циммерманн»[95].
Между старинными авторами, которые писали более научно о патогномонии, кроме божественного Гиппократа, известны следующие: Аретей, Леомний, Эмилий Камполонг, Вольф, Гофманн. Шредер отец. Сочинение Самуила Квельмальца «De prosoposcopia medica» (Lipsiae, 1784 г.) в свою очередь весьма замечательно, равно как и труд Сталя «De facie morborum indice seu morborum aestimatione ex facie» (Halle, 1700 г.). Остается, наконец, указать еще на более древнюю семиотику Фомы Фиенскаго, имеющую важное значение «Thomae Fieni, phuosophi ас medici praestantissimi», «Semiotica, sive de signis medicis» (Lugduni, 1664 г.).
Глава XXII. О критериях для оценки физиономии в нравственном отношении
Есть особы, имеющие притязание на известный дар природной проницательности, обладая которой, им достаточно взглянуть на лицо человека, чтобы отгадать, добр ли он или зол, двоедушен или чистосердечен; мало того, иной раз они берутся даже утверждать, что такой-то скуп или же расточителен, что он галантен или, наоборот, подходит к типу Иосифа Иудейского. Такое притязание, выражающееся иногда редкой и драгоценной способностью угадывать характер человека по исследованию его лица, нисколько не основано на убеждении, будто это таинственный, врожденный талант, вроде гения или красоты, и будто нельзя его приобрести с помощью труда или доброй воли. Единственный секрет заключается здесь в наблюдательности ума, которую можно развить упражнением, как и всякую другую интеллектуальную способность; и в этом нет ничего таинственного, ничего чудесного. Горе, однако, этим привилегированным смертным, если они пожелают перейти от искусства к науке и выразить в виде догм и логических положений результаты своего опыта и своей прозорливости. Тогда они начинают путаться и передавать в сбивчивых выражениях то, что им казалось вполне понятным. Они превращают в грубые афоризмы самые удивительные и тонкие догадки своего наблюдательного ума, – и это явный знак того, что физиономика может быть только искусством. Это хорошо заметно у Лафатера, самого проницательного, быть может, из наблюдателей человеческого лица, притом очень искусного живописца. Когда он пробует научить нас тому, что ему хорошо известно, когда он делится с нами своими убеждениями, он сам начинает бродить в тумане фразеологии. Поэтому, мне будет очень жаль вас, если вы захотите следовать его наставлениям в практической жизни. При этом вы ежеминутно должны будете убеждаться, что из сотни случаев, Лафатер ошибся в девяноста, или же, что вы не сумели его понять, или, наконец, что его современники не похожи были на теперешних людей.
Кроме этих артистов физиогномики, встречается множество заурядных претендентов на проницательность, которые постоянно судят вкривь и вкось, потому что плохо наблюдают, а еще хуже делают свои выводы. Каждый день можно быть очевидцем пагубных последствий подобного невежества и подобных, ни на чем не основанных, претензий. Влюбленный молодой человек утверждает, что его возлюбленная – ангел доброты и целомудрия, а на самом деле оказывается, что это ехидна или Мессалина. В других случаях, выбирая себе слугу или приказчика, заключают о его добродетелях по выражению лица, при этом нередко доверие отдается плуту или человеку, наделенному всевозможными пороками. Есть множество ошибочных критериев, на которые мы полагаемся в подобных случаях и которые делают нас жертвой собственной опрометчивости; но два из них более обыкновения и на каждом шагу могут устроить нам западню.
Красивое нравится всем и каждому; поэтому довольно редко бывает, чтобы мы заподозрили в коварстве тех мужчину или женщину, которые обращаются к нам с милой улыбкой на устах или смотрят на нас бархатным, улыбающимся взором. Вероятность ошибиться усугубляется, когда мужчине приходится судить о женщине, или, наоборот, в этих случаях внезапная симпатия, влечение, любовь легко ослепляет нас и заставляет считать хорошим красивое, а дурное – безобразным. Пословица – косой никогда не свободен от коварства, – которая с небольшими вариациями повторяется на всех языках, является дерзкою формулою того фальшивого критерия, которым пользуется толпа для оценки нравственного достоинства физиономии. Совершенно верно, что крайнее безобразие часто соединяется с характером, мало заслуживающим уважения: но, несомненно, также и то, что можно быть безобразным, как Сократ, и в тоже время обладать его добродушием, а с другой стороны, можно быть достойным презрения и вероломным, имея лицо Алкивиада или Байрона. Сколько дочерей Евы отравляют нашу жизнь и сеют вокруг себя измену и бедствия, хотя некоторые из них красивее Венеры Милосской.
Другой критерий, сбивающий с толку наши суждения в деле нравственной оценки человеческого лица, заключается в неумелом применении индукции. Если было замечено, что один кривой оказался злым, то на этом уже строится заключение, что всех кривых нужно остерегаться, как огня; если одна женщина, имевшая на подбородке ямочку, была признана ангелом, – отсюда готов вывод, что и все прочие женщины с такой же миловидной ямочкой непременно должны быть добродетельны.
Единственный научный критерий, дозволяющий отважиться на суждение в области таких темных вопросах, дает нам мимика. Напротив, нужно решительно освободиться от всех притязаний эстетического и анатомического критериев. Волнения, чувства – мы повторяли это уже сто раз – выражаются различным образом, а известная мимика, при частых повторениях, оставляет на лице постоянный отпечаток, имеющий определенный смысл и дающий возможность раскрыть весь характер или нравственную историю человека. У всех детей физиономия апатична и ничего на ней нельзя прочесть; но почти невозможно, чтобы на лице человека в возрасте тридцати лет, невозможно было прочитать какую-нибудь страницу его жизни, открывающую нам или одну из его добродетелей, или одну из его нравственных язв.
Но даже и тут, сколько трудностей, сколько сомнений предстоит одолеть, чтобы воспользоваться этим единственным научным критериями. В морщинах лица нервного, впечатлительного человека может быть написана целая поэма; с другой стороны, мне известна одна красивая дама, которая, далеко пережив критический возраст, не имеет еще ни одной морщины. Она никогда не плакала и почти всегда смеялась; но зато на протяжении многих лет она надевала на ночь маленький аппарат, прилегающий к обеим сторонам лба и прикрепляемый к затылку, с той именно целью, чтобы растягивать кожу у наружного угла глаза и таким образом препятствовать развитию ужасной гусиной лапки около глаз.
Если читатель следил до сих пор за моим аналитическим исследованием различных выражений, то он уже имеет в своих руках нить, для того чтобы ориентироваться при оценке человеческого лица; таким образом, эта глава могла бы показаться липшей. Но так как нам нужно сделать некоторые синтетические обобщения, то не бесполезно будет сосредоточить свет в Диогеновом фонаре, после того как мы разложили его с помощью аналитической призмы.
Две основные черты, два самых верных признака доброго лица: постоянное доброжелательное выражение его и полное отсутствие на нем всякого лицемерия.
Любить, вечно любить весь мир и быть неспособным к ненависти – вот идеал добродетели, который написан на ангельском лице многими отрицательными и несколькими положительными знаками.
Не выражайте никогда ни ненависти, ни жестокости, ни гнева, ни злопамятства, ни зависти, ни сластолюбия, ни беспутства – и этого достаточно, чтобы лицо свидетельствовало о большом запасе добродушия. Если к этим отрицательным чертам присоединить легкую улыбку, указывающую на постоянно радостное настроение и желание нравиться, хорошо поступать и быть любимым, то перед нами будет нарисована в общих штрихах физиономия вполне благородного человека.
Я советовал бы вдуматься в эти строки, утверждающие несомненный факт, тем пессимистам, которые считают человека созданным для зла, и полагают, что некоторая способность к добру развивается в нем только вследствие воспитания, либо под влиянием страха и выгоды. Справедливо как раз противоположное, и нам, цивилизованным людям, у которых исчезли последние следы людоедства, нам приятно любить и тяжело ненавидеть. Добрый человек счастлив, и он выражает свою душевную ясность, свою потребность любить и быть любимым постоянной улыбкой, которая нас трогает и заставляет воскликнуть с жаром глубокого убеждения: «О, как должен быть добр этот человек! О, какой святой должна быть эта женщина!»
Привычка к ненависти и вообще ко всем порокам, унижающим человека и приближающим его к животному типу, напротив, отмечает на лице выражение уныния, неудовлетворенности, – признаки вечного недовольства, постоянной вражды к самому себе и к другим. Презрение, антипатия, которые выпадают на долю злых, усиливают в них злопамятство, затаенную и беспрестанную жажду мести, словом, все то, что придает их лицу унылое выражение и заставляет нас сказать: «Какое злодейское лицо! Невозможно, чтобы этот человек был порядочным!» Есть люди, которые никогда не улыбаются, разве только насмешливо или с оттенком выражения удовлетворенной ненависти – и вот у них-то мышцы лица решительно отказываются выражать доброжелательные чувства. Другой, почти постоянный признак благородной физиономии—это прямое выражение ее, открытое для всех душевных волнений, и неспособность что-либо скрывать. Злое лицо, наоборот, всегда фальшиво. В самом деле, порядочный человек никогда не остерегается других: он не чувствует нужды уклоняться от испытующих взглядов, между тем как плут всегда избегает их, невольно опасаясь, как бы не обнаружились его помыслы. Неоспоримо, что на всех языках цивилизованных народов открытое лицо есть синоним доброго лица, а притворная физиономия—синоним злой физиономии.
Открытым лицом обладает человек вполне спокойный, не уклоняющийся от взглядов тех, кто с ним говорит или его наблюдает. Такое лицо выражает печаль и радость, любовь и гнев без умалчивания и без лицемерия.
В противоположном случае мышцы постоянно находятся в тревожном возбуждении, неопределенно сокращены или расслаблены и, так сказать, колеблются туда и сюда, не зная, какому волнению подчиниться и какое принять выражение. Эта нерешительность особенно ясно выступает в блуждающем взгляде, который переходит от одного выражения к другому и чаще озирается по сторонам, нежели смотрит прямо. Вот почему его и называют косым или воровским взглядом.
Если и можно что-нибудь ясно прочесть на подобном лице, то разве бессознательную боязнь, чтобы посторонний глаз не подметил злую наклонность или злое душевное волнение, которыми чревата преступная совесть. Это оборонительное положение мало-помалу входит в привычку, и часто случается наблюдать, что человек с фальшивым выражением взгляда, участвуя даже в безразличном разговоре, никогда не смотрит прямо в лицо своему собеседнику.
Это один из самых верных признаков коварного характера, и он тем более драгоценен, что самым отъявленным лицемерам не удается скрыть свой лукавый взгляд под грубой маской искренности или с помощью принужденной улыбки. Мышцы глаза именно всегда очень упорно сопротивляются лицемерию и легче всего поддаются настоящим волнениям, исходящим из нервных центров. Можно плакать в то время, когда душа преисполнена радости; можно смеяться в минуты душевных терзаний; но почти невозможно смело встретить чужой взгляд, коль скоро ощущается потребность скрыть свое волнение[96].
Довольно часто скрываемое волнение бывает настолько сильно, что смотреть в сторону или придать взгляду неопределенное направление оказывается недостаточным; в подобных случаях глаза судорожно смыкаются, является спазмолические сокращения губ или носа, или же наступает зевота. Эти симптомы всегда должны внушать вам подозрение; они напоминают прыжки зайца то назад, то в сторону, когда он, преследуемый собакою, возвращается по своим же следам обратно, чтобы сбить с толку противника.
Слова добрый и злой слишком грубы для выражения различных типов характера, а равно и соответствующие мимических форм. Это ни что иное, как жалкие стенографические знаки, удовлетворяющие нашим обыденным потребностям и соответствующие несовершенству нашего языка и скоротечности нашей жизни. Но искусство и наука не могут этим удовлетвориться. Великий романист употребляет целую книгу, чтобы описать мрачные бездны злодейского характера, а Рафаэль изобразил нам божественную доброту одной матери такими штрихами, которых никто не в состоянии воспроизвести.
К отрицательным и положительным чертам доброго лица можно прибавить еще другие, более возвышенные признаки, которые способны идеализировать его выражение. К совершенному отсутствие всякой злобной мимики и к беззаботной улыбке присоединяется тогда осанка, полная достоинства и мужества, а также привычка смотреть вверх, как бы желая обнять все человечество единым взором любви и созерцать обширные, бесконечные горизонты. Мгновенная решимость на известную жертву, или постоянное отречение от всех благ жизни, великодушное прощение или нежное чувство ко всем земным страданиям, – все это выражено в бессмертных произведениях великих художников, которые умели и всегда будут уметь очаровывать зрение изображениями Христа и мучеников. Угадывая научную мысль посредством высшего вдохновения, они сумели набросать на фоне безусловного добродушия несколько более ярких тонов необыкновенной добродетели, великодушных порывов, благородного геройства. Редкие выражения в природе! Еще реже приходится встречать их в мраморе и на полотне, ибо это беглые проблески, проявляющееся на мгновение, чтобы тотчас же исчезнуть, так что искусству едва удается их уловить с помощью меткого наблюдения, и еще чаще – благодаря счастливому угадыванию.
На противоположном полюсе мы встречаем лицо, далеко не столь редкое, как предыдущий тип, и называемое лицом висельника, – бесспорно на том основании, что обладатель его производит собою впечатление приговоренного к виселице или каторге. При этом замечается не только полное отсутствие на лице всякого доброжелательного выражения, не только лживость взгляда, но и следы всевозможных зверских инстинктов; все пороки наложили здесь свои багровые, отвратительные оттенки. Ненависть, сластолюбие, жажда наживы, косность, одолеваемая только вином, вялость, которую способен расшевелить только гнев, беспрестанное озлобление, скопляющееся подобно шлакам вулканической почвы, беспутная чувственность и непреодолимая влечение ко всему грязному, отпечаток медленного и неизлечимого страдания, зверский смех, страстное желание видеть море крови и слышать хор стонов, ненависть в самых грубых ее проявлениях, которые приводят в содрогание и иссушают мозг, бесконечная низость, как бы соединенная цепью каторжника с плотоядной свирепостью, – вот в крупных штрихах набросок лица висельника, какое можно встретить в местах заключения, называемых смирительными домами и острогами.
Глава XXIII. О критериях для составления умственной оценки физиогномики
Посмотрев на лицо мужчины, женщины, ребенка, часто мы задаемся вопросом: сколько ума под этим черепом? Какие сокровища мысли, воображения, воли таятся за этим лбом?
Эти вопросы отчасти могут быть внушены простым любопытством; но иногда они сопровождаются большим беспокойством, именно если дело идет о лице одного из наших детей, или о любимой нами женщины, которую мы навсегда хотели бы назвать своею, или государственного человека, которому мы решаемся вручить судьбы отечества. Но если даже спуститься с этих высот в пошлую обстановку будничной жизни, то все-таки и тут, сколько раз нам приходится определять степень и качество ума на лице слуги, служанки, фермера, компаньона, управляющего и т. п.
Когда я имел честь в первый раз представляться королю Гумберту, он с живым интересом осведомился о моих исследованиях и заметил, что возможность отгадывать способности человека по строению его головы была бы драгоценным даром; он также спросил меня, в состоянии ли наука дать нам в этом отношении некоторые точки опоры.
Если заглянуть в старинные сочинения по физиономике, то там найдется множество ответов на вопрос короля Гумберта.
Прежние физиономисты не только умели с точностью определять, какое количество ума заключает в себе голова человека, но они учили даже распознавать его специальные способности и особые дарования.
Джиованни Баттиста Де Лапорта оставил нам следующее описание грубого ума[97]:
«Части, расположенные вокруг шеи, и плечи мясисты, сближены и связаны вместе, но Полемон и Адаманций утверждали, что полости соединены между собою, что большие сосуды в окружности шеи взаимно связаны друг с другом и что не видно круглого углубления (); означает часть углубленную, или, как я думаю, есть ни что иное, как округленная часть затылка головы; действительно, как мы уже заметили об этом при описании головы, если выпуклость на задней части головы недостаточно развита, и если голова представляется круглой, то человек с такими признаками обладает злыми чувствами и грубым умом. Слово истолковывалось в смысле вертлужной впадины таза; но какое отношение к уму может иметь это углубление кости, я не могу этого понять. Или же в смысле углубленный, приписывается задней части головы, которая должна быть круглой, но не выдающейся. Но это не встречается ни у Адаманция, ни у Полемона. Плечи высокие, лоб большой, мясистый, круглый, взгляд вялый (), тупой (т. е. бессмысленный, подобно глазам коз, которые глупы). Агостина ди Серса, вследствие незнания греческого языка, переводит это так: мясистые, круглые ноги, приближенные к пяткам, большие, мясистые челюсти. Но у Полемона и Адаманция говорится: ноги и спина длинные. Я полагаю, что в тексте Аристотеля есть ошибка, и что н хочет сказать не П, но В, т. е. короткие, потому что руки и ноги длинные указывают на развитый ум, и наоборот, короткие составляют природный недостаток и признак грубости. Полемон и Адаманций говорит: тонкие суставы, короткая шея. Далее, они прибавляют, что несовершенные конечности, тучная короткая шея, широкое, мясистое лицо придают выражение глупости и тупости, дополняемое телодвижениями, манерами и привычками, которые обнаруживаются в лице. Но текст, как мы уже это заметили, крайне искажен. Так, Полемон и Адаманций говорят, что открытый рот придает лицу грубый вид; но Полемон употребляет слова , а Адаманций говорит: , что гораздо вернее.
Они же выставляют признаком грубости чересчур белый цвет лица (но Полемон замечает: это относится не столько к очень белому, сколько к чересчур темному цвету), и меня удивляет, что это упущено из виду другим писателем, потому что очень бледный или очень темный цвет указывают на природное несовершенство, которое вредит гению, а также на выдающийся живот, на малые и соединенные суставы, на малоподвижные конечности. Здесь надо исправить текст Полемона, где говорится , текстом Адаманция, который говорит , потому, что признаки человека остроумного совершенно противоположны признакам человека грубого; у первого из них пальцы хорошо сформированы и отставлены друг от друга, у второго же – они соединены и как бы связаны между собою. Авиценна, описывая фигуру человека хорошо сложенного, ставит на вид следующие признаки недостаточного остроумия и еще менее развитого ума: живот большой, пальцы короткие, лицо и голова округленные, рост слишком высокий или чересчур малый, лоб, шея и лицо мясистые, вся фигура напоминает полушарие, челюсти большие, голова и лоб округленные, лицо длинное, шея толстая и движения глаз очень медленные».
Во всем этом пустословии, которое Де Лапорта выдает за портрет тупого человека, кое-где несколько крупиц разгаданной истины выплывают из океана бесполезных слов, перемешанных с положительными заблуждениями, в роде, например, того, что длина рук выставляется признаком умственного развития. В настоящее время всем известно, что племена самые тупые в умственном отношении имеют особенно длинные руки.
Не более посчастливилось нашему неаполитанскому физиономисту представить нам портрет умного человека, хотя данные для этого он заимствует из сочинений Аристотеля, Полемона и Адаманция. Вот этот портрет:
Они имеют мягкое и сырое тело, не слишком шероховатое, не слишком гладкое, но среднее между тем и другим; лицо – не длинное и не короткое, приятного белого цвета с легким румянцем; волосы мягкие, посредственно густые; глаза больше, кругловатые; голова среднего размера, соразмерная с величиной шеи; плечи слегка опущенные; ноги и колени маломясистые: голос ясный, переходный между низким и высоким; руки длинные; пальцы длинные и довольно тонкие. Они мало смеются, мало плачут, а также мало шутят. Но общее выражение у них веселое и радостное.
Далее Де Лапорта рисует нам свой собственный портрет: «Вот мое изображение, которое выставляется не ради тщеславия, а для того, чтобы каждому были видны мои недостатки». Одно только лишает эту притворную скромность всякого значения, именно то обстоятельство, что автор поместил свой портрет как раз в главе, трактующей о человеке остроумном. И как бы опасаясь, что всего сказанного будет, пожалуй, недостаточно, он заканчивает главу следующими словами: «Я имею сходство с моим братом Джиовано Винченцо, который много занимался наукой».
Иезуит и богослов Гонорий Никеций издал в 1648 году свою физиономику (Physiognomia humana), где на 317 стр. он в свою очередь дает нам описание человека одаренного и человека тупого.
Лицо одаренного человека. Тело мягкое, кожа тонкая, рост средний; глаза голубые или карие; цвет кожи белый; волосы довольно мягкие; руки длинные, пальцы удлиненные; выражение лица добродушное; брови соединены между собою; смех умеренный; лоб гладкий; виски умеренно вогнутые; голова имеет вид молотка, – и этот последний признак относится к числу наиболее постоянных.
Лицо человека тупого. Мясистая шея, мясистые плечи, равно как и лицо, поясница, ребра, грудь, соски; затылок, вдавленный или круглый, но ни в каком случае не выдающийся, лоб большой, мясистый; глаз бледный, такого же цвета, как у козла или у орла; выражение лица тупое, и т. д.
Несколько позже в «Метопоскопии» Кардана (Париж, 1658 г.) гороскопические и астрологические прорицания были доведены до абсурда. (Прочтите строки о Юпитере на страницах 52 и 53 его книги и сравните рис. 39 и 40.)
Преподобный Джованни Инженьери, епископ острова Истрии, говорит в своей «Таблице достопримечательностей» (Падуа, 1626 г., стр. 61): «Малая величина головы относительно туловища служит признаком посредственного ума».
Это сказано очень хорошо, но автор умаляет свою заслугу следующей прибавкой: «Небольшая голова означает человека сердитого и злопамятного».
Достаточно этих немногих примеров, чтобы дать понятие о тех критериях, какими пользовались старинные физиономисты при распознавании ума по человеческому лицу. Приступим теперь к рассмотрению действительно научных критериев. Результаты моих опытов, с которыми я уже познакомил читателя, были бы крайне печальны, если бы в данном случае дело шло не о портретах, а о живых лицах.
При оценке красоты пользуются почти исключительно критериями анатомическими; для определения нравственного достоинства – почти исключительно мимическими; но для оценки умственных качеств сразу необходимы как те, так и другие, при чем, строго говоря, невозможно точнее определить, какую роль играет в наших суждениях каждый из этих двух критериев. Тем не менее, однако, мне кажется, что анатомические критерии вообще могут с точностью отмечать основные черты, тогда как в мимических явлениях сказываются лишь второстепенные различия и индивидуальные особенности склада ума у людей, принадлежащих к одной и той же расе. Никкотини (слепок лица которого имеется у меня), даже мертвого, нельзя принять ни за негра, ни за простого человека; но все, посещающие мой музей, когда я показываю слепок с лица Маззини, спрашивают, не святой ли это.
Анатомические признаки, служащие для приблизительной оценки умственных способностей данного индивида при исследовании его лица, все основаны на соотношении в развитии лица и черепа, – все равно, определяется ли проекция лица к черепу путем приблизительного вычисления объема головного мозга или же посредством грубого измерения известных углов.
Многими веками раньше, до появления краниологии, греческие художники, эти великие наблюдатели, наделяли Минерву и Юпитера большой головой, обширным лбом и настолько ортогнатическим лицом, что личный угол уклоняется иногда по ту сторону отвесной линии и превышает 90°. И напротив, они изображали сатиров малоголовыми, с узким, подавшимся назад лбом и большими, выдающимися челюстями. Даже и теперь еще под именем тупой слывет такая человеческая голова, у которой есть много общих признаков с головою обезьяны.
Взгляните на голову шимпанзе, и вы найдете в ней сильное сходство с выражением многих идиотов; при этом вы вспомните также, до чего отвратительны вам приплюснутый нос, два огромных уха, узкий, покатый лоб – словом все черты, свойственные обезьяне.
Некоторые анатомические особенности, не имея прямого отношения к емкости черепа или к его положению относительно лица, тем не менее, однако, вследствие морфологической гармонии, являются признаками низшей ступени умственной иерархии. Ни одна высшая раса не имеет ни очень малого черепа, ни огромных ушей, ни приплюснутого носа, ни подавшегося назад подбородка; и если мы встречаем эти черты на лице человека нашего племени, мы невольно склонны признать его мало интеллигентным, пожалуй, даже идиотом, прежде чем он откроет рот или совершит перед нами какой-нибудь психический акт, который послужит основой для нашего суждения.
Следующя таблица резюмирует все анатомические признаки, которые при современном состоянии наших знаний, могут руководить нами при определении места, занимаемого человеческим лицом в умственной иерархии.
Я представил вам эту таблицу с той целью, чтобы вы могли в ограниченном круге собственного опыта убедиться в шаткости анатомических признаков, когда они являются единственными критериями при оценке умственных способностей по лицу. Я уверен, что каждый из вас будет в состоянии найти несколько исключений из этих правил и представить мне тупого человека обладающего большими глазами или красивыми маленькими ушами, и наоборот, – человека гениального с маленькими глазами или с большими ушами. Но, с другой стороны, я одинаково уверен и в том, что подобные исключения, очень легко находимы каждым среди анатомических признаков, когда они берутся в отдельности, будут встречаться гораздо реже, если сгруппировать вместе два или три признака, и окажутся почти невозможными, если при сравнительном исследовании принимается в соображение вся совокупность этих признаков.
Но самые важные признаки доставляются мимикой, которая может обнаружить чрезвычайную силу мысли, как на странной физиономии Сократа, так и на аполлоновском лице Гёте.
Глаз и рот постоянно представляют собою два главных мимических центра лица. Первый из них лучше выражает природу и степень ума, а второй – силу или слабость воли.
Ходячее эмпирическое мнение приписывает гениальному человеку взгляд живой, а тупому – взгляд потухший. Действительно, у первого беспрестанно освобождаются наружу центробежные энергии, находящие себе широкий выход в многочисленных мышцах глаза; отсюда становятся понятными движения и колебания этих мускулов; отсюда же – и появление пелены слез, обусловливающей блеск глаза. У человека интеллигентного не только глаз, но и все мускулы лица отличаются подвижностью, живостью, постоянною напряженностью (tonus), благодаря которой они всегда могут быстро выражать самые разнообразные душевные волнения.
Лицо гениального человека можно сравнить с хорошо вооруженным солдатом, всегда готовым к своему делу; лицо тупого человека – это ленивый нищий, постоянно готовый спать и зевающий полчаса, прежде чем он решится встать.
Тупое лицо характеризуется расслабленными мышцами, полуоткрытым ртом, при этом одна бровь часто поднята выше другой, а блуждающий и бесцельный взгляд не имеет никакого определенного направления.
На лице интеллигентном все мышцы полусокращены; движения их ловки и постоянны. Лицо гениального человека обнаруживает постоянный отблеск душевных волнений, деятельной мысли и вечно бодрствующей энергии.
Переход между тупым лицом идиота и вольтеровским лицом, приправленном солью и перцем, составляет лицо обыкновенное, выражающее среднее количество мысли и воли.
Мимический центр рта выражает лучше глаза те страсти, которые окрыляют мысль и силу воли.
Идиот, воля которого всегда очень слаба, имеет отвислую нижнюю челюсть, так что иногда изо рта течет даже слюна. У человека со здравым смыслом, но с недостаточной силой воли, рот всегда полуоткрыт; напротив, у энергичного человека челюсти сомкнуты; часто даже можно заметить у него сильное сокращение соответствующих мышц и выдвигание подбородка вперед.
Наибольшее развитие силы воли почти всегда соответствует следующей мимической формуле: большой, выдающийся вперед подбородок и закрытый рот.
Слабая воля, наоборот, выражается малым, подавшимся назад подбородком и открытым или полуоткрытым ртом.
Умственная мимика может проявляться в крайне резких, почти патологических формах; последние складываются из привычных сокращений (tics) некоторых лицевых мышц – сокращений, имеющих характер непроизвольных, кратковременных и прерывистых конвульсий. Эти конвульсивные судороги часто сопровождают чрезмерное напряжение мысли, и я неоднократно замечал их у людей гениальных и притом весьма различных между собой по природному складу ума.
Я назову Ломбарди, первоклассного представителя гидравлического искусства, Перуцци, человека с редкой энергией и замечательно тонким политическим умом, и Кардуччи, величайшего из современных поэтов. У первого из них всегда замечались на лице своеобразные судорожные сокращения, которые с возрастом постепенно усиливались; к конвульсиям лица присоединились потом конвульсии туловища, плеча, руки и, наконец, в последние годы дело дошло до того, что развилась настоящая пляска св. Вита, сильно затруднявшая речь этого великого человека. Перуцци также имеет две или три привычных конвульсии лица, которые он не может преодолеть силою воли, и эти конвульсивные сокращения выступают тем резче, чем напряженнее работает мысль. В известные моменты на лице Кардуччи бушует настоящий ураган; из глаз его сверкает молния, а содрогание мышц напоминает землетрясение.
Все это следует приписать уму, взятому в целом, как сумме всех психических энергий; но каждая отдельная форма и каждый момент мысли имеют свою собственную мимику, как это мы старались выяснить в своих аналитических исследованиях. Здесь нам остается только прибавить несколько черт, чтобы дополнить картину умственной мимики.
Две самые выразительные картины умственной энергии– это мимика творческого воображения или фантазии – с одной стороны, и сосредоточенного мышления – с другой. Я представлю их схематически на рисунках 4, 5, 6 и 7.
Рис. 4. Мимический центр глаза.
Рис. 5. Мимический центр рта.
Рис. 6. Мимический центр глаза.