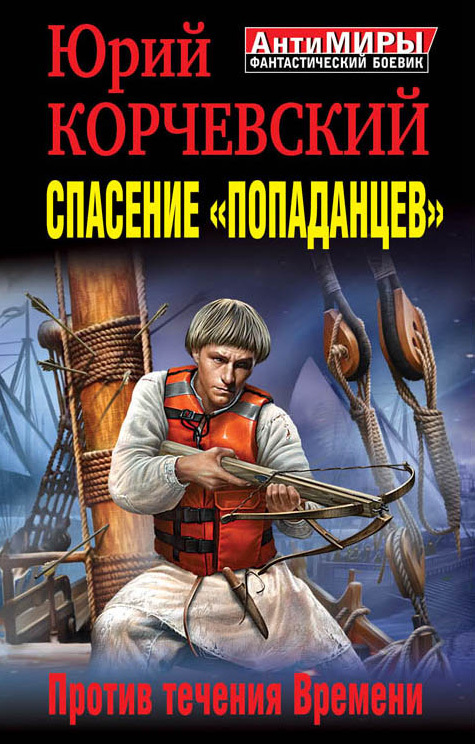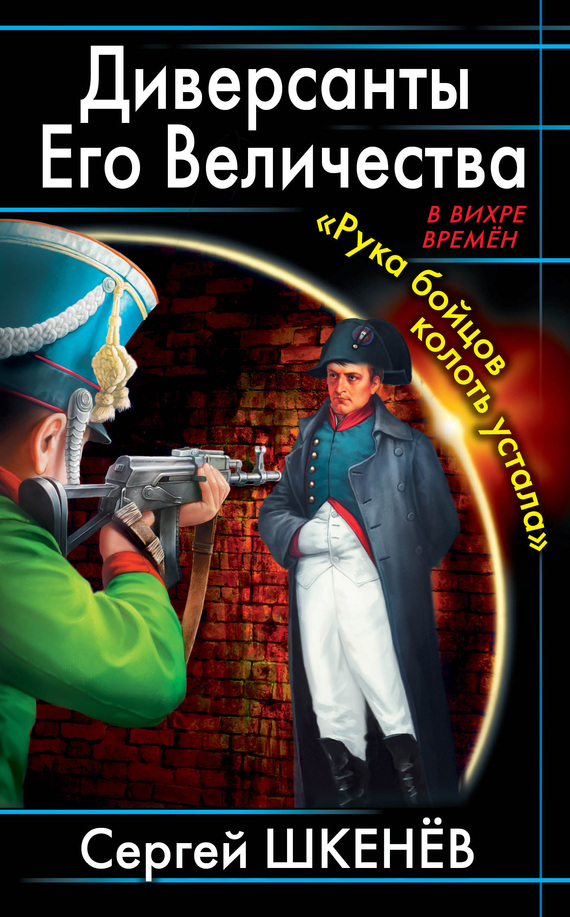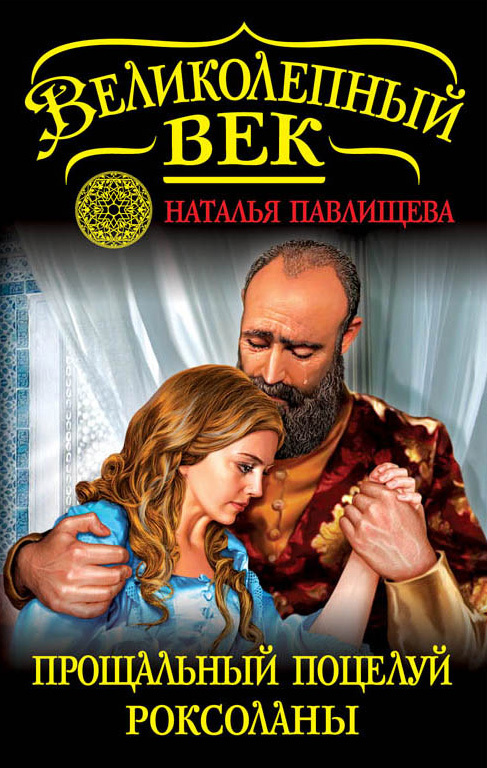Физиогномика и выражение чувств Мантегацца Паоло

Вздохи, стоны, крики, зевота
Вообще говоря, вздохи служат мимическим признаком страдания, хотя они сопровождают также и некоторые наиболее живые проявления чувственности или привязанности. Чаще же всего вздохи появляются периодически при продолжительной и безмолвной печали и скорее указывают на нравственное, чем на физическое страдание.
Высшая ступень вздоха есть стон, который обыкновенно сопровождает выдыхание, как бы составляя его продолжение. Стон может перейти в крик; но крик этот бывает почти всегда машинальным и самопроизвольным выражением очень острых физических болей или же внезапных и сильных нравственных огорчений.
Зевота может выражать самые разнообразные ощущения, как например: голод, жажду и – преимущественно у женщин – потребность физической любви; но в мимике страдания зевота является одним из характерных элементов скуки.
Плач
Это мимический элемент страдания, охватывающий всю сферу мышечных расстройств и вторгающийся в сферу отделительных актов. Действительно, тут сразу встречаются сокращения многих мышц лицевых, грудных и брюшных, и вместе с тем – обильное отделение слез, которые не могут уже собираться и отводиться в носовую полость слезным протоком, и потому, переливаясь через нижнее веко, стекают по щекам.
Дарвин изучал с большой тонкостью мимический механизм плача[56]. Он заметил, что у детей плачу всегда предшествует и сопровождает его перемежающееся спазмолическое сокращение век, чем обусловливается довольно сильное давление на глаз. По мнению Дарвина, это имеет целью предохранить глазное яблоко от чрезмерного прилива к нему крови.
Вазомоторные периферические явления
Внезапный страх, весть о большом несчастье, а также острая и сильная физическая боль сопровождаются обыкновенно бледностью лица, а, в некоторых исключительных, правда, случаях – бледностью всего тела.
Краснотой лица всегда сопровождается плач ребенка; часто впрочем, ее наблюдают также у юношей и у взрослых.
Одна и та же степень того или другого страдания выражается у мужчины и у женщины неодинаково. Различия эти выступают тем рельефнее, чем выше ступень индивидуального и этнического развития.
Страдание женщины, говоря вообще, выражается или остолбенением, или крайне обостренной реакцией; самое обыкновенное явление – это слезы. У мужчины, по своей природе более сильного и мужественного, выражение страдания получает характер более воинственный. Мужчина старается бороться со своим страданием; он посыпает угрозы и проклятья природе и Богу. Сжатый и горизонтально выставленный кулак – вот характерное мимическое выражение для некоторых, наиболее острых, страданий мужчины; у женщины, наоборот, преобладает пассивная форма протеста, и самое обычное выражение ее скорби представляют стоны.
Преобладание в характере женщины доброжелательных и религиозных чувств придает и мимике ее страдания отпечаток благочестия и милосердия. Напротив, у мужчины эгоизм является господствующею чертою даже в сфере страданий. В минуты скорби женщина молится и творит добрые дела, мужчина же чаще всего кощунствует и прибегает к угрозе.
Выражение страдания еще сильнее видоизменяется под влиянием возраста, чем от различия пола. Малые дети испытывают только физические страдания и всегда выражают их однообразно – плачем и криком. С пробуждением в ребенке самолюбия, ревности, чувства собственности, ему делаются уже доступными и нравственные страдания; правда, он по-прежнему выражает их криком и плачем, но плач этот в различных случаях бывает своеобразный – то непрерывный, то перемежающийся; иногда появляется только хныканье, в других случаях – рыдания.
По мере того как ребенок растет, выражение страдания приобретает новые, более сложные черты: слезы показываются реже и заменяются отчасти вздохами, рыданиями, стонами и воплями. У наиболее интеллигентных детей можно заметить известные проблески выражений высшего порядка, как например, сардонический или иронический смех и меланхолическую грусть. Эти формы выражения, уже весьма эстетичные, делаются все более и более утонченными с наступлением отрочества и ранней юности, и в этом же периоде жизни они достигают своей высшей прелести.
Молодой человек плачет лишь весьма редко; взрослый мужчина обыкновенно совсем отвыкает плакать. Но с тех пор, как нервные центры начинают слабеть, в глазах снова замечается наклонность к слезотечению, что служит первым признаком наступившего нисхождения жизненной параболы.
Вообще, выражения сосредоточенные, немые, с признаками слабой реакции составляют особенность зрелого возраста, – быть может потому, что в эту пору жизненный опыт делает нас уже менее чувствительными, или потому, что самолюбие и чувство собственного достоинства стараются умерить выражение страдания. Слезы, не сопровождаемые ни единым звуком плача, без всякого видимого расстройства дыхания, представляют в зрелом возрасте одну из самых выдающихся особенностей глубокого страдания.
В старости обычными выражениями страдания являются легко источаемые слезы, хриплый и жалобный плач, робкое изнеможение, – несмотря на то, что возрастающей эгоизм и притупление чувствительности стремятся уравновесить развитие слабости.
Если бы понадобилось резюмировать, возможно, проще наиболее характерные выражения страдания в различных возрастах, то я установил бы пять следующих главных типов:
1. Детство – крики без слез; сильный плач.
2. Отрочество – тихая грусть и меланхолия.
3. Юность – реакция угрозы.
4. Зрелый возраст – выражение горечи.
5. Старость – жалобные стоны и слезы.
Внимательно наблюдая выражения страдания различных специфических органов чувств, можно открыть новый закон, бросающий свет на множество загадочных фактов в области человеческой мимики и высшей психологии.
Характер специфических страданий органов чувств обусловливается соргана; в их выражении сказывается не только искусство самозащиты, но и законы симпатии, которые связывают каждое ощущение с определенной областью головного мозга, а, следовательно, и с известным чувством и мыслью.
Слишком яркий цвет, недостаток гармонии в сочетании цветов поражают наш глаз непосредственно. Это специфическое страдание мы и выражаем самым естественным образом, закрывая глаза, плотно сжимая веки и сокращая в то же время те мышцы, которые связаны анатомически и физиологически с круговой мышцей век. Это выражение донельзя сходно с той формой мимики, в какой проявляются и умственные страдания самого высшего порядка. При виде уродливой статуи, безобразной картины в сущности поражается не сетчатая оболочка, а тот, пока еще неизвестный, центр головного мозга, в котором сосредоточены эстетические энергии. Так как статуя или картина является первоначальной причиной эстетических страданий, то мы и выражаем их тем, что закрываем один или оба глаза, – так точно, как если бы нас ослепил слишком яркий свет. То же самое происходит, когда мы слышим какую-нибудь классическую глупость, если только, по закону контраста, она не заставит нас рассмеяться[57].
Таблица 3
Страдания органов чувств: а – вкусовое, б – обонятельное, в – зрительное, г – слуховое.
Итак, можно формулировать закон, что мимика зрительных, страданий весьма аналогична с мимикой страданий умственных, – именно потому, что зрение есть наиболее духовное чувство и самый обильный источник идей.
Если мы обратимся к другим специфическим чувствам, то увидим, что и они подтверждают тот же закон. Слух – это ощущение, стоящее в самой непосредственной и тесной связи с чувствованием; поэтому-то и выражение специфического страдания слуха тождественно с выражением самых кровных оскорблений наших сердечных привязанностей. В своем атласе страдания я представил беглый набросок выражения внезапного страдания, возникшего у одного очень чувствительного молодого человека, когда он вдруг заметил, что я царапаю всеми десятью ногтями по стеклу.
Итак, можно считать доказанным, что специфическое выражение слухового страдания совпадает с выражениями чувств благосклонных или, как говорится обыкновенно, – чувства привязанности.
Аналогия между выражениями страданий органов чувств и страданий нравственных сделается еще более очевидно, если мы станем изучать мимику носа.
Под впечатлением очень неприятного запаха ноздри сжимаются, нижняя губа выдвигается, и мы невольно производим некоторые движения лица, имеющие целью задержать вхождение в носовую полость воздуха, а, следовательно, и зловония[58].
Мимика эта совершенно подобна тем мимическим выражениям, которыми передается наше чувство пренебрежения и презрения к подлому поступку или к бесчестному человеку. Когда наше личное достоинство возмущено оскорбительным предложением, когда мы по какой-нибудь причине испытываем чувство нравственного отвращения, мы всегда сжимаем ноздри, всегда приподнимаем верхнюю губу, подобно тому, как выражается иногда сардонический смех.
Стало быть, мимика обонятельных страданий имеет большое сходство с мимикой презрения и оскорбленного достоинства.
Изучение безмолвных страданий оскорбленного самолюбия дало мне возможность открыть впервые те законы мимической аналогии, которые я стараюсь здесь изложить. Когда мы оскорбляем самолюбие человека, который в силу своего общественного положения или слабости характера не в состоянии дать нам отпор, и если он хочет показать при этом, что наши оскорбления его не задевают, то мышцы его лица немедленно и невольно становятся неподвижными почти до исчезновения всякой мимики и приходят в своеобразное статическое сокращение. Движение это, быстрое как молния, может ускользнуть от поверхностного наблюдателя, но оно очень характерно и почти тождественно у всех людей. Статическое сокращение и напряженная неподвижность лица сопровождаются скоплением во рту слюны, так что через нисколько минут оскорбленный субъект вынужден бывает проглотить ее[59].
Таким образом мы можем сформулировать и четвертый закон: мимика вкусового страдания, и преимущественно вызванного ощущеньем горечи, представляет сходство с мимикой безмолвных страданий самолюбия.
Выражение личных чувств обыкновенно бывает концентрическим, центростремительным; напротив, выражения привязанностей и сострадания имеют характер эксцентрический, центробежный. В этом мы убедимся позднее, при изучении мимики страсти; но и теперь уже следует установить этот принцип, так как он применим и к выражению страданий, исходящих из того же источника.
Очень характерно выражение страха, который, по нашему мнению, есть ни что иное, как страдание привязанности к жизни[60]. Поскольку центробежные силы, развивающиеся из этого чувства, могут быть колоссальны, постольку же и основанные на нем страдания проявляются в наиболее красноречивых, выразительных формах.
Страх, как и все эгоистические душевные порывы, имеет очень концентрический характер: кожа делается бледной, холодной, а затем влажной от пота; сердцебиение, сначала сильное и неправильное, становится потом медленным, дыхание затруднено; волосы на коже поднимаются, как под влиянием холода.
Если страх усиливается и переходит в ужас, то крылья носа раздвигаются, глаза чрезмерно раскрываются, как бы всматриваясь в предмет, внушающий нам ужас; они могут даже совсем закатываться и судорожно двигаться вправо и влево. Мышцы лица искривляются судорогой, все тело может колебаться, подобно маятнику, и обнаруживать спазмолические движения различного характера; наконец, может наступить мышечный паралич, придающий телу вид трупа или глубокого обморока; ослабевшие внутренности не могут удерживать своего содержимого.
Выражение умственных страданий, быть может, труднее всего поддается изучению, – потому ли, что мимика их мало экспансивна, или же потому, что они всегда осложнены другими страданиями, именно страданиями самолюбия.
Мимика печальных дум, признаком которой является уже указанное нами спазмолическое сужение или расширение глаза, сосредоточивается всегда в области головы, служащей главным и естественным центром этого рода страданий. Голова покачивается при этом с боку на бок, лоб морщится, человек ударяет себя руками по черепу; иногда эти удары повторяются по тому или другому месту лба, подобно тому, как толкают остановившиеся часы, желая привести их в движение. Иной раз почесывают себе голову, или же, совершенно закрыв лицо ладонями, погружаются в продолжительное и печальное раздумье. Во многих случаях к этому присоединяется сардонический смех, так часто сопровождающий возвышенные и благородные страдания.
Когда выражение страдания повторяется на лице часто, в течение многих дней, месяцев, даже лет, то соответствующие мышцы образуют постоянную складку, и кожа, которой передаются все мышечные движения, покрывается неизгладимыми морщинами. Если к этим явлениям, относящимся к функции произвольных мышц, мы присоединим другие изменения, зависящие от условий пищеварения или от сосудистой системы, – каковы, напр., бледность, землистый цвет, исхудание, краснота глаз и т. п., – то перед нашими глазами встанут хорошо знакомые образы, которые мы обыкновенно называем: физиономия печальная, меланхолическая, страдальческая, тоскливая и т. п.
Сколько свойственно человеку страданий физических и нравственных, столько же можно насчитать и стойких выражений страдания; но все они могут быть сведены к следующим наиболее частым и наиболее характерным типам:
Постоянное выражение страданий пищеварения.
– полового.
– физического.
– самолюбия.
– привязанности.
– скуки.
Постоянное выражение страданий меланхолии.
Постоянное выражение страданий лицемании.
Постоянное выражение страданий ипохондрии[61].
Лицо человека может выражать несколько душевных движений сразу или преемственно, в течение непродолжительного времени, так что последние следы исчезающего выражения сливаются с первыми проявлениями нового волнения. Такого рода переходы труднее всего поддаются как физиологическому анализу, так и художественному воспроизведению.
Разлагая искусственным путем эти двойные и тройные мимические комбинации, можно их свести к следующим главным типам.
Выражения страдания, сопровождаемые любовью.
Выражения страдания, сопровождаемые ненавистью.
Почти при всех сердечных страданиях выражение любви проявляется одновременно с высшею степенью скорби. Когда мы видим перед собою любимого человека, его труп, его портрет, или даже когда мы его представляем только в своем воображении, мимика любви может чередоваться с мимикой страдания, сочетаться с нею и даже сделаться преобладающею. Здесь содержится драгоценный источник эстетических элементов, из которого художники черпали свое вдохновение для несравненных созданий искусства, трогающих нашу душу[62].
Глава XI. Мимика любви и расположенности
Подобно тому как удовольствие и страдание являются двумя полюсами в сфере чувствительности, так точно любовь и ненависть представляют два полюса в мире страстей. Поэтому, если мы желаем представить научный разбор мимики, то в основу нашего исследования должны быть положены эти две точки отправления.
Как только возникла в нас известная симпатия, мы стремимся приблизиться к привлекательному для нас предмету – будь это грациозное животное или красивая женщина, наш собственный ребенок или избранник нашего сердца. Стремление это господствует над всей сферой привязанностей, над всеми способами их выражения. Оно обнаруживается, начиная с первого движения, которое оборачивает нашу голову к любимому предмету, и может дойти до жарких объятий, которые освящают союз двух существ или создают новое. От точки отправления до окончания пути расстояние велико, хотя его можно пролетать на крыльях страсти в мгновение ока; во всяком случае в основе мимики расположенности всегда лежит следующий основной принцип: приближение к тому, что привлекает.
В момент приближения мы обыкновенно обнаруживаем чувство удовольствия, которое может проявляться в различных формах; но все они главным образом сводятся к выражению радости от приближения к любимому предмету и к желанию встретить взаимность. И так, если не ошибаюсь, основные элементы как самых простых, так и самых сложных выражений расположенности—приближение и удовольствие, сопровождаемое желаниями. Это – положительные черты любовной мимики, отрицательные же признаки ее заключаются в полном отсутствии выражений ненависти, гнева, угрозы. Это язык, который может быть немым, или может сопровождаться какими-нибудь незначительными движениями, но всякий смышленый человек поймет его с первого взгляда. Попробуйте расспросить любую красивую женщину, которая пробыла несколько минут в салоне, окруженная мужчинами, и она вам сразу может шепнуть на ухо, кто из них ее любит и кто к ней равнодушен, кто добивается ее чувства из прихоти, и кто с первого взгляда безумно в нее влюбился. И если существует много оттенков вожделения и любви, то она определит вам характер и степень каждого вожделения и каждого вида любви.
Второстепенные элементы мимики, которые группируются около этих двух главных, весьма многочисленны; перечень их мы сделаем ниже в особой таблице. Однако же, на некоторых из них мы должны будем остановиться дольше, отчасти потому, что они мало изучены, отчасти потому, что они позволят нам проникнуть глубже в механизм мимики привязанностей.
Привязанность – это сила по преимуществу центробежная; она стремится, так сказать, переселить частицу нас самих в любимое существо. Наше «Я», почти совершенно отрешаясь от самого себя, старается войти в другое человеческое существо и уподобиться ему. Отсюда и возникает та подражательная симпатия, которая неудержимо вызывает у нас такую мимику, которая воспроизводит на нашем лице душевные движения, проявляющаяся у любимого нами субъекта.
Эта подражательная симпатия свойственна всем животным, ведущим общественную жизнь. Мимоходом, но мастерски коснулся ее Лафатер в своей книге в главе «О взаимном воздействии физиономий одна на другую». Послушайте, как тонко он говорит об этом предмете:
Каждому случается перенимать привычки, жесты, выражение лица у тех, с кем часто приходится видеться. Мы некоторым образом усваиваем себе все, что любим, при чем происходит одно из двух: или мы сами уподобляемся любимому предмету, или этот последний становится похожим на нас. Все, что нас окружает, оказывает на нас свое влияние и в свою очередь подчиняется воздействию с нашей стороны. Но ничто не влияет на нашу личность с такой силой, как то, что нам нравится, и, несомненно, ничто не может быть нам так приятно, ничто не может так волновать нас, как человеческое лицо. Оно нравится нам потому именно, что гармонирует с нашим собственным лицом. Разве, оно могло бы иметь на нас влияние и казаться нам привлекательным, если бы не существовало точек притяжения, определяющих сходство или, по крайней мере, однородность его форм или его черт с нашими. Я не буду пытаться проникнуть в глубину этой непостижимой тайны; я не берусь разрешить трудный вопрос—как это происходит; но достоверен тот факт, что с одной стороны есть лица привлекательные, с другой отталкивающие. У двух индивидов, которые взаимно симпатизируют, или часто видятся друг с другом, обыкновенно вместе с одинаковым развитием их внутренних качеств замечается также и сходство в чертах лица, которое устанавливается взаимным обменом личных ощущений. Наше лицо, если можно так выразиться, сохраняет в себе отражение любимого предмета.
Далее этот горячий друг людей, чтобы иллюстрировать свою теорию симпатии, приводит изображения двух супругов. Муж, сделавшись ипохондриком, изменился в лице и видны все признаки глубокого отчаяния и упорного отвращения ко всякой пищи. Жена, которая его боготворила и ежеминутно следила за печальным превращением дорогого лица, мало помалу стала сама впадать в ипохондрию, и лицо ее приобрело выражение, сходное с выражением лица ее мужа. Оба они выздоровели, при чем лица их снова приняли свое обычное выражение.
В виду этого Лафатер благочестиво заканчивает свою статью, приводя очень кстати два прекрасных отрывка из Библии:
Все мы, открытым лицом, как в зеркале, созерцая славу Господню, преображаемся в тот же образ славы во славу…. (2 Кор. III, 18).
Мы станем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть (Иоанн III, 2).
Сильную подражательную симпатию пробуждает в нас не только лицо живого человека, но и портрет его, если только он похож и выразителен. На письменном столе Фридриха Великого стоял всегда бюст Юлия Цезаря. Я видел этот бюст, и он произвел на меня глубокое впечатление, – до того еще силен блеск гения в этом немом мраморе, несмотря на столько веков. Прусский король говорил, что этот Цезарь вдохновлял его на великие подвиги. Для того чтобы испытывать подобные влияния, не нужно быть великим человеком, достаточно быть просто человеком. Со времени моей юности перед моими глазами всегда находилась гравюра, изображающая Рафаэля Менгса и выполненная по его собственноручному портрету. Этот благородный и вдохновенный облик постоянно уносил меня в область высоких идеалов и побуждал к умственной работе.
Подражательная симпатия, составляющая одно из простейших явлений отраженной жизни чувств, особенно ярко выступает в мимике любви; но здесь она осложняется элементами высшего порядка.
Самый элементарный факт этого рода представляет тот случай, когда мы, притворяясь плачущими, заставляем плакать ребенка, который нас любит, хотя ему и неизвестно почему и как мы страдаем.
Более сложное явление происходит тогда, когда человек становится на колени перед любимой особой, целует ее ноги, как бы желая довести до совершенного ничтожества свое личное «Я», сделать его чем-то зависимым, какой-то частицей любимого существа. Это желание слиться с другим, умалить себя, чтобы возвеличить того, кого любишь, по моему мнению, выходит из узких пределов мимики и охватывает более обширную сферу и самые широкие горизонты мысли. Мы видим это по употреблению уменьшительных имен, которые в ходу между любовниками, а иногда и между друзьями, и которыми пользуются маменьки в разговоре со своими детьми; человек тонко и великодушно умаляет себя как будто для того, чтобы любимому существу легче было охватить и поглотить его. Ведь маленьким предметом удобнее овладеть, и потому в присутствии любимой особы мы хотели бы превратиться в цыпленка, в канарейку, во что-нибудь крошечное, чтобы всецело находиться в ее руках, чтобы чувствовать себя сжатыми со всех сторон ее теплыми и любящими пальцами. Есть еще и другая секретная причина к употреблению уменьшительных имен. Маленькие создания бывают нежно любимы, а нежность есть высший признак всякой крупной силы, которая может развиваться и расходоваться по собственному произволу. После сильного, горячего, стремительного объятия всегда следует нужная нота, и уменьшительные формы мимики или слов играют при этом видную роль.
Рассмотрев самые важные общие признаки расположения, нам следует теперь разложить их аналитическим путем.
Многие из этих мимических элементов наблюдаются и у животных. Дарвин описал ласки привязанности кошек и собак по отношению к их хозяевам, и подобные наблюдения с натуры мог бы сделать каждый. В своей «Физиологии любви» я также описал несколько сцен этого рода из мира животных, где постоянно преобладают два существенных элемента любовной мимики: приближение и удовольствие. Во всю жизнь я не увижу более ничего подобного кокетничанью двух улиток, которые, обменявшись ударами метательных камешков (подобно доисторическим людям), ласкались и обнимались с такой грацией и такой чувственностью, что могли бы возбудить зависть самого утонченного эпикурейца.
Мимика расположенности начинается стремлением к сближению и оканчивается взаимным соприкосновением тел, или некоторых частей тела.
Именно, в инстинктивном выборе тех или других членов для соприкосновения и выражаются разнообразные виды расположенности, – от самого святого благоговения и до самых чувственных вожделений. У всех народов земного шара замечается стремление соприкасаться наиболее подвижными и наиболее чувствительными частями тела. Вот почему рука и рот являются главными органами мимики расположенности. Относительно руки, однако, существует большое единодушие, потому что есть, кажется, народы, которые никогда не целуются. Ссылаясь на авторитет Дарвина и некоторых других исследователей, я назову из числа таких народов: фиджийцев, маоритян, таитян, папуасов, австралийцев, обитателей Сомали в Африки, а также эскимосов и древних японцев.
Я никогда не забуду своего долгого спора с благородным и интеллигентным живописцем с острова Явы, Баден-Салеком. Он говорил мне, что, подобно всем малайцам, он находит больше нежности в соприкосновении носов, чем в соприкосновении губ. «Ведь носом дышат, – добавлял он, – носом мы ощущаем дыхание любимого существа, и нам кажется, что мы сливаем при этом свою душу с его душой». Я говорил в защиту губ; но мы могли бы проспорить целый день и все-таки не убедили бы друг друга; наши вкусы в области чувствований были слишком несходны. Наших женщин он находил очень красивыми, но никак не мог примириться с нашими орлиными носами, такими длинными, такими огромными, по его выражению.
В широком смысле слова, ласка может быть выражена какой угодно частью тела. Нога, впрочем, употребляется с этою целью весьма редко, да и то разве в тех случаях, когда для этого нельзя воспользоваться другим членом, или же у народов отсталых, которые имеют обычай для выражения преданности и уважения к какой-нибудь особе ставить себе на голову или на лицо ее ногу.
Настоящим же органом ласки служит рука. Пальцы ее – это суставчатые и гибкие рычаги, которые дают возможность дотрагиваться, щекотать, сжимать, обнимать, охватывать, увеличивая число нежных прикосновений и приятных ощущений. Не даром слова cher и caresse имеют общее словопроизводство (carus). Ласкающая рука ищет другую руку, или же, в моменты более нежного умиления, – лицо любимого человека; часто нам недостаточно одной руки, а иногда и обеих. Посмотрите на мимику материнской привязанности, когда мать любящей рукой гладит по лицу своего ребенка, и скажите, можно ли найти более нежное и более естественное выражение любви.
При своих ласках человек нечто отдает и вместе с тем нечто воспринимает. К руке, расточающей любовь, от кожи любимой особы, словно магнетические токи, прибывают волны другой любви. Вот почему одно из самых обычных и самых чувственных любовных излияний состоит в перебирании волос рукою. В этом лабиринте гибких и живых нитей рука находит неисчерпаемый источник осязательных наслаждений. Каждый волос – точно электрическая нить, приводящая нас в тесную связь с чувствами, сердцем и даже мыслью любимого существа. Недаром длинные волосы женщин во все времена считались залогом любви, и недаром лысые оплакивают утрату целой области в мире наслаждения.
Пожатие рук – один из видов ласки, но наименее чувственный. Оно служит простым выражением того, что два человека узнают друг друга, что они не желают один другому вреда и не имеют основания питать друг к другу ненависть. Это одно из распространенных приветствий в человеческой семье, и даже дикие народы, у которых оно не в обычай, истолковывают его всегда, как знак расположения. У народов цивилизованных рукопожатие есть самый естественный способ выражения дружбы, в котором часто рельефно выступают характерные черты народности. Всем известно сильное и энергичное schake-hand англичан. Итальянцы пожимают руку со страстной стремительностью, совершенно чуждой народам севера. Многие люди, очень холодные и мало общительные, никогда не отвечают на ваше рукопожатие: вы держите в своей руке какой-то мертвенный член, внушающий страх и отвращение.
Хотя пожатие руки является одним из простейших мимических актов, но в нем может заключаться столько разнообразных оттенков выражения, что описание их составило бы целую книгу. Пожимая руку другу или любовнику, можно желать этим сказать: я вам не доверяю, я вас больше не люблю, я чувствую к вам влечение, я вас обожаю, я вас жду…
Пожатие руки, сделанное мужчиной женщине, может быть дерзким, более дерзким, чем пощечина.
В ряду прикосновений, служащих выражением расположенности, после ласки и рукопожатия следует объятие, представляющее собою род переплетения верхних конечностей; бросаясь друг к другу в объятия, два существа почти отдаются взаимно друг другу, как бы желая слиться в одно. Способ объятия бывает различен даже у цивилизованных племен: то обнимающиеся обхватывают туловище друг друга обеими руками, то перекидывают друг другу через плечо одну руку, касаясь ею различным образом спины. Иногда объятие совершается в два приема: обнимают сначала одну, а потом другую сторону туловища своего друга или своей подруги. В своем путешествии в Лапландию[63] я описал способ объятий у лапландцев, а в своем «Dio ignoto»[64] – странный обычай у обитателей пампасов.
Выше объятий, или, лучше сказать, в иной сфере любовных чувств, стоит поцелуй, который совершенно неизвестен многим народам, но распространен у всех цивилизованных наций, хотя в разной степени и с очень различным значением. Французы, например, целуются ежеминутно – даже лица разного пола; напротив, у итальянцев, и особенно у восточных народов, поцелуй может быть дан только жене, дочери или сестре.
Поцелуй играл видную роль на страницах истории человеческого рода: нередко поцелуй смывался кровью, возбуждал войны между племенами или народами. И это естественно: как источник бесконечного наслаждения, он мог возбуждать и бесконечную зависть; он мог открывать измену или сулить блаженство.
Хотя губы и покрыты кожей, но они уже имеют свойства внутренностей. На этой розовой границе, где нет ни национальных гербов, ни таможен, сходятся внешняя и внутренняя природа человека и обмениваются своими проявлениями, при чем тысячи очень чувствительных нервов раздают и получают вновь впечатления наших ощущений, нашего сердца и мысли. Поэты были правы, говоря, что здесь встречаются две души; влюбленные всех времен были тоже правы, когда в страстном томлении восклицали: «Только один поцелуй, или смерть!» Случается нередко, что поцелуй сопровождается обмороком.
Поцелуй одновременно дает приятное внешнее и внутреннее ощущение; но существует громадная разница между поцелуем взаимным и поцелуем только данным, или только полученным. Многие женщины знают это и, будучи казуистами более чем любой теолог или адвокат, признаются, не краснея, в том, что получали много поцелуев, но добавляют, что сами никогда не отвечали на них.
Быть может, своим анализом мы профанируем это мимическое явление; однако, с научной точки зрения верно то, что поцелуй, оставшийся без ответа, равняется не принятому векселю. Вексель может быть ценою в тысячу, сто тысяч франков, миллион франков, но раз на нем нет подписи принимателя, он не стоит и гроша. Поцелуй только данный – это монолог, желание, стремление; поцелуй возвращенный – это принятый вексель, часто написанный слезами или кровью, но имеющий за собою мощную власть совершившегося факта. Поцелуй данный – это одно из тысячи семян, рассыпаемых щедрой природой на все четыре стороны и сохнущих или гниющих при отсутствии благоприятной для них почвы.
Напротив, поцелуй возвращенный не проходит бесследно. Хотя бы даже такой поцелуй не оскорблял ничьего знамени, хотя бы из-за него не нарушались международные союзы и трактаты, – и тогда он все же есть торжественный договор, как бы передающий нам частицы плоти, сердца и мысли другого человека. Взаимный поцелуй – это брак; с ним неразлучны румянец при воспоминании о прошлом и соглашение относительно будущего. Страх, религия, выгода, пространство, время могут разлучить мужчину и женщину, обменявшихся поцелуем, но они отдались и принадлежат друг другу.
Поцелуй данный может быть настолько мало чувственным, что его нельзя отнести к мимике любви. Целуют ноги идолов, святые мощи, одежду героев и холодный мрамор храмов. Во всех этих поцелуях участвует одна пара губ – та, которая целует. Даже и между живыми людьми такой поцелуй может выражать уважение, благоговение, но не любовь. Так целуют руку из вежливости, благодарности или покорности. Так же целуют в лоб сына, дочь или великого человека, которому удивляются.
Еще большей особенностью отличаются холодные поцелуи, требуемые приличием, в которых хотя участвуют две пары губ, но губы эти не встречаются. Каждый нос целует щеку, потом ловким chassez-croisez носы меняются местами и прикасаются к другой щеке. Все же, однако, это поцелуи; научно они относятся к мимике расположенности; но какая пропасть между ними и поцелуем Паоло и Франчески!
Когда уста отдаются друг другу, когда целующиеся губы сливаются воедино, когда исчезает всякая граница между «твоим» и «моим», когда кожа и нервы, душа и тело соприкасаются, сплетаются и сливаются, – вот это настоящий поцелуй, являющийся, быть может, и самым прекрасным выражением любви, сближающий мужчину и женщину, чтобы возжечь свет факела жизни.
За губами находится другой очень чувствительный орган– язык, который нередко принимает участие в мимике любви. Это бывает и у животных, например, когда они лижут своих детенышей.
Я даже знаю одного очень нежного мальчугана, который, ни кем тому необученный, лижет тех людей, которым хочет выказать дружбу.
Различные элементы мимики, рассмотренные нами, комбинируются различным образом, слагаясь в сложные выражения, из которых наиболее выдаются следующие:
Выражение половой любви.
Выражение материнской любви. Тут мы находим все яркие краски эротического мира, за исключением чувственности. Так как это один из самых животных и наиболее непроизвольных видов любви, то отличительными чертами ее являются: стремительность, крайняя энергия и почти судорожная форма проявления. Многие великие артисты обессмертили себя изображением материнской любви, которая так полна чувства, так возвышена, так порывиста и так постоянна.
Выражение сострадания. Это двойное сочетание мимики страдания и мимики любви. Выражение это так обычно и так общеизвестно, что самые посредственные живописцы умели изображать лицо человека, который при виде чужих страданий страдает и сам [cum eo patitur].
Выражение расположенности вообще. Это спокойное, ясное выражение расположения, без ярких красок желания и наслаждения и без печального оттенка сострадания.
Постепенно оно может возвыситься до мимического выражения дружбы, которая представляет возвышенное и очень определенное проявление расположенности между людьми. Оба эти выражения характеризуются улыбкой, растяжением черт лица и некоторыми движениями, что все вместе выказывает нашу готовность помогать своим ближним, ободрять их, а иногда плакать и смеяться вместе с ними.
Это выражение расположенности к людям может сделаться постоянным, и тогда лицо принимает тот типический характер, который в общежитии называется лицом любезного человека, лицом хорошего человека. Мы еще будем говорит об этом по поводу критериев, руководящих нами в оценке нравственного достоинства физиономии; но пока я позволю себе указать, какая неопределенность на этот счет царит в трудах физиономистов не только древних, но даже и новейших. Послушайте, например, что говорит об этом Да Лапорта:
О лице хорошего человека. Так как нравственность сопутствует всегда справедливости и ненависти к порокам, то мы соберем вместе отдельные черты добродетельного и нравственного человека и создадим из них образ, характерные признаки которого могут быть признаны средними для большинства.
Хороший человек. Узнается по отсутствию резкости в его чертах. Большой нос, пропорциональный всему лицу, или длинный, нависший над ртом, или короткий с открытыми ноздрями. Лицо красивое, дыхание правильное, грудь и плечи широкие; бюст средний; глаза впалые, большие, подвижные, как вода в стакане, со смелым взглядом, всегда открытые, темные и влажные. Вид приветливый или меланхолический; брови густые; взгляд строгий или унылый.
Благонравные люди. Взгляд имеет выражение среднее между спокойствием и волнением. Уши довольно велики и четвероугольны, фигура средняя, голос средний между оживленным и слабым или нежным; смеется редко; ногти широкие, белые или розовые; глаза голубые и впалые, большие, неподвижные и сияющие, влажные, как вода; ноги хорошо сложены, нервные, с тонкими связками[65].
Нельзя не пожалеть того, кто захотел бы воспользоваться этими портретами, чтобы распознать доброго и благонравного человека.
Тот, у кого малый нос, не может быть добродетельным человеком, а тот, у кого темные глаза, должен отказаться от права считаться благонравным! Сколько каббалистики, сбивчивости, сколько предположений и как мало науки! Подвергая строгому анализу положения неаполитанского физиономиста, можно найти в них только две истины: во-первых, что лицо порядочного человека не представляет положительных черт злобы, во-вторых, что глаза его «имеют взгляд смелый», т. е. выражают прямодушие и искренность.
Перенесемся, по крайней мере, на два века вперед, и посмотрим, как изображает Лепеллетье человека добросовестного, снисходительного, неподкупного, самоотверженного.
Правильная голова с ясно очерченными контурами, заметное преобладание черепа над лицевой частью, черты лица обыкновенно тонкие, нежные и вполне пропорциональные; возвышенное, благородное, полное достоинства чело, сияющее неизъяснимым выражением душевной непорочности и красоты, отражающее самые чистые и прекрасные движения чувства и мысли.
Шея не толстая, округленная, медлительная и простая, но грациозная в своих движениях, свободно держащаяся на плечах, которые вообще мало выдаются и мало подвижны. Туловище тонкое, изящное, естественное в своих позах, гибкое, без резкости, вычурности и искусственности в своих движениях. Конечности, обладающие такими же счастливыми физиологическими свойствами, совершают только полезные, точные и сдержанные движения.
Как много красивых слов и как мало наблюдения! Какая неопределенность, и сколько ложных умозаключений Лепеллетье, живший двумя веками позже Да Лапорты, не сумел исправить ни одной черты в странном изображении, которое начертал его предшественник.
Лафатер, которому все-таки не доставало научного направления, чутьем угадывал то, чего ему не мог дать научный опыт. Послушайте его:
Признаки честного лица. Нет такого лица, которое не могло бы выражать известную степень честности; но не всем лицам свойственно это в одинаковой мере. Самые неуклюжие, самые безобразные лица имеют иногда в высшей степени честное выражение, а самые красивые и правильные – часто бывают обманчивы. Тем не менее, правильные черты лица внушают мне больше доверия, нежели уродливые. Когда брови, глаза, нос и губы пропорциональны, то выражение честности в лице, приобретает от этого еще большую определенность.
Не впадая в ошибку, честным можно назвать такое лицо, в котором соединены в равной степени выражения силы и доброты. Одно добродушие само по себе предпринимает иногда то, чего оно не в силах сделать; дает такие обещания, которых не в состоянии выполнить; начинает то, чего не может довести до конца. Силу, если она не смягчена добродушием, трудно побудить к деятельности; она не делает того, что могла бы сделать; она становится орудием притеснений и несправедливости. Добродушие без силы тоже, что туча без дождя; сила без добродушия – это груз без рычага. Обладая только одним из этих двух качеств, нельзя быть вполне хорошим человеком. Сила без добродушия переходит в суровость, добродушие без силы вырождается в простоватость. Одна грешит избытком мягкости, другая излишком суровости; как раз середину между ними занимает сила деятельная – справедливость, честность.
Таким образом, мягкость и твердость, взятые в отдельности, не совпадают с понятием о честности. Последняя требует для себя сразу и снисходительности, и силы: силы, которая бы не притесняла, и снисходительности, которой нельзя было бы злоупотреблять; она приводит нас к сознанию, что мы такое в действительности и чем мы не можем быть, что мы можем сделать и что превышает наши силы. Таковы основные черты честности. Хитрость – это недостаток силы, который желают скрыть, прибегая к усилию. Но всякое усилие, не отвечающее внутреннему побуждению или непосредственному действию какой-нибудь внешней причины, есть ничто иное, как притворство. Что притворно, то неестественно, а что неестественно, то противно честности.
И далее:
Человека честного, равно как и истинно умного, я распознаю в особенности по его манере слушать. В этот именно момент сила и добродушие в их взаимных отношениях выступают с наибольшею отчетливостью.
К числу физиономических признаков честности я отношу еще известный блеск глаз, ясность взгляда, в котором спокойствие кажется соединенным с подвижностью и который занимает середину между сверкающим и тусклым взглядом; – рот без гримас и судорожных искривлений; соответствие между движениями губ и глаз; цвет лица не слишком серый, не слишком красный и не чересчур бледный.
Перечисленные мною признаки могут отсутствовать во многих честных физиономиях; но очень мудрено встретить их вместе на лице плута.
Человек, который, смеясь от чистого сердца, не обнаруживает ни малейшего признака иронии, который, после первого взрыва веселости, продолжает тихо улыбаться, и лицо которого принимает затем выражение удовлетворенности и ясности, – такой человек, наверное, заслуживает нашего доверия, и честность его не подлежит сомнению. Вообще различные оттенки смеха и улыбки могут служить характерными признаками честности или лукавства.
А вот посмотрите еще, как Лафатер, будучи сам священником и святым человеком, мало уважал своих собратьев. Он заканчивает эту главу следующими словами:
Физиономические черты мужества сопутствуют чертам честности. Всякий обман есть трусость. Исходя из этого принципа, я думаю что ни в одном сословии честность настолько не распространена, как среди военных. Зато весьма редко она встречается в другом звании, которое я не хочу называть.
Нам хотелось привести целиком эту страницу из Лафатера, так как в ней сразу отражаются и недостатки, и достоинства бессмертного писателя. После чтения Да Лапорты и Ле Пеллетье здесь чувствуешь себя как бы перенесенным в другую, более чистую атмосферу, удивляешься тонкости психологических наблюдений и чисто женственной чуткости, умеющей различать в этом полумраке самые нежные черты человеческой природы. Но, с другой стороны, сколько неопределенности в этих штрихах, сколько догадок вместо наблюдений, какое беспрестанное смешивание самих фактов с их истолкованием!
В настоящее время мы справедливо сделались более требовательными относительно научных методов; и вот почему при изучении физиономии и мимики нам чаще приходится разрушать старое, чем созидать новое. В настоящее время мы должны ограничиться лишь тем замечанием, что у людей, расположенных к добру, чаще всего появляется мимика благосклонности, и потому на лице их становятся постоянными те выражения, которые мы старались анализировать и изучать в настоящей главе. Если бы, однако, от меня потребовали более точного определения в виде неизвестного афоризма, то вот моя формула со всеми ее явными недостатками.
Лицо порядочного человека прежде всею отличается откровенностью, потому что ему нечего скрывать; оно бывает ясным и смеющимся, так как обычное благосклонное настроение духа составляет одну из самых надежных и прочных радостей жизни.
Глава XII. Мимика умиления, благоговения и религиозного чувства
Умиление, благоговение и все другие сердечные и умственные волнения, совокупность которых мы называем религиозностью, относятся к разряду чувств доброжелательных, а потому и соответствующие им выражения имеют сходство с мимикой расположенности. Мы не можем, конечно, выражать уважение, благоговение или религиозный восторг сжиманием кулаков, скрежетом зубов или какими-нибудь другими проявлениями гнева.
Рассматриваемые нами выражения всегда складываются из различных элементов. Благоговение состоит из чувства любви и удивления в одно и то же время; удивление же есть явление умственное, имеющее свою особую мимику. В чувство умиления, уважения, преданности примешивается еще третий элемент – наше инстинктивное стремление умалиться перед существом, которое мы признаем или относительно которого верим, что оно сильнее или выше нас. Все эти элементы заключаются и в религиозном чувстве, но здесь к ним присоединяется еще чувство страха, надежды или раскаяния. Мы постараемся рассмотреть сравнительным путем каждое из этих выражений.
Уважение, умиление, благоговение
В простейших выражениях уважения появляется улыбка сердечной расположенности, но здесь она сдерживается и умеряется чувством более возвышенным. Глаза неподвижны и широко открыты, но в то же время взор направляется вниз, – первый признак, которым отмечается умиление, самоуничижение. Дарвин охарактеризовал мимику удивления лишь несколькими чертами; но это штрихи, проведенные рукою мастера.
Удивление состоит, по-видимому, из впечатления неожиданности, связанного с некоторым чувством удовольствия или одобрения. Когда оно проявляется с живостью, то брови раздвигаются, глаза открываются все шире и шире, тогда как при обычном изумлении они остаются неподвижными; при этом рот тоже не остается открытым, но складывается в улыбку.
В физиономическом атласе Лебрёна помещены три рисунка, изображающие этого рода волнения[66].
Лебрён говорит об удивлении:
Настроение это, не вызывая сильного возбуждения, очень мало изменяет и черты лица. Брови при этом поднимаются, а глаза раскрываются несколько больше обыкновенного. Зрачок, расположенный как раз по середине между веками, кажется пристально устремленным на предмет, рот полуоткрыт, при чем щеки не представляют никаких заметных изменений.
Рисунок IV Лебрёна изображение удивление, смешанное с изумлением, но он выполнен не особенно верно и скорее напоминает мимику чувственности. Объяснение, сопровождающее этот рисунок, говорит больше самого изображения.
Движения, посредством которых выражается это настроение, почти ничем не отличаются от движений, характеризующих простое удивление, – разве только тем, что здесь они сказываются живее и резче, брови поднимаются выше, глаза раскрыты шире, зрачок более удален от нижнего века и более неподвижен; рот раскрыт сильнее, и все вообще черты лица оказываются гораздо более напряженными.
Рисунок V изображает благоговение; но и здесь опять таки художник стоит ниже ученого. Глаза представлены чересчур сильно закрытыми, голова слишком опущена, так что лицо это с одинаковым успехом могло бы изображать и уничижение, и нравственное угнетение и много еще других душевных движений. Комментарий же к рисунку составлен и здесь удачно.
Удивление дает начало чувству уважения, из которого возникает благоговение; если благоговение возбуждено в нас чем-нибудь божественным или недоступным для наших внешних органов чувств, то оно выражается наклонением лица, опусканием бровей; глаза при этом почти закрыты и неподвижны, рот также закрыт. Движения эти спокойны и вызывают лишь очень мало изменений в других чертах лица.
Рисунок VI Лебрёна изображает восхищение – явление почти исключительно умственное, которое может быть вызвано различными причинами. Но так как оно косвенно сочетается и с религиозной мимикой, то нелишним будет напомнить здесь о том, что говорит по этому поводу Лебрён.
Хотя восхищение и благоговение касаются одного и того же предмета с разных точек зрения, но сопутствующие им движения далеко неодинаковы; при восхищении голова склоняется налево; брови и зрачки поднимаются вверх; рот полуоткрыт, и оба угла его также слегка приподняты. Остальные черты остаются в своем обычном положении.
В основе благоговения и умиления всегда лежит чувство расположенности. Доказательства этому можно видеть во многих актах вышеописанной элементарной мимики – в наклонности целовать руки, ноги или одежду того человека, который внушает к себе почтение, простирать вперед руки, обращенные ладонью к оси нашего тела, как будто они приготовились кого-нибудь ласкать. Этот акт, о котором Дарвин умалчивает, может быть объяснен еще иначе, а именно общим характером мимики удивления. Мимика эта всегда экспансивна; подобно тому как раскрываются глаза и рот, руки при этом тоже удаляются от туловища, причем ладони их могут быть направлены кнаружи или обращены к оси тела. Если не ошибаюсь, оба эти положения рук характеризуют два последовательные периода удивления.
Когда ладони обращены к оси тела, пальцы чаще всего бывают сжаты вместе, и этот жест как бы выражает стремление к ласке; действительно, чувство, которое мы испытываем при этом, имеет много общего с расположенностью. Наоборот, когда ладони обращены кнаружи, то пальцы часто сильно раздвигаются, как это бывает во время испуга. А так как в этих случаях удивление преобладает над расположенностью, то и мимика приобретает характер более умственный, нежели сердечный.
Если удивление достигает степени восторга, то руки скрещиваются, упираются в бедра, если человек сидит, или в живот, если человек стоит, – точно чувствуется при этом потребность принять спокойное положение, для того чтобы дольше оставаться в созерцательном состоянии и изведать все наслаждение восторга. В то же время голова слегка склоняется то к правому, то к левому плечу (но не всегда к левому, вопреки утверждению Лебрёна).
Другая форма мимики состоит в том, что руки складываются, как вовремя молитвы, – то у самого лица, то впереди, или, наконец, обращены ладонями кнаружи. Генслей Ведгвуд[67] видит в этих актах следы атавизма – бессознательное воспоминание о том времени, когда руки побежденного инстинктивно протягивались к цепям победителя.
Дарвин[68], по-видимому, склонен принять эту теорию. Я же позволю себе в ней усомниться, потому что, обращаясь с мольбою к Богу и к сильным мира сего, перед которыми мы смиряемся, мы складываем руки точно так же, как и при выражении благоговения или удивления. Я полагаю, что, привыкнув с детства известным образом складывать руки при молитве, мы употребляем тот же жест для выражения мольбы к тем людям, которые могут сделать нам много добра или много зла, и что таким образом они ставятся нами на место Бога.
Мне думается, впрочем, что в этих случаях мимические движения рук имеют не столь историческое, сколько органическое происхождение. Они служат или для того, чтобы расширить круг мимических излияний, или для того, чтобы симулировать желание или стремление обладать и ласкать предмет нашего поклонения или восхищения.
Согласно моим наблюдениям, я бы советовал художникам придерживаться следующих толкований мимики рук, сопровождающей выражение удивления на лице.
Распростертые руки, обращенные ладонями к оси тела.
Искреннее удивление, умиление, полное нежности. В самой характерной форме его можно наблюдать в том случае, когда человек смотрит на портрет дорогого для него покойника или на священный образ.
Широко раскрытые руки с раздвинутыми пальцами и с ладонями, обращенными кнаружи.
Удивление, перешедшее в изумление. Оно обнаруживается при виде какой-нибудь неожиданной и величественной картины природы.
Руки сжатые и упирающиеся в бедра или в живот.
Долгое, терпеливое и тихое созерцание прекрасной картины, прекрасной статуи, любимого существа во время его сна или, наконец, трупа обожаемого человека.
Руки сложенные, как бы для молитвы.
Восхищение, вызванное чем-то божественным, или каким-нибудь героическим поступком, или, наконец, изумительным произведением искусства.
Туловище и нижние конечности в свою очередь участвуют в выражении благоговения и удивления, но постоянно одинаковым образом сгибаясь и наклоняясь к земле. В этом настроении человек всегда стремится стать ниже другого, уйти в самого себя, точно стараясь занять как можно меньше пространства. Вот почему он и наклоняет при этом тело вперед, становится на колени и даже простирается лицом к земле.
У некоторых народов встречаются выходящие из ряду и унизительные проявления этой мимики; таковы, например, обычаи ползать на животе, лизать землю, подкладывать голову под ноги тому, кому хотят выразить почтение.
Я бы вышел из пределов начертанного мною плана, если бы захотел излагать историю всевозможных выражений и знаков почтения, употреблявшихся в различное время и различными народами, с целью определения ступеней, занимаемых ими в общественной иерархии. Тут выражение естественное уступает место условному, и мы вступаем в область условного языка, имеющего совершенно иное происхождение, чем мимика. Почти у всех цивилизованных народов принято в знак уважения снимать с головы шляпу; в других странах, напротив, это сочли бы за недостаток почтения. Да и у нас обнажают голову одни только мужчины, но не женщины. Быть может (по мнению Тэйлора), начало этого обычая кроется в условиях средневековой жизни, когда мужчины, при входе в церковь или в дом друга, должны были снимать с себя военные доспехи и шлем. Способ приветствия видоизменяется не только сообразно полу, эпохе и племени, но также и в зависимости от профессии; так солдат не может снимать у нас своего головного убора в знак приветствия, а должен для этого подносить только руку к голове.
В том немногом, что мы сказали до сих пор, заключаются уже все элементы, необходимые для определения религиозной мимики, которая не составляет особого мира, но является лишь областью, где сходятся самые разнородные душевные энергии, начиная от самых возвышенных стремлений до самого низменного страха, и образуют такую эмпирическую смесь, которая обыкновенно весьма трудно поддается научному определению.
В мимике религиозного чувства встречается и благоговение, и изумление, и горячая преданность, и ужас, и надежда, – словом все чувства, которые могут внушить нам люди или их неодушевленные изображения. Одна лишь черта составляет исключительную принадлежность этой мимики, – это поднятие глаз к небу, без сомнения основанное на вере в возможность увидеть там Бога и святых. В состоянии религиозной восторженности глаза могут закатываться до того, что роговая оболочка совершенно скрывается, подобно тому, как это происходит во время сна.
Благодаря тому, что искусство в течение веков почти исключительно носило религиозный характер, мы имеем целые тысячи памятников, на которых воспроизведены простое благоговение и мученичество, смиренная молитва и истерическое исступление; но даже и в бессмертных творениях великих живописцев и великих писателей мы не найдем такого изображения, которое чем-нибудь отличалось бы от мимики, присущей благоговению, страху, надежде, удовольствию или страданию. При некотором усилии воображения можно создать сколько угодно сверхъестественных миров, но нельзя изобрести ни одной маленькой мышцы, служащей для выражения известного чувства, которое представляет сумму большого числа энергий, присущих исключительно человеческой природе и доступных всецело анатомическому и физиологическому анализу.
Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить о Лафатере. При всей своей религиозности, он посвятил одну из наиболее длинных глав своего сочинения вопросу «О религии и религиозных физиономиях»; однако же, не смотря на его проницательность, ему удалось только описать характер религиозных людей, но не удалось нарисовать картину религиозной мимики.
Сказав, что существует религиозная организация, он чувствует необходимость оправдать это странное выражение и предполагает, что о нем могут, пожалуй, сказать: «Этот добрейший Лафатер сам не знает, что говорит: от усиленного писательства он совсем потерял голову». Несколько далее он различает троякого рода религиозные типы.
1. Тип напряженный и суровый (как, например, у Кальвина).
2. Тип неопределенный и мягкий (в роде Цинцендорфа).
3. Тип свободный и прямой, в котором резкие проявления строгости могут сочетаться с необыкновенной мягкостью (св. Павел и св. Иоанн).
Очень удачными штрихами он очерчивает физиономии иезуитов и представляет несколько хороших портретов Лойолы, Хименеса, Карла Борромея и многих других. Но поразительнее всего религиозное выражение на лице одного молящегося старца. Все художники, имеющие дело с религиозными сюжетами, должны вдохновляться этой маленькой гравюрой, в которой заключается целая поэма.
Вот комментарий, сопровождающий это удивительное изображение:
Сосредоточенность благочестивой души, погруженной в размышления о смерти, – души, все помыслы которой обращены к Богу, и которая, разочаровавшись во всем земном, жаждет лишь вечного покоя. Быть может, ее умиление робко и мало сознательно, но оно, по крайней мере, искренно. Все черты лица выражают его: начиная с печального и пугливого взора и кончая морщинами на лбу. Это не кающийся грешник, это – святой, который боится, при малейшем промахе, потерять свой путь к спасению. Тот жар, который никогда воспламенял его молодость, согревает еще и теперь его благочестие, не запятнанное фарисейским лицемерием.
В своем очерке о религиозной физиономии Лафатер виден весь в нескольких строках, где под плащом теолога и религиозного человека скрывается натуралист.
У каждого религиозного человека, смотри по его характеру, складывается своеобразное понятие о божестве. Флегматик поклоняется богу кроткому и спокойному, человек жестокий страшится божьего могущества и мести. Вот почему св. Петр и св. Иоанн говорили об одном и том же Боге – первый со страхом, второй с нежностью.
Если гению Лафатера не удалось создать физиономического типа религиозного человека, то нисколько не удивительно, что его заурядные ученики и писатели нового времени не достигли в этом деле большого успеха.
К некоторым из них критик может относиться не иначе, как с улыбкой. Торе[69] утверждает, например, что высокая макушка головы составляет общий признак всех религиозных людей:
Произведения искусства представляют много доказательств, подтверждающих это мнение. Почти у всех античных статуй верхняя часть головы мало возвышена. Таков тип языческий, в котором религиозность была менее развита, чем в типе христианском… Голова Христа, в изображениях художников, представляется замечательно развитой в верхней своей части, оттого ли, что художниками руководил инстинкт, или же потому, что тип этот был удержан в преданиях.
Лепеллетье характеризует благочестивого, искренне верующего человека следующими чертами[70]:
Голова, если она и не особенно велика, всегда хорошо сформирована, лоб высокий, но не чрезмерно; он чист, благороден, носит печать достоинства, без признаков тщеславия, суетности; сильные волнения не омрачают его чистоты; те же чувства, который могли бы нарушить его безмятежность, смягчаются небесными лучами, окружающими такое чело ореолом света и могущества; брови образуют две изящные и совершенно правильные дуги; глаза миндалевидной формы и довольно велики…
… Шея скорее длинна, чем коротка, и т. д.
О, мужчины, обладающие короткой шеей! О, женщины с маленькими и круглыми глазами! Откажитесь от надежды войти в рай? Так как ведь у вас не может быть ни истинного благочестия, ни искренней веры.
Глава XIII. Мимика ненависти, жестокости и гнева
Сколько раз в жизни приходится нам, вздыхая, повторять исполненные глубокого смысла слова Сёма: «Небо испортило нам землю!» В сфере страстей ненависть находится в таком же отношении к любви, как страдание к удовольствию в области ощущений; и мимика ненависти должна быть противоположна мимике любви, подобно тому как диаметрально противоположны те чувства, которые ими выражаются. Изучение мимики ненависти при помощи сравнений и противоположений было бы очень легко, если бы мы составляли свое понятие о чувстве ненависти исключительно путем наблюдения. Но, размышляя о ненависти, мы уклоняемся от здравого суждения под влиянием этических и религиозных идей, которые приучили нас непременно рассматривать это чувство, как греховное. Напротив, следовало бы думать, что всякое животное, всякий человек, рожденный под луной, должны и могут ненавидеть, лишь бы только они имели правильное понятие о ненависти, как об орудии удаления и противодействия тому, что им угрожает и вредит. Монтень, один из глубочайших знатоков человеческого сердца, должно быть предчувствовал эту истину, когда сказал: «Боюсь, что сама природа развила в человеке некоторую склонность к бесчеловечности».
Посвятив уже несколько томов удовольствию, страданию и любви, я желал бы, прежде чем умру, написать еще и «Физиологию ненависти»; только тогда я мог бы с уверенностью сказать, что коснулся четырех главных пунктов в области чувства, среди которых вращается человеческая природа. Теперь же да позволено мне будет ограничиться наброском мимики одной из могущественнейших энергий, являющейся краеугольным камнем для доброй половины истории человечества.
Старинные физиономисты обращали внимание почти исключительно на чувство гнева и всегда старались строго отличать его от ненависти, хотя на самом деле первый представляет только особую форму последней. Тем не менее, они оставили нам несколько забавных изображений злого человека. Бросим же беглый взгляд в этот туман прошедшего.
В старинном трактате Полемона о физиономии, переведенном на итальянский язык Карлом Монтекукули, мы находим следующее:
ОПИСАНИЕ ПРИМЕТ БЕЗРАССУДНО-ЗЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Злые люди подобны зверям, из которых одни тоже бывают свирепы, а другие – кроткие, и это нужно различать. Кроткие еще более безрассудны; дикие козы, овцы, лошади, ослы и другие, кротки и спокойны; наоборот, дикие звери свирепы и жестоки. Подобное же рассуждение приложимо и к оценке внешнего вида человека, ибо люди бывают двоякого рода: одни из них кротки и справедливы, другие же имеют дикие нравы. Люди отличаются друг от друга или суровостью и жестокостью, или мягкостью характера, что и бывает видно, смотря по тому, надменны ли они или любезны. Кротость – это естественная спутница справедливости, а суровость – спутница гордости и невоздержности; сладострастием отличаются те, в характере которых много мужицкой грубости. У злого человека волосы длинные, голова крепкая и косая, уши большие, шея кривая, ступни длинные, пятки высокие, лоб суровый с резкими очертаниями, глаза угрюмые, маленькие и сухие, взгляд неподвижный, плечи узкие, борода длинная, рот широко открытый и как бы расплюснутый, фигура длинная, точно надломленная в различных местах; он сгорблен, имеет большой живот и толстые ноги; суставы в кистях и ступнях огромные и неуклюжие; голос лающий, слабый, пискливый и наглый.
ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ ХОЛЕРИКА
Стан у него прямой, телосложение плотное, цвет лица румяный, плечи поддаются назад и не очень сильные, грудь плоская, борода длинная, вьющаяся: правильно спадают на шею волосы, длинное лицо, загнутые ресницы и впалый нос.
Аристотель различал три типа гневных людей: желчные или язвительные; суровые или угрюмые: тяжелые, грубые или жестокие[71].
Люди желчные и язвительные необыкновенно проворны и порывисты и при малейшем поводе способны воспламеняться гневом. Угрюмые не так легко увлекаются к мести за обиду, но зато долго хранят о ней воспоминание с затаенною горечью, как бы упорствуя в своем гневе; обыкновенно он проходит сам собою, сменяясь удовольствием, чем и смягчается страдание от полученной обиды. Они бывают несносны для всех своею вечною угрюмостью, порождаемою гневом, – несносны и для друзей, и для самих себя. Грубые же и жестокие склонны к более сильному гневу, чем следует; они слишком долго удерживают в себе гнев и только тогда успокаиваются, когда отомстят за обиду или заставят за нее поплатиться.
Никеций довольно хорошо описывает человека, находящегося в припадке гнева:
В состоянии гнева лицо краснеет, так как вокруг сердца кровь при этом вскипает, тончайший дух мгновенно бросается в разгоряченную голову, и, прежде всего, при посредстве нервов шестой пары, сокращается печень; сокращается также и сердце под влиянием вызвавшей гнев неприятности; желчь изливается из пузыря в полую вену (sic!). И эта смешанная с желчью кровь устремляется к сердцу и уже кипит вокруг самого сердца, расширившаяся от надежды на мщение, которое представляется уму как нечто благое; и вот, вследствие этого сокращения и расширения сердца происходит именно то, что в гневе люди сначала бледнеют, а затем вдруг вспыхивают, как огонь; не отрицаю, впрочем, что бывают и такие, которые весьма долго остаются бледными, потому ли, что гнев этих людей бывает наиболее соединен со страхом, так как они боятся приступить к исполнению своих замыслов, или же вследствие избытка черной желчи, которая не так быстро воспламеняется, а, воспламенившись, не так легко испаряется; этому нужно приписать, что сердце усиленно бьется вследствие чрезмерного жара, которым оно пылает, а члены трясутся, благодаря непоследовательному и тревожному разлитию духов[72]…
За много веков до Никеция, Сенека нарисовал гораздо лучшую картину гнева:
Как существуют верные признаки бешенства, именно: дерзкое и угрожающее выражение глаз, сумрачное чело, исступленное лицо, беспокойство в руках, изменение цвета лица, частое и усиленное дыхание, – так точно эти же признаки свойственны и гневу: глаза горят и бегают, все лицо сильно краснеет; вследствие прилива крови из глубины сердца, губы дрожат, зубы стискиваются, волосы поднимаются и становятся дыбом; дыхание стесненное и свистящее: слышатся звуки хрустящих суставов, стоны и вопли, как последствие некоторого стеснения сил; речь прерывистая; руки очень часто сжимаются, а ноги стучат о землю; все тело находится в возбуждении и производит резкие жесты; лицо принимает отталкивающее и страшное выражение.
Здесь, действительно, видна рука мастера.
Гирарделли старается доказать нам, что малый лоб и острый нос служат признаками сердитого и злого человека, и приводит в пользу этого мнения следующие физиологические доводы.
Малый лоб означает сердитого человека, так как указывает на то, что жизненные духи в передней части мозга стеснены, что они сдавливают друг друга и воспламеняются, а от этого часто воспаляются кровь и мозг, а потом и сердце, вследствие той зависимости, которая существует между этими главными органами нашей жизни. Поэтому, гнев есть ни что иное, как воспламенив крови в сердце.