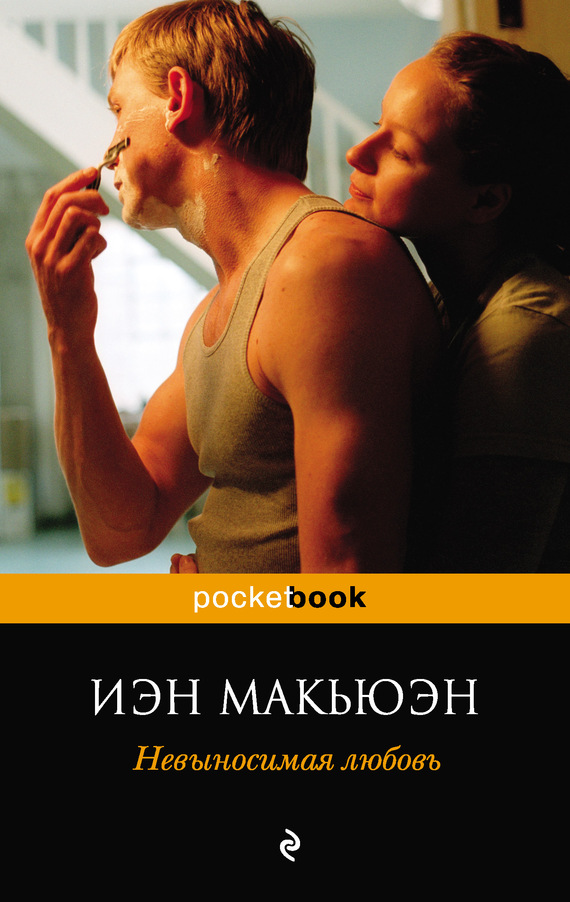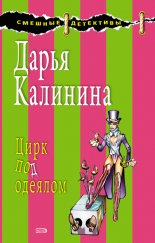Нелегальный рассказ о любви Сахновский Игорь

Дженнифер. Не то слово. Это супер! Любишь?
Игорь. Я с ним ещё дел не имел. Не приходилось.
Дженнифер. Ну жаль… А файл с твоей фотографией можешь прислать?
Игорь. Прямо сейчас?
Дженнифер. Я уже жду. (Техническая пауза.) ВАУ! Хорошо выглядишь! И жена твоя хорошо выглядит.
Игорь. Это не жена, а дочь.
Дженнифер. ВАУ! Мой сын (14 лет) посмотрел и тоже сказал: ВАУ!
Нэсти. Простите, я забыла сказать. Если вдруг вам что-то в жизни понадобится, рассчитывайте на меня – я сделаю всё!!!
Игорь. Спасибо.
Нэсти. Вы очень любезны.
Игорь. Вы более чем любезны.
Мартин. Хэлло! Ты в России?
Игорь. В России.
Мартин. Я бываю в Москве. Бизнес. Можем встретиться.
Игорь. Я живу в Екатеринбурге.
Мартин. Приеду. Можно в гости? Будем дружить.
Игорь. Заезжай.
Мартин. Как насчёт подарков? Что привезти?
Игорь. Ничего не надо.
Мартин. Косметика? Бижутерия?
Игорь. Так, погоди. Ты меня за кого принимаешь?
Мартин. Часы? Серьги?
Игорь. Извини. Как насчет ориентации? Ты с кем обычно дружишь?
Мартин. Только с женщинами. Только!
Игорь. В таком случае можешь не беспокоиться. Я мужчина.
Мартин. Ах ты сука! Притворяешься?
Игорь. Всё, катись. Разговор окончен.
Мартин. Подожди… А представляешь: я вхожу… Ты одна… На тебе короткая шёлковая рубашечка…
Игорь. Ладно, мне некогда.
Мартин. Твои соски напряжены…
Игорь. Всё, пока. (Временно отключается.)
Дженнифер. Слушай, ну как же ты не любишь Харлей… А может, ты вообще выступаешь против байкеров?
Игорь. Против байкеров? Никогда в жизни.
Дженнифер. А то, знаешь, некоторые гады выступают. Мать их… Недоноски… А ты классный! Не то что Ризи.
Игорь. А что Ризи?
Дженнифер. Козёл. Ездит в Амстердам за дурью. Я с ним замучилась.
Игорь. Сочувствую.
Дженнифер. Скажи спасибо, что он ещё не умер.
Игорь. Спасибо.
Мартин. Привет! Это снова я. Хочешь, я тебе одну потрясающую вещь расскажу? Ты даже не догадываешься…
Игорь. Ну расскажи.
Мартин. Значит, так. Я вхожу. На тебе только шёлковая рубашечка с кружевами…
Игорь. Мартин, ты английский язык понимаешь? Я мужчина.
Мартин. Твои соски напряжены. От волнения ты закрываешь глаза…
Игорь. Пошёл к чёрту.
Дженнифер. Нет, всё-таки, я думаю, ты классный. Но зря ты насчёт Харлея…
Игорь. А ты на нём гоняешь?
Дженнифер. Нет, я теперь всё больше на кресле.
Игорь. В каком смысле?
Дженнифер. Ну знаешь, такое, на колёсах.
Игорь. Что-то серьёзное?
Дженнифер. Да так, ерунда с позвоночником, второй год уже. Только не говори, что ты сочувствуешь. Жаль, ты не видел, как я по воздуху летела! Быстрей, чем Харлей. Что у вас там сейчас в России – зима, лето?
Игорь. Зима, как и у вас.
Дженнифер. Я знаю, Россия – это где-то возле Румынии.
Игорь. Скорее, Румыния возле.
Дженнифер. Ризи говорил, что у вас там на центральной площади президент заспиртованный лежит.
Игорь. Это в Москве – Ленин.
Дженнифер. Да, я знаю. Они всегда были вдвоём, Ленин и Маркс. Всегда вместе. Молодцы! Но я бы не согласилась потом заспиртованная лежать. Как-то грустно. Я хотела бы в Россию съездить, когда ходить смогу, если ты меня не покинешь. Ты не знаешь, почему все друг друга покидают?
Почему я не хочу в Париж
Охота к перемене мест
…Тогда он берёт билет в один конец, обольщает всуе таможенную девушку и спустя нетерпеливые часы высаживается в той изумительной провинции, пригретой у Господа под мышкой, в Мариенбаде, Портсмуте, Винчестере, даже Гилдфорде – где улочки похожи на комнатки, где если торопятся, то лишь в паб к вечернему лагеру; в миниатюрном чайном магазинчике среди мерцания склянок сумасшедше печально и вкусно пахнет потерянной жизнью, а мисс Кристина Тонер примеряет кружевную викторианскую шляпку по случаю чужого бракосочетания.
У изголовья гостиничного ложа сиротствует новенькая, неразрезанная Библия, неизбежная в одном ряду с картой гостя, постельным кофе и коричневым сахаром… Нужно было, давясь, глотать наждачный ветер отечественных площадей, разношенных, как солдатские сапоги, заговаривать зубы тоске и нелётной погоде, чтобы однажды где-то в Брайтоне, на Английской Ривьере, под изумрудным, чуть раскосым приглядом услышать по-русски: «Давай я смажу тебя кремом, ты там натёр…» И проверить щекой прохладу высоких славянских скул, и взять губами с груди зябко напрягшийся коричневый сахар.
* * *
…Тогда он берёт билет в не менее раскосые края, куда лететь часов четырнадцать, строго на юг, потихоньку на лету раздеваясь, сбрасывая с плеч серебряную зиму. Самолёт сажают на полпути в транзитном Пакистане, бородатые пограничники в чалмах, с автоматами спроста вламываются в кабину пилотов – дело пахнет слитым керосином, исламским фундаментализмом, собачьей похлёбкой в зиндане. Но через 90 минут всех отпускают: летите вы к дьяволу, подальше от нашего Аллаха, в свой завидный блудливый рай! И вот он, Парадиз: в жирном тропическом мареве, с ароматами плодов и жареной живности, цветенья и гнили, на краю ослепительно синей Сиамской слезы, на бугристом слоновьем загривке, в золотом поту, в наготе, в джакузи, в горячем сугробе пены, в тонких ненасытных ручках девочки-зверька, массажистки, чья повинность – теснее сжимать и оскальзываться телом на теле. Улёгшийся на бок во всю длину Храма, пятидесятиметровый сусальный Будда сияет не слабее наших суровых куполов и лепечет с дивной улыбкой: «Ты хороший. Ты не виноват. Ты всё можешь. А если захочешь – сможешь стать Буддой при жизни и будешь так же, как я, лежать на боку…»
Нужно было зарыться в джунгли, кокосовую глухомань, чтобы там напороться взглядом на те же изумрудные, слегка раскосые и услышать: «Я умру, милый, я с ума сойду, если они тебя коснутся, эти массажистки…»
* * *
Большая часть наших занятий тратит нас. Тратит жизнь – безвозвратно. Только одна вещь (о второй пока не скажу) не проматывает, не тратит жизнь, а наращивает её.
Это путешествие. Оно выпрямляет взгляд, расширяет вдох, делает тебя иностранцем – не столько «людей посмотреть», сколько себя со стороны.
Жить дома и только дома – значит, всегда быть равным самому себе: полное счастье, неподвижнее которого лишь полная смерть.
После всех заграничных диковин Одиссей, увидев, как зеленеет и увядает его скромная Итака, расплакался. Он её покидал, чтобы вернуться. «Хочешь, я буду твоей Итакой?» – сказала мне самая лучшая женщина.
…Тогда он включает телевизор и слушает интервью со столетней жительницей то ли Нижних Серёг, то ли Верхней Синячихи. Одним словом, тот же захолустный Гилдфорд, но грязь по колено и ни одного чайного магазинчика.
Целый век её никто ни о чем не спрашивал, не интересовались. А тут на сотый день рождения – с микрофоном и телекамерой: «Как вы жили, бабушка?» – «Хорошо жила, всё работала». – «А где бывали? Много в своей жизни ездили?» (Журналистка, судя по загару, только что с Мальорки или Шарм-эль-Шейха.) – «Ездила-то много… – она легко, по-девчачьи вздыхает. – А бывала всего в двух городах, в Екатеринбурге да Свердловске!»
Надо было прожить лет сто как минимум, чтобы так вздохнуть.
Апрельский авитаминоз
А допустим ещё такой вариант. Ему на фиг не нужен никакой апрель – слово по-телячьи нежное и мокрое. Он предпочитает зимнюю самодостаточность. Вам нравится зависеть буквально от всего? Вот и ему тоже. А тут любое хотение – зависимость. Много хотений – тотальная зависимость.
Ладно, допустим. А в этот момент по электронной почте объявляется один пафосный германец, который желает заключить договор, сулящий тебе гору денег. Больше, чем гору, извините, он предложить не может, но гору – всю, до копеечки! Хорошо, будем скромны, удовольствуемся горой. Кое-кто уже мысленно конвертирует и следит за курсом. Тут немец пафосно затихает и больше месяца молчит как рыба об лёд. Что ж нам теперь – войну с Германией объявлять?
Ладно. А в этот момент одна безмерно любимая особа где-то носится, как пуля в стакане, за три тысячи километров, вместо того чтобы плавно ходить и двигаться. А потом, с присущей ей внезапностью, выходит на связь и передаёт срочную весть: в результате утренней беготни у неё там в лифчике всё вспотело! Вторая новость касается гладких прозрачных чулок дымчатого цвета. Потому что если он такой самодостаточный, то ничего не остаётся, как прельщать непосредственно в чулках. А кто сказанул открытым текстом: «Чтобы его соблазнить, ей достаточно было разуться»? Кто-кто. Он же и сказанул! А теперь, блин, в итоге вместо зимней сдержанности – одна только влажность и нежность. Апрель, скромно выражаясь.
А в этот момент опять, как из кустов рояль, возникает тот немец с денежной прорвой, которому после месячной паузы уже не терпится. Но для полного счастья ему нужен пакет документов. В первую очередь – автобиография. Хорошо, нам не жалко. Пишем всю правду-матку: «Родился в такси…» Уточняем: «…в прошлом веке, невзирая на Карибский кризис». Что там ещё стряслось? «В четырнадцать лет увлёкся живописью, кинематографом, курением сигарет и женщиной вдвое старше его…»
Кстати, насчет денег. Если бы он сочинял рекламу для банка, он бы написал, что все финансы, какие есть и каких нету, он положит на мягкий такой, бархатный депозит, будет их там холить, за ушком чесать и откармливать.
А на самом деле он молча рванёт в Венецию, в любимый свой Лондон, в Голландию к Яну Вермееру (это не реклама турфирмы!), но сначала – уже четвёртый, кажется, раз – в Аравийскую пустыню, которая лишь для того и существует, чтобы давать понять: ничего нет вкуснее простой, негазированной воды из ледяной бутылки и поцелуя в горячую ключицу. И совсем бесстыдная роскошь: притащить в отель с арабского рынка арбуз калибра водородной бомбы, уложить в холодильник, где он впадёт в состояние красного льда, потом выйти в 50-градусный жар и кормить лисичку с ножа этим сладким ледяным мясом.
Ладно. А в этот момент он идёт к умывальнику зубы чистить пастой «Аквафреш» с дизайном российского флага, хмуро косится в зеркало и говорит с полным ртом. «Все люди как люди, – говорит, – а я красив, как Бог!», имея в виду подглазья хуже гражданской войны и помятость, никогда не тронутую лимфодренажем (это не реклама косметологии!). Ну что ж. Бывают и такие существа – на лицо ужасные, добрые внутри. А он, по своей доброте, иногда всех бы поубивал!
Тут SMS-ка прилетает секретная, на двух языках: «Solnyshka moj! Dobra utra! A DAVAJ ZHIT’ DRUG DLJA DRUGA – TIPA MY S TOBOJ MAFIJA!!» Тоже, кстати, сильная мысль.
Вчера легко обходился без завтрака. Сегодня влекут к себе со страшной силой: йогурты, яблоки, водка-селёдка, фаршированные перцы, пельмени с уксусом и борщ – одновременно.
Клинический апрель, мягко выражаясь. На неприличный вопрос «Чего ты хочешь?» он скромно отвечает: «Всего».
Почему я не хочу в Париж
Александр Сергеевич, мне стыдно,
Что я был в Париже, а вы – нет.
Александр Кушнер. Письмо
Париж – как девка… Издалека она восхитительна, и вы не можете дождаться минуты, когда заключите её в объятья… Но через пять минут вы уже чувствуете пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули.
Генри Миллер. Тропик Рака
Париж учил меня обманывать. Сперва он накормил меня бальзаками и мопассанами, которых я, пятнадцатилетний, глотал безостановочно, полными собраниями, «как заведённый, взасос». Попутно он впаривал в мою садовую голову, что ничего нет главнее любви. И если вообще существует Бог, то его общегражданское имя – Любовь. Причем под Любовью деликатно подразумевался дико изящный «лямур», то есть маленький такой пикантный «лямурчик», убойно пахнущий мускусом, пудрой, помадой и, может статься, слегка – любовным потом. А раз на свете столько соблазнов и красот, то «лямуров» может (и должно быть) много! Что вовсе не исключает одной «правильной» Любви – огромной и чистой, как вымытый в ванне слон.
Допустим, у вас есть чудная возлюбленная Лаура де Берни – такая скромная благоухающая «Лилия долины», которая хранит вам пожизненную лебединую верность, пока вы покоряете Париж. И вы, типа, тоже храните. Но есть ещё и герцогиня д’Абрантес с бело-мраморными плечами и полезными светскими связями. Есть «гибкий, податливый стан» рыжеволосой аристократки Анриетты де Кастри. А ещё – сексапильная умница-англичанка Сара Лоуэлл. А ещё – интимная встреча в Женеве… А ещё – «полная свежая особа» госпожа Бреньоль… И, конечно, в тесных промежутках между будуарами, между воровскими трениями тел, надо успеть накатать письмо виртуальной супруге Эвелине Ганской: «Дорогая, не волнуйся, я люблю тебя и веду себя как правильный мальчик!»
И как прикажешь теперь уталкивать это всё в один флакон? Причем вкупе с тем большим и чистым, только что из ванны… А вот как. До ужаса романтичный классический Париж придумал классную отмазку. Изменяй сколько влезет, с чистой совестью. Но только при одном условии: «Ты будешь последняя свинья, если твоя любовь об этом узнает!»
Короче говоря, всё дело в технике обдуривания. В умении прикусывать язык и уходить в глухую несознанку.
И сколько же пядей во лбу нужно заиметь, какие горькие утраты понести, чтобы однажды задать себе самый простой вопрос: кого же ты, придурок, так ловко обманываешь? Единственную близкую душу? Тогда, считай, самого себя.
Возможно, у меня приступ мизантропии. Но мне слышится нечто невыразимо стрёмное в словах: «Я тут недавно вернулся из Парижа…» Или: «Эту сумку я в Париже купил…» Сказать ровно то же самое об Амстердаме, Лондоне, Праге, Стокгольме или Урюпинске – вполне нормально. Но про Париж – как-то стрёмно. Вернувшись оттуда, лучше молчать в тряпочку. В хвастанье Парижем зияют провалы вкуса и даже ума. Но, кстати, ум – он и есть вкус.
Одна эмоционально продвинутая дама жаловалась мне на изнурительную путаницу своих адюльтеров и на сквозящую угрозу одиночества. «А что Коля?» – рискнул я напомнить о муже. Он был предан ей настолько беззаветно, что уже не отличал унижений от поцелуев и, кажется, успел забыть, как его самого зовут. «А что Коля? – отмахнулась она рассеянно. – Коля меня и так любит!»
Вот в этом «и так» вся фишка и весь ужас.
Человек, первым провозгласивший: «Увидеть Париж – и умереть!», сильно напоминает мне того Колю, стёршего себя на нет ради любви, которая сама собой разумеется. Как надпись «Гастроном» над гастрономом. «Увидеть Париж и умереть» – значит оценить свою прошлую жизнь в три мятые копейки, а настоящую и будущую – в стоимость туристической путёвки.
Над нашими парижскими восторгами хорошо прикалывался Гоголь: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».
Жена моего друга, прелестная романтичная женщина, с младых ногтей мечтала о Париже. Как только приоткрылись границы и появились деньги, друг отправил жену во Францию. Он дал ей достаточно валюты, но она экономила на обедах и ужинах, чтобы накупить себе настоящих французских духов – тогда ещё дефицитных у нас. В первый же вечер она зашла в продуктовый магазин в самом центре Парижа и выбрала пять золотистых чистеньких бананов (в то время тоже дефицит для русских). Торговый маэстро унёс покупку за кулисы и вернул её в столь чудесной упаковке, что страшно было брать руками такую красоту. Когда, вернувшись в отель, женщина развернула свёрток, там лежали только три банана. «Понимаешь, – говорила она мне потом, – это был мой первый парижский вечер!.. Конечно, обманывают везде, но тот продавец никогда бы не стал дурить постоянного клиента, а меня, туристку, можно. Ему ведь плевать, как я люблю Париж!» Ну да, ведь Коля «и так любит». Значит, в его присутствии можно забыть о лице, не держать спину, музыкально рыгать, сморкаться и пукать.
Ещё один мой знакомец, добравшись до Парижа, сам сочинил себе лучшее французское воспоминание. Он купил местную газету, сел за столик уличного кафе, заказал чашку эспрессо – и просидел так битый час на парижской улице с вальяжно развёрнутой газетой, в которой не мог прочесть ни единой строки! Зато вскоре, вернувшись, он восемь раз на дню, к месту и не к месту, говорил: «Я тут недавно был в Париже…» – абсолютно счастливый одним этим фактом. Та божественная гоголевская кастрюлька до сих пор плывёт сюда на пароходах, супчик никогда не стынет, и ни с чем не сравнимый пар всё туманит очки и взоры.
Совестливый советский поэт извиняется перед Пушкиным: «…Мне стыдно, что я был в Париже, а вы – нет». Он не сомневается ни на секунду: как не повезло Пушкину! как повезло мне! По-моему, возможная реакция Александра Сергеевича на такую совестливость точно угадана в анекдоте Хармса: «Пушкин очень смеялся». Потому что, во-первых, как минимум был самодостаточен. И, во-вторых, не страдал синдромом Растиньяка.
Пылкий, впечатлительный юноша Растиньяк из кожи лезет, чтобы любой ценой внедриться в Париж, и на этой почве превращается в отменную гадину.
Но мне лично гораздо интересней другой персонаж. Который при аналогичном раскладе спокойно заявляет:
– Больно много чести. Для Парижа.
Мне как-то вдруг понятен заезжий француз, который ходит по моему городу, разинув рот, глотая кусками холодный ветер, бродит по нашим неуютным скверам, заснеженным дворам и подворотням, с жадным любопытством естествоиспытателя заглядывает в окна, в подъезды и в твоё беззащитное лицо, пока ты стоишь молча, закуриваешь, кому-то звонишь и прислоняешь к уху чью-то нежность. Пока ты «живёшь своею, непонятной туристу, завидной жизнью»…
Почему я не хочу в Париж?
Потому что я люблю его. И потому что никогда, ни под каким соусом любовь не становится ритуальным занятием, процессом. Ни конвейерным трением тел. Ни ловким «лямуром» на автопилоте. Ни очередью в гастрономе под неожиданной вывеской «Гастроном».
Логика движения
Если честно, я не собирался в этот несчастный город – мне нужно было во Флоренцию. Но чокнутый на всю голову гид Клаудио заявил со своим чудовищным акцентом, что проехать мимо Везувия и не повидаться с его жертвами – дурной тон. И для убедительности добавил: «Пер фаворе!.. Грацие!» Будем считать, убедил.
При выходе из сорокаместного «мерседеса» Клаудио пояснил: итальянцы – такие гады, что очень любят промчаться мимо тебя на мотоцикле и на ходу сорвать с плеча сумку с деньгами и документами. А значит, паспорта оставляем в автобусе. Из денег берём с собой только мелочь. И не опаздывать – ждать никого не будут!
Со школы мы усвоили, что любое движение – будь то вояж между пунктами А и Б, примерка инфузории-туфельки или тусовка крупных народных масс – должно иметь свою логику. И вектор. Без логики и вектора оно вообще не имеет права быть. В конце концов, эта логика надоела хуже горькой редьки. И мне уже чудится, что нужнее всякой логики – честная хроника событий. Поэтому излагаю по порядку.
В июле 79 года в этом городе чуть не круглосуточно работали прачечные, публичные дома и драмтеатры. Блистали модные лавки. Город благоухал, и все были страшно заняты собой. Когда близлежащая гора зашевелилась, никто и ухом не повёл. В августе гора выплюнула на высоту 23 км гигантское облако раскаленных камней и ядовитого газа. Затем этот колоссальный плевок стал падать со скоростью 200 км в час. Обезумевшие люди носились по булыжным мостовым почти в полной темноте. Кто-то притыривал чужие драгоценности. Одна знатная дама не успела уйти из казармы от любовника-гладиатора. Не знаю, кому больше повезло: тем, кого сразу накрыло камнями, или тем, кто чуть позже вдохнул всей кожей 400 градусов по Цельсию…
В апреле 1985-го я точно понял, что никогда не буду бегать за транспортом (включая автобусы и самолёты), за женщинами и за фортуной – вообще ни за кем и ни за чем не буду бегать. Не потому что лень двигаться, а потому что такое движение точней и оптимальней. Потому что после беготни за целями от тебя ничего не остаётся, кроме высунутого языка, а самые прекрасные цели дурнеют на глазах.
В мае 2005-го чокнутый Клаудио привёл нас в этот гиблый город, сказал со своим диким акцентом: «Полюбуйтесь на это роскошное безобразие!» – и мгновенно исчез. Я отвлёкся на две минуты, а когда оглянулся, рядом не было ни души. Вокруг 60 гектаров руин. И ни одного местного жителя, дорогу не спросишь – всех убило 1926 лет назад. Нетерпеливый «мерседес» уходит через двадцать минут (вместе с паспортом). В кармане мелочь. И развалины – до горизонта. Пробные рывки по коридорам улиц никуда не привели. В городе жарило так, будто лава до сих пор не остыла. Вспомнился реальный рассказ про одну потерянную туристку, которая заночевала в Помпеях.
Короче, апрельские тезисы 1985-го пошли насмарку: я носился по тем же самым раскалённым булыжникам, летел в неопознанную сторону, как снаряд, пока не вылетел на какую-то людную модерновую площадь, где не было ни намёка на наш «мерседес», зато слева в тенистом кафе расселся Клаудио, которому вздумалось попить красного вина. Он даже глаза не прятал. Рядом продавали тёмные очки с лейблом «Dolce & Gabbana» за 15 евро и лакированные открытки с древними фресками неприличного содержания – признаки полной готовности к новым землетрясениям.
Лучше бы никто не предупреждал меня открытым текстом, что «от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца». Но я был согласен даже на это, когда ты легко, по-птичьи помахала мне рукой с моста Понте Веккио. Когда я увидел, что Санта-Мария дель Фьоре и белоснежная колокольня Джотто стоят стремительней межконтинентальных ракет и моя любимая Флоренция точно не нуждается ни в какой беготне – она и так опережает время.
И можно было не писать чёрным по белому: «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз!»
Жениться на Италии
Как бы мне точнее выразиться, чтобы никого не шокировать зря? Мои отношения с этой страной не описываются словами «платоническая влюблённость» или «жгучий адюльтер». На Италии надо конкретно жениться. Например, так поступил Бродский – правда, после двадцати лет ухаживаний.
Насчет сладко воркующих голубков и совместного житья «душа в душу» можно не сомневаться – этого точно не будет. Я запомнил двух роскошных тёток из городка Монтекатини. Они размахивали сразу всеми руками и бюстами и кричали так, что я чуть не оглох. Оказалось, это они любезно беседуют. Подозреваю, что с сильным полом – еще любезнее. При такой акустике, чтобы в их глазах остаться мужчиной, надо максимум четыре минуты молчать, а на пятой минуте спросить: «Che diavolo?» («Какого чёрта?») – и порушить разом всю посуду и мебель. А назавтра прикупить новую.
Во всём остальном – неизбежное счастье. Только не надо тратить зренье на гламурно-открыточные красоты, вроде фонтанов и статуй работы Лоренцо Бернини, которыми он обставил весь Рим. Редкостное уродство. Я ещё сначала сомневался – может, я один такой придурок с дефективным вкусом? Ведь целые толпы со всего мира ахают и любуются. А потом читаю у Диккенса (как раз о художествах Бернини), чёрным по белому: «Самые отвратительные изделия, какие только существуют на свете…» Ну, думаю, ладно. Значит, мы с Диккенсом оба такие придурки.
Правильное начало итальянского дня: утренний глоток ристретто в тихом дивном заведении на Виа дель Корсо. Здешний кофе будто смывает пыль с глаз. Ясный взгляд на то, что любишь, требует специальной отваги. Надо выпрямить слух и освежить сознание. Рим начинается не с туристских очередей в музеи Ватикана, а с разбухших звериных сосцов Капитолийской волчицы, с чёрного волосяного колечка на нежном мраморном животе, не тронутом никакой эпиляцией. Наконец, с неловких страстных признаний Гая Валерия Катулла, сделанных в этом городе двадцать веков назад: «Лесбия белый цветок на груди у себя потеряла. Лесбия, где мой цветок? Лесбия, дай посмотреть!..»
Единственная иконка в моём доме – крохотный позолоченный потрет святой Клариссы, купленный в Ассизи, в двух шагах от места смерти её возлюбленного Франциска. Строгая девочка с печальным, обиженным лицом подарила свою жизнь тому, кто учил людей быть смиренными и чистыми. В результате её тоже записали в святые. Синьора Италия умеет быть и такой.
В кинофильме, который начинают снимать по моей книге, одна из финальных сцен должна быть во Флоренции. Там на мосту Понте Веккио происходит захват серийного убийцы, а главный герой, наоборот, избавляется от своих конвоиров и мучителей. Так уж получилось.
Этот потрясающий мост, поставленный в 1345 году, можно сказать, моё любимейшее место в Италии. Мне даже снился Понте Веккио, когда я был мальчиком, после чтения страшных историй Гауфа.
Теперь именно там будут снимать моих персонажей (если продюсеры не пожадничают). Режиссер говорит: «Мы же не будем снимать Флоренцию «с плеча» – это непрофессионально. А значит, нужен кран или вертолёт…» И, честно говоря, у меня мороз бежит по коже. Просто в голове не укладывается, что своей любовью к этому драгоценному мосту я «навёл» на него краны, вертолёты и прочие кинематографические войска.
Вот и получается, что, влюбляясь в кого-то (во что-то), мы конкретно посягаем на чью-то жизнь – на её неприкосновенность, замахиваемся на неё довольно тяжёлыми предметами.
А душа тоже иногда – далеко не самая лёгкая вещь.
Dolce Vita, прекрасная и летальная
Вы ходили когда-нибудь ночью на мост Понте Веккио? И не ходите.
Меня позвали туда нежной умоляющей запиской – и эта полночь едва не стала для меня последней. От масляной чёрной реки пахло рыбьей кончиной. На флорентийских колокольнях бесповоротно пробило двенадцать. Незнакомец в глухом длинном плаще, карауливший у парапета, произнёс на ломаном английском: «Иди за мной!» И мы пошли тесными коридорами улиц, вступили в густой жилищный мрак, и пружина этой сумасшедшей истории со свистом разжалась – лишь затем, чтобы я стал свидетелем убийства десятиминутной давности. У меня и сейчас мороз по коже от той картины: стройная смуглая жертва распахивает миндальные глаза, встаёт с постели и моет под краном окровавленные груди с таким видом, словно меня там нет. И грубый нетерпеливый шёпот за дверью.
Ещё будет пара минут – для бегства, до приезда карабинеров.
Но не будет ни выходов, ни разгадок! Их просто не будет.
Зато теперь я знаю, где пресловутые «любовь» и «кровь» рифмуются точней всего, – это Италия.
* * *
Вот смотрите. Однажды летом человек садится и пишет на голубоватом листке веленевой бумаги: «Умри, Флоренция, Иуда…» Именно так, дословно. «Умри, – пишет он, – Флоренция запятая Иуда…» Можете себе представить? Я – почти не могу. А меньше чем через месяц он же пишет: «Флоренция, ты ирис нежный…» Довольно жёсткий мужчина, без сантиментов, и вдруг вот так: «ты ирис нежный»!
В сущности, даже не важно, кто он. А важно – что ОДИН И ТОТ ЖЕ человек. Об одном и том же городе. Меньше чем через месяц. Это и есть «любовь» и «кровь», зарифмованные так, что иногда нечем дышать.
Ну хорошо, мне легче. Я, например, почти равнодушен к Риму, с его форумами, львиными рвами и сладким засильем Лоренцо Бернини.
Но как быть с другим нежным ирисом, а лучше сказать – с водяной лилией, которая уже одиннадцать веков сводит весь мир с ума? Таких «иуд», таких прекрасных предательниц ещё надо поискать – всё равно не найдёшь. Сначала она обзаводится самым лучшим (без преувеличения) на свете любовником, потом бросает его под свинцовые плиты, в такую тюрьму, откуда вообще ни один живой человек не вышел по своей воле. А потом, когда он – единственный! – сам вырвался и сбежал, она, видите ли, позволила ему подыхать на чужбине, тоскуя по ней. И вот эта бешеная тоска кавалера Казановы по его ненаглядной неверной Венеции до сих пор высится и звенит над каналом Орфано и над Мостом Вздохов – выше Дворца Дожей и выше Кампаниллы, торчащей и голой, как маяк.
Теперь она дарит ему бронзовый памятник на своей главной площади (памятник любовнику – неплохо звучит) и пускает за деньги желающих заглянуть в ту самую камеру, где он даже не мог встать в полный рост.
Зато она приласкала другого беглеца, картавого рыжего гения, Нобелевского лауреата, до тридцати двух лет мечтавшего снять комнату на первом этаже палаццо, написать там пару элегий, «туша сигареты о сырой каменный пол, на исходе денег вместо билета на поезд купить маленький браунинг и не сходя с места вышибить себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин». Она завлекла его летальной кинолентой Висконти с Дирком Богардом в главной роли и заснеженным Сан-Марко, обогрела десятидолларовым эспрессо во «Флориане» и наконец жадно убаюкала на одном из своих островов.
Венеция, как и вся туристическая Италия, напоминает красиво стареющую примадонну, существующую за счёт своих прелестей, на деньги обожателей со всех континентов. На самом же деле ей глубоко наплевать, нравится она нам или нет. Она живёт очень своей жизнью – и, вольно или невольно, учит нас тому же.
Урок итальянского аристократизма: находясь на вершине райского, божеского ботфорта, воспринимать это как должное. Говоря о своей жизни: «Dolce Vita», подразумевать: сладкая, страшная, летальная, самая прекрасная.
Изобретение любви
Хмельной Катулл по городу идёт…
Он болен, хмур, он долго не протянет…
Хотя ещё влюблён, ещё буянит
и даже плачет у её ворот.
Майя Никулина
Как у них там, в Древнем Риме? Как погода и настроение? Теплынь. Сугробов не предвидится. Все, кроме рабов, озабочены досугом. Праздновать 8 Марта пока не догадались, только Мартовские иды. Первый век до нашей эры.
Молодой человек, приехавший в столицу из провинциальной Вероны, влюбляется в светскую львицу, распутную и неотразимую. Любовный роман длится всего ничего. Для неё это лишь короткая, быстро надоевшая интрижка. Для него – тема всей жизни и пожизненная мука. Он сходит с ума и кропает стихи. Случай, на самом деле, вполне заурядный. Зато последствия грандиозные. И для мировой культуры, и для каждого из нас.
Короткое отступление. У одного африканского племени в языке нет слова «синий». Более того, выяснилось, что эти бедолаги вообще синий цвет как бы и не видят.
Спрашивается, в чем первопричина? Языковая дыра или такой странный дефект зрения? В том-то и дело, что «в начале было Слово». Пока нет точного слова, не о чем и говорить. Не названо – потому и не явлено.
Вернёмся в Рим. Трудно поверить, но в языке, на котором там говорили и писали (латинском), не было слова «любить». Вместо этого был глагол «amare», что означало «желать». Согласитесь, не совсем одно и то же… Но худо-бедно все как-то обходились. Первым, кто почувствовал эту нехватку, был тот юный провинциал из Вероны – Гай Валерий Катулл. То, что он испытывал к своей неверной возлюбленной, никак не умещалось в простом понятии «желать».
Он не стал выдумывать новые слова – он формулировал новые смыслы. Иногда виртуозно, иногда с трогательной неуклюжестью: «…Лесбия, которую я желал больше, чем себя и всех живых». Результат его усилий поражает. Фактически в своих стихах он изобрёл любовь, то есть помог нашему племени разглядеть тот самый, прежде невидимый цвет – цвет неба.
«Ненавижу и люблю» – как две стороны одной медали – тоже его открытие. Попутно он подарил своей даме бессмертие. Хотя она бы, честно говоря, предпочла браслеты или ассирийские духи.
Всё, что сохранилось от Катулла Веронского, целиком укладывается в тоненькую книжечку. Эти бедные отрывки с жадностью читают и переводят на свой родной язык все, кому хватает таланта и душевной отваги. Отваги хватало, например, Александру Пушкину.
Не буду цитировать популярные, удачные и не очень, переводы из Катулла. Приведу лишь один маленький шедевр, переложение екатеринбуржца Сергея Кабакова:
- Лесбия белый цветок на груди у себя потеряла.
- Лесбия, где мой цветок? Лесбия, дай посмотреть!..
Катулл прожил тридцать лет. Угадаем навскидку одно-два главных события этой жизни (кроме, конечно, встречи и разрыва с любимой). Судя по стихам, это: 1) безвременная кончина домашнего птенчика Лесбии и 2) личное знакомство с Юлием Цезарем. Птенчик, понятно, главнее. Ему посвящено целое стихотворение. Цезарю – несколько разрозненных строк, где «повелитель вселенной» походя назван мерзавцем. Слава богу, мерзавцу достало ума и благородства, чтобы позвать поэта на обед и незамедлительно подружиться.
Он никого ничему не учил. Он справлялся, как мог, со своей бедой, сейчас мало кому понятной:
- Катулл, измученный, оставь свои бредни!
- Ведь то, что сгинуло, пора считать мёртвым.
- Светило некогда и для тебя солнце,
- Когда ты хаживал, куда вела дева…
- …А ты терпи, Катулл, пребудь, Катулл, твёрдым!
Вот и вся наука, брат. Терпи, пребудь твёрдым.
Нам остаётся поблагодарить за возможность читать эти строки римскую гражданку Клодию Пульхер, она же Лесбия, и принести соболезнования по случаю утраты любимого птенчика.
Капитализм какой-то
Это дивное выражение я услышал от русской туристки Нади, с которой мы познакомились в городе Бангкоке, в отеле FIRST. Надя боялась выходить из отеля – её пугал, как она пышно выразилась, «этот безумный колоссальный мегаполис». Насчет колоссальности, конечно, чистая правда. Что же касается безумия, то здесь Надя и сама была на высоте. За три дня она ухитрилась потерять цифровой фотоаппарат, билет на самолёт, ключи от номера и семилетнюю дочь Лейлу. Ко мне в номер Надя забрела потому, что перепутала 12-й и 21-й этажи. (Чуть позже фотоаппарат и ключи были найдены с помощью той же потерянной дочери, которая нашла себя сама.)
Несмотря на свою боязнь, Надя всё-таки иногда ездила на экскурсии. «Вы были на шоу трансвеститов?» – спрашивает. Нет, я там не был. Надя чуть не задохнулась, пытаясь выразить своё потрясение увиденным шоу. Она искала достойные слова: «Знаете, это… Просто капитализм какой-то!» Прозвучало довольно странно. И я, признаться, дня два ещё посмеивался, мысленно цитируя Надины слова, когда, например, смотрел с 84-этажной верхотуры Baiyoke Sky на фантастический ночной Бангкок. Или когда на моих глазах тинейджер, весь, как ёлка, увешанный гаджетами, выйдя из неоглядного супермаркета Computer City, низко поклонился уличному портрету короля Рамы IX. Или когда в морском ресторане передо мной поставили гигантское блюдо с устрицами, обложенными льдом, по совершенно нереальной цене – 10 батов, то есть примерно 8 рублей за штуку.
А потом я узнал, что зря посмеивался. Поскольку русская туристка Надя, как выяснилось, приехала из Туркменистана, где она всегда и жила, а город Бангкок – её первая заграница. Так что, будем справедливы, Надя вполне точно охарактеризовала увиденное, если учесть, что Надина родина из развитого социализма глубоко и надолго шагнула прямо в развитой феодализм.
Ценность любого путешествия удваивается, если тебя угораздило переместиться не только в пространстве, но и во времени. До туркменского феодализма я не долетел, зато сразу же из Бангкока попал в зимний Ташкент, где надо было как-то избыть шесть свободных часов между авиарейсами. В подозрительно пустом международном аэропорту нашёлся пункт обмена валюты. Восточная красавица, владеющая узбекскими сумами, отвергла мои рубли: её влекли только доллары США и евро. Желательно не мельче сотни. Мне хватило ума сообразить, что 100 у.е. на шесть часов узбекского досуга – это многовато.
Я вышел наружу. Метрах в трехстах от меня, за пределами абсолютно пустой заснеженной площади, молча стояла терпеливая толпа, огороженная штакетниками и милицейским кордоном. «Кто это?» – спросил я молодого человека в таможенном мундире, вышедшего вслед за мной покурить. Он брезгливо махнул рукой: «Да это всё местные!» На груди у него был приколот служебный бедж, где я прочёл имя и фамилию (русскими буквами): Курсанд Ибатов.
Когда я решительно пересёк милицейский кордон, меня обступили человек пятнадцать местных мужчин, готовых ради меня буквально на всё. Они заглядывали в глаза и умоляли: «Что хочите? Всиё будет!» В отличие от восточной красавицы, их остро интересовали рубли. Я выбрал самого молчаливого и сел к нему в машину. Он выразил желание возить меня по городу целый день и ждать сколько понадобится. Я спросил о цене. Он ответил: «Сколько дадите». «Капитализм какой-то», – подумал я, вынимая 500-рублевую купюру. Он вынул толстую пачку незнакомых денег и отсчитал мне абстрактную сдачу – 16 000. Девочек и рестораны я отверг, поэтому он предложил отвезти меня в самый лучший, по его словам, торговый центр. Я чувствовал себя простым русским олигархом.
Торговый центр оказался километровым строем хлипких киосков и павильонов, из которых доносилось пение Пугачевой и Газманова. Вдоль тротуара стояла бесконечная батарея стиральных машин «Аристон» и «Индезит», засыпанных мокрым снегом: белое под белым. Всё это страшно напоминало екатеринбургскую торговую улицу Вайнера начала девяностых, когда мы носили в карманах сотни тысяч и миллионы, глазея на недоступную импортную технику.
Через полчаса я вернулся в аэропорт. В крохотном duty-free торговали нарядными тюбетейками. У всех женщин, работающих в зале ожидания, от продавщицы до уборщиц, были красивые высокие прически в стиле шестидесятых годов. В баре пахло настоящим узбекским пловом, но желающих не было. Я проверил карманы – 16 000 абстрактной сдачи исчезли. Возможно, они мне только почудились. Или я успел заразиться безумием от туркменской Нади. Не исключен и синдром улицы Вайнера, где тоже успешно чистили карманы.
Но что такое 16 000 для простого русского олигарха? Я подошел к бару, чтобы заказать плов, кофе и минералку без газа.
«Сколько с меня?» Мне ответили уже знакомой, сакраментальной фразой: «Сколько дадите!» Я заглянул в кошелёк. Местных денег там не было. Рубли и прочие купюры выглядели как-то неуместно. Ради интереса я наскрёб сорок мелких евроцентов и высыпал на прилавок. Мне сказали: «Спасибо». Плов был замечательный, кофе – отрава.
Таксист, который ночью вёз меня домой из аэропорта Кольцово, спросил: «Как там жизнь в Таиланде?» – «Капитализм», – говорю. Он вдруг сообщил, что на президентских выборах будет голосовать за Зюганова. «Почему?» – «Олигархи уже достали». Я сочувственно промолчал. Мы доехали за 16 минут. «Сколько с меня?» Услуги борца с олигархами стоили почти три доллара в минуту.
Карл у Клары украл кораллы
История случилась грустноватая. Жила себе Клара – никого не трогала, починяла примусы по разумным ценам, а в праздники надевала на шею кораллы, нажитые утомительным бизнесом.
Тем временем один заядлый Карл, проедая деньгу своего приятеля Фридриха, сочинил от нечего делать капитальный триллер о том, что Клара, дескать, исключительно вредная сволочь. И что вся головная боль в мире – от Клары. Народ прочёл эту мульку и натурально поверил.
В результате Клара лишь чудом выжила, но осталась вообще без кораллов. После чего она чистосердечно стырила у Карла кларнет. Чинить примусы теперь было некому, потому что бедная Клара вошла во вкус – она ещё долгие годы тырила и тырила кларнеты у кого попало (если не отдыхала на зоне). И до сих пор тырит, хотя уже всенародно объявлено, что Клара, типа, молодец, а на примусах можно и нужно наживаться.
На лучших советских карикатурах леденящие ужасы капитализма всегда представали в исполнении двух персонажей. Один – лоснящийся пузатый кент с сигарой, в котелке и в кургузом смокинге. Такой немножко опереточный олигарх. Другой – категорически несчастный, неумытый люмпен-пролетарий в парфозном комбинезоне, с корявым злым лицом, вроде нашего пьющего сантехника, но помоложе. И больше никого – только эти двое! Никакой золотой середины, промежуточного или там «среднего» класса.
Эта ненаглядная агитация оказалась настолько долгоиграющей и заразной, что мы до сих пор не можем притерпеться к таким, в общем, уютным понятиям, как «буржуазия» или «средний класс». Они всё еще вызывают классовые содрогания либо моральную аллергию. Дело не только в советских рефлексах. Дебютанту российской буржуазной лиги и самому не очень нравится причислять себя к «средним». После марш-броска через все кордоны рэкета, после геройского прорыва к уровню middle он вправе чувствовать себя рекордсменом. В этом смысле страшно любопытно разглядеть хотя бы краткую историю «новорусского» потребления – начиная с Эпохи Малиновых Пиджаков. Меня потрясает, с какой готовностью тогдашние Новые Русские, едва народившись, выбрали себе эту униформу… Казалось бы – ты выделился из бедной «серой массы», заимел деньги для индивидуальных прихотей и причуд. Но прихоти и причуды немедленно совпали с убийственно скучным трафаретом. Принцип «жить согласно прайсу» подразумевал, что каждый человек стоит ровно столько, сколько стоит его уже достигнутая мечта. Обязательные атрибуты новорожденной мечты тогда чётко вписались в некую ценовую динамику:
– китайская кожаная куртка, турецкая дублёнка, шуба из Греции, немецкое кашемировое пальто;
– ликёр «Амаретто», «Наполеон» (польского разлива), водка «Абсолют», текила;
– Сочи, Анталия, Кипр, Эмираты;
– девицы по вызову, почасовой «элитарный досуг» в сауне, секретарша с внешностью фотомодели…
Любой вкусовой карнавал неизбежно устаканивается. Но мне кажется прикольным, что моя соседка снизу всю зиму захаживает в хлебный в норковой шубе до пят. Азнакомую лондонскую банкиршу, которая одевается в лучших магазинах на Оксфорд-стрит, месяц назад не пустили в пафосный московский ресторан – не прошла дресс-контроль.
Если не кидаться заново открывать Америку, стоит поверить одному старинному поэту, чья грассирующая родина пережила целую цепь кровавых революций, а сейчас вполне себе процветает.
Он сказал, что буржуазия – это просто-напросто «удовлетворенная часть народа». Это когда Клара, наработавшись до одури, потом с полным основанием форсит в своих уникальных кораллах. И ей в голову не приходит тырить чужие кларнеты.
И, возможно, каждый из нас действительно стоит ровно столько, сколько стоит то, что ему нужнее всего. Включая самые бесценные и хрупкие вещи, о которых говорят шёпотом наедине.
Плохой вкус
В опубликованных частных письмах Довлатова встречаю чудное признание: «Моя мать считает, что у меня плохой вкус. Может быть, это так и есть. Во всяком случае, я долгие годы подавляю в себе желание носить на пальце крупный недорогой перстень…» Тут лишь одно непонятно: почему «подавляю»? Ради чего?
Один мой близкий знакомец, наизусть цитирующий Райнера Мария Рильке, Ходасевича и Поля Валери, недавно сознался по телефону, что уже третий год безотрывно смотрит реалити-шоу «Дом-2». Спрашиваю, на всякий случай: «Зачем?» Он откровенно смущен. «Понимаешь, – говорит, – человеческая низость тоже имеет свою траекторию. Иногда полезно пронаблюдать».
Когда наше время называют эпохой гламура, подразумевают, в частности, что «глянец» пытается диктовать не только потребительские стандарты, но и общественную идеологию. Ещё бы он не пытался – при таком-то расчудесном вакууме! И спасибо ему за это. Природа, простите за трюизм, терпеть не может пустоты, любая пустота хочет быть немедленно заполненной. Особенно такая функциональная, как российская ментальность нулевых годов. Вот тут и становится ключевым понятие «вкус». Вкус постепенно, исподволь заменяет собой и житейский ум, и даже политические взгляды. Чтобы выбрать, например, голосовать ли за «Единую Россию» или за «Справедливую», много ума не надо. Но иметь вкус очень желательно, поскольку разница между двумя «россиями» исчезающе мала, и, чтобы ощутить эту разницу, надо лишь адекватно оценивать дозировки человеческой пошлости.
Так вот, «глянец», при почти нулевой конкуренции, балансируя на грани вульгарных провалов, пытается нас, неразумных, «строить» – и с переменным успехом дёргает струны, так сказать, вкусового самолюбия. Я бы, может, не стал вдаваться в тонкости глянцевого диктата, если бы иногда не испытывал на себе довольно жёсткую товарную сегрегацию.
Допустим, я привык носить дома свободные, широкие джинсы, которые не нуждаются в ремне, а имеют вшитую на поясе резинку. И вот, как добросовестный балбес, я отправляюсь по магазинам на поиски этих беспонтовых штанов. Вскоре мне дают понять, что отказ от гламурных понтов карается по законам рынка. Я обшариваю почти весь центр города и частично – прилегающие районы, но не обнаруживаю ничего, помимо высоких западных брендов вперемешку с восточными подделками. И те, и другие усердно изукрашены вышивкой, принтами, стразами, заклёпками, позументами, потёртостями, лохмотьями, а также демонстративными следами колотых, резанных и прочих огнестрельных повреждений. В общем, всё что угодно – кроме чистого непритязательного денима. Озверев от такого модного напора, я добираюсь до вещевой барахолки, до ее кавказско-азиатской резервации, где пожилой грузин (уже персона нон грата на сегодняшнем российском базаре) впустил меня в стрёмный закуток и я, разувшись на мятой газетке, обливаясь потом, примерил именно то, что искал. На мой вопрос о цене продавец таинственно пообещал: «Договоримся!», как будто мы затеяли хитрую экономическую аферу. Честно говоря, я уже готов был заплатить, как за брендовые стразы и дыры. Но этот хитрец взял втрое меньше, чем я трачу на скромный ужин в японском ресторане.
Если уж речь зашла о еде. В маленьком городе, где я родился и провел детство, самой заметной достопримечательностью были (и остаются) так называемые «старогородские» жареные пирожки с требухой. Их продавали с жестяных тележек, у которых выстраивались ажиотажные очереди. Эти пирожки пережили четырёх генсеков, демократизацию, гласность, и вертикаль власти они тоже наверняка переживут. Сейчас там даже появились пиратские тележки с имитациями под классику, но знающие люди умеют отличать. В большом городе, где я живу теперь, гораздо проще отыскать фуа-гра, икру летучей рыбы или кофе Luwak, чем банальные жареные пирожки хоть с чем. Приближаться к пахучим прилавкам с фастфудом, щедро замаранным кетчупами, как-то боязно, но я, тем не менее, приближаюсь – все равно не нахожу.
Спустя двадцать три года после своего провинциального пирожкового отрочества я оказываюсь на званом субботнем ужине в средневековом замке Готорнден, в сорока минутах езды от Эдинбурга. Этот замок – частное владение миллионерши Терезы Хайнц. Устроители ужина деликатно извещают гостей, что мы сидим за столом, за которым обедали королева Виктория и принц Альберт, когда посещали Готорнден. Прислуга уже разносит горячее, и мне вдруг в нос шибает роскошный, стыдный, плебейский аромат «старогородских» пирожков. Блюдо называется «хаггис» (не путать с маркой подгузников) – телячий рубец с жареными потрохами и специями. И можно не сомневаться, что Викторию с Альбертом здесь тоже потчевали этим национальным шотландским деликатесом, клянусь моими родимыми жестяными тележками! И я уже почти не удивляюсь тому, что мой первый литературный опыт, довольно наивный текст, где я, кроме всего прочего, угощаю читателя кошмарными ливерными продуктами из детства, уже переведен на три европейских языка, и не менее десятка вменяемых, искушённых, «глянцевых» персон прямо изъявили желание посетить неназываемое захолустье в целях дегустации.
Это я к тому, что, если тебя не устраивают господствующие тренды и чужие вкусы, ничего не остаётся, как вежливо продиктовать свои.
Государственный стыд
Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд —
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид…
Осип Мандельштам
Время действия – осень 2000 года. Место – Красная площадь, Москва.
После ночного перелёта Хитроу—Шереметьево «Трансаэро» любезно доставляет меня автобусом до метро «Охотный ряд». Ни свет ни заря – всё пока закрыто. До поезда у меня ещё часов пять свободных.