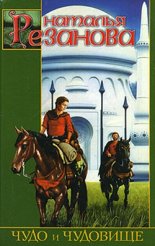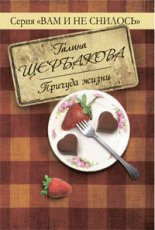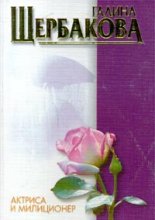Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории Пьецух Вячеслав

Европейские народы, как раз в то время, когда у нас препирались «нестяжатели» с «иосифлянами», уже всецело отдались коммерции и техническому прогрессу и в конце концов выдумали интернет, имеющий то гуманистическое значение, что по нему можно передавать разные разности, кабы только не та загвоздка, что по-настоящему давно уже нечего передавать. Посему Спиноза, Паскаль, Сервантес суть явления случайные для Европы, даже противоестественные, поскольку они возникли вразрез магистрально избранному пути.
То ли дело в России: Нил Сорский — своё, Иосиф Волоцкий — своё, а вокруг «от колоса до колоса не слыхать бабьего голоса», воронье кружит над чахлыми деревеньками в пять дворов, татары едут жнивьем на мохнатых своих лошадках, далеко слышится песня русачка, сидящего на завалинке, жалкая и безнадежная, как объявление на разъезд.
Накануне воссоединения России с Европой, то есть в последние допетровские десятилетия, хозяйство, вооруженные силы, администрация и общественные институты нашей страны находились в таком бедственном положении, что она уже не входила в число цивилизованных государств. Из реформ же Петра Великого мы извлекаем в частности тот урок, что у нас «поздно» равняется «никогда».
Действительно, воссоединиться-то мы воссоединились, но европейцами от этого не сделались, и по-прежнему основным законом у нас было беззаконие, грабливали на больших дорогах, обирали по казенным местам, и до того крепка оказалась московская закваска, что сам просветитель Петр сажал своих противников на кол, а после долго еще рвали ноздри и резали языки. Этот государь и награждать умел, но, кажется, напрасны были усилия строгости и любви: ближайший его сподвижник, светлейший князь и генералиссимус Александр Меншиков, наворовал столько казенных денег, что его состояние значительно превышало государственный бюджет, а безмерно любимая жена, императрица Екатерина Алексеевна, изменила ему с полковником Монсом, — случай первый, последний и немыслимый при статусе русских императриц. Генерал-прокурор Ягужинский прямо заявлял в Сенате, что на Руси казнокрадствуют все, только не все попадаются, и конца этому занятию не видать.
Видимо, еще при Иване Грозном, а то в Смутное время, что-то сломалось в нашем генетическом аппарате, и мы никак не починимся по сей день. Между тем из-за этой внутренней неполадки и все реформы новейшего времени обречены в лучшем случае на половинчатость, в худшем случае — на провал. Вот восстановили у нас было мировые суды, но, говорят, деньги, отпущенные на это дело из казны, по пути растаяли без следа.
Впрочем, еще неясно, какой именно человеческий тип благоприятствует истинному прогрессу: то ли они, которые не берут взяток, узки и скучноваты; то ли мы, которые без царя в голове, вороваты и широки.
Наш первый профессиональный литератор Михаил Васильевич Ломоносов, открывший историю новой русской словесности «Одой на взятие Хотина», вообще считал себя ученым, а свое стихотворчество — баловством. Однако граф Кирилла Разумовский, тогдашний президент Академии наук, ему говорил:
— Брось ты, Михайла Васильевич, свои дурацкие опыты! Ты же великий российский сочинитель — пиши стихи!
— Все-таки дозвольте, граф, также и наукой заниматься, — отвечал ему Ломоносов, — хотя бы на досуге, заместо больярду…
Президент на это, бывало, накуксится и молчит.
В науке Михаил Васильевич особых высот не достиг, из стихов его достойны замечания только строки: «Открылась бездна, звезд полна,/ Звездам числа нет, бездне дна», — всю свою жизнь жестоко воевал с русскими и немецкими оппонентами, пил горькую, умер пятидесяти четырех лет от роду и остался в родной истории первым русским ученым-естествоиспытателем, который на досуге писал стихи.
Это не удивительно, что викинги, придя господствовать в восточные славянские земли, уже через поколение обрусели; их было так немного, что они скоропалительно растворились среди на редкость плодовитых полян, древлян, кривичей и прочая, и ничего-то от них не осталось, кроме самоназвания нашего государства — Русь. На самом деле то удивительно, что после воссоединения России с Европой, последовавшего в начале XVIII столетия, мы как нация, как феномен не исчезли с лица земли.
Это потому удивительно, что вольные и невольные сподвижники Петра развели на Руси губительную пропасть иноземных понятий, обычаев, учреждений, слов, непосредственно иноземцев, которые до неузнаваемости изменили физиономию нашей государственности и старомосковскую нашу жизнь. Уже цвет нации говорил и писал исключительно по-французски, природную одежду носило одно податное сословие, то есть простонародье, топонимика пошла сплошь немецкая (это среди великорусских-то пажитей и болот, хотя и у французов есть свой Шербург, а у немцев Сансуси), явились еретические музыка и театр, хлеб насущный пошел в уплату за кёльнскую воду и фламандские кружева. Но то-то и поразительно, что в конце концов не русские онемечились, а наши немцы обрусели, и вот даже не петербургские балерины танцевали а-ля франсэ, а парижские — а-ля рюс. И уж на что евреи — блюстители своей крови, и те понабрали себе русских фамилий и до того прониклись отечественной культурой, что каждый третий великий русский поэт — еврей.
Надо полагать, нашему национальному духу свойственна редкостная, исключительная живучесть, а наша жизнь отличается каким-то невнятным, но настоятельным обаянием, способным вносить коррективы в кровь. Характер этого обаяния действительно трудно поддается анализу, но среди очевидных его векторов — высокий стиль человеческого общения, литература, идеализм, конструктивная леность как особая благодать.
Впрочем, все равно обидно: со времен Владимира Мономаха ведущие европейские народы ушли от нас так далеко вперед, что подавляющее число понятий из современной жизни обозначается у нас словом, имеющим иноязычный корень и вчуже звучащим дико, как у юкагиров наше «среднеарифметическое» или «шкаф». Да еще нынешние купчики из бывших урок и комсомольских работников перенасытили наш язык нелепыми англо-саксонизмами, так что не всегда поймешь, на каком-таком языке газета пишет, на каком радио говорит. А ведь над этой поселковой паракультурой еще Гоголь издевался сто пятьдесят лет тому назад, да вот беда: урка и комсомольский работник про Гоголя максимум что слыхал.
Одна надежда остается на неискоренимую нашу русскость, которая пережила и хана Бату, и петровские реформы, и немецкий социализм; Бог даст, и нынешних купчиков она как-то переживет.
Есть такое суеверие, будто бы наш соотечественник — существо несвободное по своей природе, поскольку он вечно раболепствует перед властями предержащими и его многотерпению нет конца. Это совсем не так.
Вот давно сложилось в России одно крайнее неудобство, которое способно отравить жизнь, именно: у нас закон неписан, то есть законы-то есть, с «Русской правды» Ярослава Мудрого понаписано множество разных законов, но в то же время их как бы нет. Например, с древности, а особенно после того как мы собезьянничали модель европейской государственности, никакой русский закон не находился в таком небрежении, как закон о преемственности власти, сиречь первейший закон страны. Петр Великий отошел от обычного права и самолично сочинил закон о престолонаследии, однако как раз вопреки этому закону на трон села его жена. И прежде Петра государством противозаконно управляла матушка-царица Наталья Нарышкина, про которую князь Куракин говорил, что она была «женщина ума смирного, править некапабель», и много позже царем должен был стать младенец Иван VI, но престолом хищнически завладела цесаревна Елизавета, и Николая II полагалось сменить Алексею II, но тут как раз подоспели большевики.
Как же государство хочет, чтобы его граждане, то есть мы, всячески труждающиеся и обремененные, добывающие хлеб в поте лица своего, неукоснительно исполняли законы этого самого государства, если оно ими первое и манкирует, и, например, ни за что не засадит в холодную премьер-министра, который обидел наше казначейство на миллиард. А Иванова-Петрова-Сидорова государство норовит сгноить в тюрьме за беремя дров… Недаром мы искони живем так, словно в нашей стране вовсе нет никаких законов или, по крайней мере, они писаны не про нас. Эта позиция, конечно, может всякую отравить жизнь, но зато она подразумевает такую внутреннюю свободу, с которой не идут в сравнение никакие свободы, дарованные извне. И правда: средневзятый немец не может не работать и ему претит воровать в силу родовой заповеди, а наш человек настолько свободен, всецело и безбрежно, что он может работать, а может и не работать, может воровать, а может не воровать.
Россия — это и для нас самих загадка, для русаков, хотя бы по той причине, что наша родная история возбуждает множество «почему», на которые только изредка находится соответствующее «потому».
При Алексее I Тишайшем часы в России считались восьмым чудом света, приговаривали к смертной казни за изъятие человеческого следа и производство над ним злонамеренной ворожбы, гражданские доблести были таковы, что казнокрадство считалось естественным, как личная гигиена, не всякий дворянин умел написать свое имя, и по весне Москва превращалась в северную Венецию, потому что по ней ни конному было не проехать, ни пешему не пройти. И ходу вовне нам было только в сторону Северного сияния, и последним оплотом континента считались Соловецкие острова. Словом, такая это была варварская, убогая, никому не интересная страна, что иностранные посольства нас посещали реже землетрясений, которые у нас не случаются без малого никогда.
И что же? Стоило нам вернуться в Европу, как при жизни одного поколения мы заставили считаться с собой весь мир. После оказались единственной нацией на континенте, способной урезонить наполеоновскую Францию и гитлеровскую Германию, наладили лучшие в свете науку и образование, явили небывалую художественную культуру, наконец, поставили фантастический общественно-хозяйственный эксперимент. В общем, если бы наш мир не был так невежественен и нелюбопытен, он с трепетным вниманием относился бы к нашему отечеству как явлению загадочно-чудесному в своей внутренней мощи, вроде той же тектонической энергии, которая в мгновения воздвигает хребты и сносит миллионные города.
Но откуда у нас эта внутренняя мощь, почему она пятьсот лет не давала о себе знать, какая пружина пособила ей развернуться? — Это для нас темно.
Во время киевского восстания 1113 года наши праотцы разграбили в стольном городе все еврейские дворы, порезали множество мужчин и женщин из знатных фамилий и кое-где пожгли боярские усадьбы, покуда сей разгул страстей не усмирил князь Владимир Всеволодович Мономах. Во время московского восстания 1993 года до еврейских дворов дело не дошло, однако же пострадала федеральная собственность и с обеих сторон было убито шестьдесят четыре человека, включая старушку, не в добрый час выглянувшую из окна. Стало быть, некоторое движение в сторону смягчения нравов вроде бы налицо.
То же самое касательно смертной казни: при Петре Великом еще сажали на кол, публично секли головы, вешали и аркебузировали, при Елизавете Петровне прилюдно больше секли кнутом и резали языки, в эпоху Екатерины отмечено две публичные казни, при Петре III, Павле и Александре Благословенном — ни одной, Николай I лишь театрализировал массовые расстрелы. Александр Освободитель, правда, множество народу перевешал на площадях, но при Николае Кровавом с инсургентами уже расправлялись втихомолку, за глухими стенами тюрем и крепостей. Кажется, последняя публичная казнь в России состоялась в 1944 году, когда при огромном стечении народа в Курске повесили несколько десятков пленных немцев, которые особенно злодействовали над мирным населением города и села.
Следовательно, история — это еще вот что: это если не движение в сторону смягчения нравов, то, по крайней мере, прогресс стеснительности; ассирийцы ничтоже сумняшеся обивали стены городов человеческой кожей, а наш современник точно постесняется столь дикой технологии, из чего логически вытекает, что хотя бы в отношении отношения мы постепенно становимся положительней и добрей.
Все-таки трудно вдоволь надивиться тому, насколько пленителен русский дух. Француженка Камилла Ле Дантю, вышедшая замуж за нашего декабриста Василия Ивашова уже после сенатской катастрофы, отправилась за своим каторжанином жить в Сибирь. Для коренной москвички или петербурженки — и то это был бы поступок прямо героический, хотя в простом народе издавна существовало такое правило: следовать за супругом в места лишения свободы, буде государство его осудит за те или иные неправедные дела. Но француженка, даже ни слова не знающая по-русски, этакое парижское бланманже, воспитанное на иезуитских ценностях и домашней бухгалтерии, и чтобы сие эфирное создание, как простая русская баба, бросила бы всё и последовала за милым в ледяную пустыню, где свирепствуют медведи и кровожадные самоеды, — это уже из номенклатуры невероятного и чудес. А француженка Инесса Арманд, бросившая четырех детей ради освобождения русского пролетариата и во имя торжества политической платформы РСДРП…
Впрочем, Россия, как известно, страна чудес. Если глядеть с бульвара Сен-Мишель, то наши француженки — это, разумеется, патология; но если из Арбатских переулков глядеть, то это просто у нас воздух вредный, который отравляет чужака до такой степени, что из здравомыслящего человека он превращается в дерганое, возвышенное и в высшей степени непрактичное существо. Императрица Екатерина Алексеевна, в девичестве захудалая немецкая принцесса, и пятнадцати лет в России не прожила, как совершила государственный переворот; то есть немецкое ли это дело — государственные перевороты, да еще в положении замужней женщины, с риском для жизни и, как говорится, не по злобе.
Неофиты мужского пола, вообще не такие нервные и менее предрасположенные к трансформациям, у нас тоже не ударили в грязь лицом. Доктор Гааз, живи он в Копенгагене, так и остался бы просто хорошим лекарем, а в России он превратился в подвижника человеколюбия и медицины времен Христа; Дельвиг ставил поэзию превыше гражданских благ; Данзас пострадал за пушкинскую дуэль; Владимир Иванович Даль не столько своей карьерой занимался, сколько «Словарем живого великорусского языка»; строитель наших первых железных дорог граф Клейнмихель насмерть стоял за русскую колею; художник Зелендорф в сорок первом году взял с собой в ополчение подушку-думку и «Детские годы Багрова-внука»; вице-канцлер Яков Вильямович Брюс при Петре I беззаветно служил России, но до того обрусел, что проворовался и его водили на эшафот.
Из их житий агностик извлекает следующий урок: чужаку нужно семь раз подумать, прежде чем отправиться в Россию на выходные, поскольку атмосфера русской человечности такова, что она легко перемалывает любой национальный материал в нечто нервно-романтическое, неуравновешенное, сострадательное, вдумчивое, добродушное и беспутное, каковые качества нежданно-негаданно слагаются в причудливую сумму, и та проходит у нас под ласковым термином — русачок.
Любопытный вопрос: почему ни одна из коренных реформ в России не задалась? Преобразования Петра Великого имели своей целью систему всеобщего благоденствия; Екатерина II стремилась упразднить крепостное право; Александр Благословенный желал конституционной монархии; Александр Освободитель налаживал государственную машину, за которую не совестно было перед европейской цивилизацией; Петр Аркадьевич Столыпин мечтал поднять производительность сельскохозяйственного труда; наконец, большевики грезили о таком обществе, где все были бы единодушны, одинаково обеспечены и равны. И вот все эти вожделения постепенно сошли на нет. Спрашивается, почему?
Видимо, потому что наши реформаторы в конце концов упирались в одну и ту же нерушимую стену — в такую форму человеческого сознания, когда повелительнее даже физиологии оказывается национальный характер и предания старины.
Вообще правильные реформы возможны только у тех народов, которые, к посрамлению великой христианской идеи, блюдут институт частной собственности, у которых она священна и неприкосновенна, как захоронения праотцов. Собственники организованы, последовательны и всегда знают, чего хотят. Оттого преобразователи у них исходят из возможного, а не из желательного, и преобразования имеют грамотную программу, которая всегда обеспечивает задуманный результат. А у нас с Рюрика собственность — понятие в высшей степени отвлеченное, академическое, поскольку огромное большинство русских людей этой собственности никогда не имело, и в несравненно большей цене была воля, то есть ничем не ограниченная возможность не пахать, а безобразничать, или не безобразничать, а пахать.
Оттого-то все наши реформы сошли на нет. Как же ты наладишь систему всеобщего благоденствия, когда Меншиков ворует, Мазепа предает, Булавин безобразничает, Брюс интригует, Аввакум подговаривает народ к коллективным самоубийствам во имя старозаветной, дониконовской ритуалистики, жена изменяет с полковниками, собственный сын норовит тебе всячески навредить… Как тут повысить производительность сельскохозяйственного труда посредством уничтожения крестьянской общины, если столоначальник украл подъемные деньги, урядник пропил общественное стадо, бедняк желает подпустить процветающему соседу «красного петуха»…
Таким образом, исторический материализм, вполне приложимый к германским условиям хозяйствования, становится лжеучением на российской почве, где не столько бытие определяет сознание, как сознание — бытие.
Кажется, основной элемент великорусского общества — дилетант. То есть деятель с претензиями, но слишком широко и неосновательно образованный, наделенный массой разнообразных дарований, но беспочвенный энтузиаст, не умеющий сосредоточиться на одном. Недаром у нас химики сочиняли музыку, профессиональные писатели составляли религиозные учения, прямые разбойники входили в государственный аппарат.
Конкретный пример: при Алексее Тишайшем три четверти России сидели на соленой рыбе, но правительство, точно и слыхом не слыхавшее про эту специфику, вдруг ввело непомерный соляной налог, и огромная нация встала перед шекспировским вопросом — жить ей или как раз не жить? Другой конкретный пример: правительство Екатерины Великой планировало освободить южных славян от османского ига и превратить Польшу в дружественно-буферное государство, однако в результате титанических усилий крымские мусульмане были освобождены от мусульман анатолийских, а большую часть Польши за здорово живешь прибрали к рукам германцы, и она вовсе перестала существовать.
Наконец, последний конкретный пример, связанный с нелепым в филологическом отношении понятием, — декабризм. Семь лет обер-офицеры и коллежские регистраторы из молодежи честного направления наяривали заговор против русского абсолютизма — писали конституции, пропагандировали войска, сходились и расходились, составляли план вооруженного восстания, но когда дошло до дела, то оказалось, что словно они сговорились позавчера. В результате шесть часов простояли солдатики на морозе в одних мундирах, и единственным истинно революционным актом со стороны повстанцев был выстрел несчастного влюбленного Каховского, который застрелил генерала Милорадовича, героя I-й Отечественной войны. И правительство, со своей стороны, знало о заговоре за три года, однако же сабли оказались не отпущены, лошади подкованы на летние нешипованные подковы, артиллерийский порох забыли взять.
Так продолжалось до тех пор, пока в мире не осталось только две непогрешимых конгрегации — Римская католическая церковь и наши большевики. Эти последние были такие профессионалы, что пух и перья полетели от вековых институций, верований и, казалось бы, неколебимых законов социального бытия. Поскольку от любителей всегда меньше вреда, чем от профессионалов, наверное, это даже отлично, что основной элемент великорусского общества — дилетант.
Государь Николай Павлович был человек благородный, прямой, с традициями и, кроме того, хороший инженер, но из породы домашних тиранов, который еще и трактовал Россию как чисто семейное дело вроде родового поместья или пошивочной мастерской.
Но самое удивительное его качество было то, что глава самого блестящего двора в Европе отличался крайней скромностью в быту и был непритязателен во всем, что касалось обыкновенных житейских благ. Царица Елизавета Петровна оставила после себя до пятнадцати тысяч платьев, стоивших казне больше, чем тогдашний российский флот, а Николай Павлович занимал в Зимнем дворце две комнатки в антресолях, спал на железной походной койке и укрывался солдатской шинелью, ходил дома в тапочках с дырками против больших пальцев ног, в рабочие часы надевал мундир второго срока, ел щи с говядиной, держал сыновей, что называется, в черном теле, и только по женской линии был ходок.
Но вот поди ж ты: о царице Елизавете Петровне складывается самое благоприятное впечатление, хотя она любила балы и не любила государственные дела, а государя Николая Павловича только в связи с тем и поминают добрым словом, что он заплатил долги Александра Сергеевича Пушкина, хотя этого государя отличала беззаветная работоспособность и стоицизм.
— А! — скажут через четыреста лет не подозревающие о его победах в Польской и Венгерской кампаниях, двенадцати тысячах кодифицированных законов, начале железнодорожного строительства в России, но отлично знающие, что нужно бояться вождей, особенно скромных в быту. — Это тот самый царь, который заплатил пушкинские долги…
В допетровскую эпоху неканоническую литературу сжигали на спинах у тех, кто ее сочинял. Анна Иоанновна еще презирала изящную словесность, и Херасков потехи ради у нее ползал на четвереньках по анфиладам императорского дворца. Но Елизавета Петровна уже щедро награждала создателей верноподданнических од, а Екатерина Великая, как за серьезное государственное преступление, упекла в Шлиссельбургскую крепость просветителя Новикова за книгоиздательство и таможенного чиновника Радищева — в Илимский острог за книгу путевых впечатлений и злостный сентиментализм. Когда восемнадцатилетний лейб-гусар Михаил Лермонтов написал стихотворение на смерть Александра Сергеевича Пушкина, его за это посадили на гауптвахту, а после выслали на Кавказ.
Такого домашнего отношения к литературе не знала ни одна европейская государственность, затем что ей не было дела ни до категорического императива Иммануила Канта, ни до детских сюжетов Дюма-отца. А нашей — было, до такой степени было, что она в конце концов ввела своеобразную крепостную зависимость для писателей на основе социалистического реализма, ибо опасалась духовных исканий Константина Левина наравне с происками классового врага.
Разумеется, ассирийские замашки нашей государственности одобрить нельзя, но, с другой стороны, понятно, почему она мелочно и с пристрастием следила за литературным процессом в России и несообразно реагировала на каждый выпад с этой, по европейским понятиям, нестоящей стороны. Во-первых, потому что она как-то постигла огромное значение литературы как формы общественного сознания, преследующего некий чреватый для нее и загадочный идеал. Во-вторых, потому что она угадала алгоритм собственно русской литературы, меньше всего занятой адекватным отражением действительности, а больше — такими глубинами правды о человеке, которые намекают на прямо опасную, антигосударственную модель. В-третьих, потому что каждое русское правительство отлично понимало, с каким народом имеет дело: с таким народом, который способен воспринимать художественный текст как инструкцию по технике безопасности, особо чувствителен к духовному слову и одинаково остро интересуется как исканиями Константина Левина, так и причинами скотского падежа. Наконец, наша государственность чувствовала за собой эту слабинку, что она — государственность варварская, по определению Ключевского, «какой-то заговор против народа», и сочувствовать ей нельзя.
Вот уже лет пятнадцать, как власти предержащие отстали от русской литературы и она перешла на положение жостовского письма. Хорошо это или худо — не разберешь. Вроде бы хорошо, потому что никто не мешает вывести в рассказе лишнего дурака, но вроде бы и плохо, потому что нынешнему писателю другой раз не в чем отправиться со двора.
Политический терроризм родился в России задолго до исламских фундаменталистов, одновременно с электрическим освещением и романом Льва Толстого «Война и мир». День его рождения приходится на 4 апреля 1866 года, когда Дмитрий Каракозов стрелял в Летнем саду в императора Александра II Освободителя, но промахнулся, или, как говорили охотники того времени, — спуделял. То ли у него револьвер был неисправен, то ли он перенервничал, то ли ему помешал крестьянин Комиссаров, который после, во всяком случае, был возведен в дворянское достоинство, получил денежное вознаграждение и, кажется, дом в Москве. С тех самых пор и вплоть до ликвидации самодержавия Романовых было застрелено, зарезано и взорвано на воздух до тысячи государственных деятелей разных уровней, и до семи тысяч террористов было повешено по суду.
Вопрос: как такое могло случиться, чтобы в народе с известными христианскими традициями, незлобивом по природе, явившем высокую духовную культуру, давшем миру, в частности, Яблочкова и Толстого, вдруг могла сложиться школа политического убийства из видов царства Божия на земле? Такая школа была бы органична для какой-нибудь дикой соции вроде огнепоклонников, которые практикуют человеческие жертвоприношения, убивают новорожденных девочек и натурально едят отцов. Но в России, изнеженной сладкоголосым Чайковским и премудростью христианнейшего Владимира Соловьева, да еще в пору ее наивысшего расцвета, да чтобы сложилась такая аномалия, — это представляется немыслимым и напрямую оскорбительным для расового самознания русака…
Ответ: предположительно, дело в том, что общественная мораль в России имеет до того нестрогие, размытые очертания, что у нас нет человека функциональнее истопника, которого было бы не за что посадить. Допустим, интеллигентнейший русский человек способен походя украсть пару кирпичей, легко возводит небывальщину на товарища, дает взятки милиционерам и держит на антресолях незарегистрированное ружье; отсюда нет ничего удивительного в том, что несколько десятков молодых людей, не нашедших своего места в жизни, жертвенно настроенных и грешивших превратными понятиями о гуманизме, вздумали убивать царских чиновников, имея в виду идеальную государственную модель… Тем более что из-за нашей вековой ненависти к российскому государству как «заговору против народа» общество мало сочувствовало жертвам политического террора и вчуже симпатизировало всякой уголовщине, имевшей антигосударственную направленность, из высших соображений и с перспективой мученического венца. Именно по этой причине ни интеллигентная среда, ни клир города Симбирска, ни коллеги директора Керенского, ни гражданский генерал Ульянов, ни милейшая Мария Бланк не смогли воспитать двух известных молодых людей в древнем правиле «не убий».
В обществе, день-деньской занятом в промышленном производстве, где просто умереть с голода, если пальцем о палец не ударять, и оттого нет места праздному умствованию, такого ни в коем разе не может быть. А в России каждый третий день был праздничным, между тем ничто так не способствует росту революционных настроений, как избыточные незанятость и досуг.
Многое указывает на то, что именно в XIX столетии европейская культура преодолела пик своего развития, а потом дело пошло на спад. Судя по одним только преемникам Федора Михайловича Достоевского приходишь к убеждению: в XIX веке белая раса достигла предела своих возможностей в области мысли и прекрасного, чего ради всякой расе только и стоит существовать.
На что ни взгляни, всё в позапрошлом столетии было совершенно, то есть окончательно хорошо. Затруднительно утверждать, но, сдается, человечество никогда не изобретет ничего прекраснее длинного, прямого, закрытого платья для женщин и фрачной пары для мужчин, не сочинит ничего восхитительнее того, что было сочинено Бетховеном и Чайковским, и культура общежития останется в преданиях поколений как недостижимое благо, канувшее в Лету наравне с афинскими вечерами, богословскими диспутами, балами в благородном собрании, сумерничаньями и навыком общения по душам.
Посмотрим, как пойдет дальше, но пока культура развивается в направлении, обратном или перпендикулярном научно-техническому прогрессу, судя по тому, что машины становятся всё сложнее, а люди — проще. В эпоху Высокой Греции тамошние Архимед с Пифагором, вероятно, проходили по статье «безвредные выдумщики», а люди ойкумены занимались искусствами, налаживали демократические институты, воевали, вообще наслаждались краткосрочным праздником бытия. В пору средневековья, когда человек весь сосредоточился на проблематике спасения души, был совершен только один прорыв: во время Столетней войны в Европе появилось огнестрельное оружие, и резня превратилась в правильную войну. Да Винчи, крупнейший деятель итальянского Возрождения, все-таки сначала был великий художник, а потом изобретатель парашютов и субмарин. И в плезирном XVIII столетии ведущей фигурой был поэт и мыслитель, а не инженер и ученый, недаром Кирилла Разумовский говаривал Ломоносову:
— Брось ты, Михайла Васильевич, свои дурацкие опыты! Ты же великий российский сочинитель — пиши стихи!
Но вот в XX столетии что-то сдвинулось со своих мест, какой-то слом произошел в организме всечеловечества, и дело культуры резко пошло на спад. Может быть, закономерное любопытство в его количественном выражении преобразовалось в то гиблое качество, которое обеспечивает господство материи над духом, удобного над прекрасным, простого над тем, что сложнее партии в «дурака». Может быть, в культуре просто-напросто отпала нужда, либо потому что она исчерпала свою миссию, воспитав человека положительного, либо потому что Наверху рассудили: не в коня корм. Во всяком случае, наш классический современник ходит сравнительно оборванцем, питается всухомятку, читает «Петербургские тайны», которыми в старину увлекались шарманщики и мелочные торговцы, говорит на диалекте и мыслит недлинно, как умный пёс. Невольно посетуешь про себя: какое, по сравнению хотя бы даже с шестидесятыми годами прошлого столетия, умаленье и декаданс!..
А то, может быть, дело в том, что движение культуры так же циклично, как смена времен года, и через две тысячи лет, которые как раз отделяют Софокла от Рафаэля, жизнь человечества вернется в нормальную колею. Такая перспектива тем более вероятна, что планете Земля все-таки остается существовать еще около шести миллиардов лет, если, конечно, до того времени род людской не сгинет через наркотики и футбол.
Поскольку мы умеем так воспевать наши поражения, что они выглядят чуть ли не как победы, деяния русского человека на военном поприще воображаются нам куда более величавыми, чем это было взаправду и наяву. Коли разобраться, вояки мы плохие и представляем собой грозную, практически неодолимую силу, если только уж очень нас рассердить. А если русскому солдату приказано покорить Кавказ, или добыть новые рынки сбыта, или установить в Финляндии социалистическую республику, то из этого, как правило, получается ерунда. Англичане, те с песнями гибли за то, чтобы поработить зулусов, а нам этого не дано: русская армия, самая многочисленная в мире, ничего не могла поделать с союзным десантом во время Крымской кампании; Кавказ мы покоряли чуть ли не шестьдесят лет; в русско-японскую войну проиграли все сражения на суше и потеряли два флота усилиями народа, который, по историческим меркам, только-только освоил огнестрельное оружие и сменил свои джонки на железные корабли.
То есть чести следует приписать, что мы народ невоинственный, неотчаянный, и относимся к войне как к суровой необходимости, греховной работе, проявлению силы зла. Так что трудно сказать, кто из нас больше молодцом: финны ли, отстоявшие свою независимость в Зимнюю кампанию 39–40-х годов, или мы, вяло сражавшиеся за Финляндскую социалистическую республику и точно нарочно вводившие в заблуждение III-й рейх.
Другое дело, мы терпели обидные поражения на западе и востоке еще в то время, когда в России существовали вера, царь, отечество, честь мундира; стало быть, в настоящее время нам нужно смирно и предельно осмотрительно вести себя на мировой арене, чтобы ненароком не накликать какой конфликт.
У Антона Павловича Чехова был дом в Москве, подмосковная и два имения в Крыму; но уже Мандельштам побирался, Платонов мел дворы, и на русском Парнасе царствовал Горький, человек симпатичный, но как писатель — середнячок. То есть, куда идем?!
Судя по тому, что в наше время хироманта встретишь чаще, чем квалифицированного читателя, и что писатель из серьезных низведен до положения полусумасшедшего, в ближайшую пору, как видно, добра не жди. А всё потому, что наших-то повыбили в германскую и гражданскую да основательно их поморили большевики. В результате одни ихние остались как генотип, а наших теперь нужно днем с огнем отыскивать на развод; те самые ихние остались, которые продают оружие противнику, слыхом не слыхивали про русский «серебряный век» и вообще произошли от противоестественного мезальянса между конокрадом и бобылем [10].
Молодые люди идут в революцию по той же причине, что и в блатные, — из-за неприспособленности (пожалуй, даже и физиологической) к положительному труду. За редкими исключениями [11], все профессиональные борцы за демократию ли, социальную справедливость или национальную независимость суть люди вполне ненормальные, коли условиться, что потребность в созидании представляет собой здоровый инстинкт, общий для всех людей. Кроме того, борцу, как и уголовнику, свойственны еще две злокачественные черты: романтизм и бессознательное презрение к простому человеку, который создан для непраздничной жизни и положительного труда.
Оттого неудивительно, что борьба за реализацию каких бы то ни было возвышенных идеалов в ста случаях из ста вырождается в бандитизм. К примеру, в случае с Октябрьской социалистической революцией 1917 года, которая преследовала высший общественно-хозяйственный идеал, мы получили резню в общенациональном масштабе и медленно затухающую страну. К примеру, в случае с Августовской буржуазной революцией 1991 года, которая преследовала реальный общественно-хозяйственный идеал, мы получили резню в общегосударственном масштабе и медленно затухающую страну.
Стало быть, мотаем себе на ус: если человек, вместо того чтобы растить картошку и воспитывать детей, норовит возглавить партию социал-эксплуататоров, его нужно опасаться, как буйнопомешанного, который ни с того ни с сего может хватить стулом по голове.
Мы потому взираем на Западный мир с чувством легкого превосходства, что там давным-давно и главным образом люди заняты выращиванием картошки и воспитанием детей, то есть окончательно омещанилась тамошняя публика и впала в гнусный материализм.
То ли дело мы: еще кое-кто из нас размышляет о возвышенном, не во всякий театр билет купишь и можно поговорить со случайным встречным о переселении человечества на Сатурн. Мудрено ли, что ни в одной стране мира не вздумали и, главное, не взялись строить коммунистическое общество, а русские вздумали и взялись.
Радоваться, впрочем, нечему: коммунисты пришли у нас к власти в 1917 году не потому, что мы такие благостные печальники по социальной справедливости в глобальном масштабе, а потому что мы моложе и, следовательно, дурнее Западного мира примерно на триста лет. То, что у нас недавно вытворяли большевики, у них давненько-таки вытворяли Кромвель и Робеспьер.
С тех пор на Западе известно (и даже не известно, а как-то передается из поколения в поколение на генетическом уровне), что добро осуществляется через зло, что общественное и личное благосостояние обеспечивают средства самого печального свойства, как-то: подневольный труд, частная собственность, эксплуатация большинства меньшинством, ответственность, дисциплина и еще целый ряд технических видов зла. А если из любви к человечеству совершить вооруженный переворот и объявить с ближайшего понедельника всеобщее счастье, то из этого получатся только Кромвель и Робеспьер.
Такая квелая позиция нас, разумеется, не устраивает, в России взрослые люди годами горячатся на тот предмет, возможна ли победа социализма в отдельно взятой стране или для нее требуется всемирно-единовременный катаклизм… У нас даже премудрый Лев Толстой доказывал премьеру Петру Столыпину, что крестьянская община — залог и предтеча всеобщего благоденствия потому-де, что у них бывают сходы, как в древнем Новгороде, а на самом деле она была главной причиной недородов и нищеты [12]. То есть в Европе дело ладится по «Фаусту»: из злых побуждений, например, страсти к обогащению, как-то само собой выходит добро, например, реальный социализм. В России наоборот: из лучших побуждений, например, стремления к реальному социализму, как раз выходит необъятная сила зла.
К коммунизму как идее претензий нет, и даже скорее всего он — неизбежное грядущее человечества, а не германская блажь и беспочвенная мечта. Тем не менее, наверное, разумнее будет смириться с одичанием народным, растленной государственностью, воинствующей буржуазностью и прочими обстоятельствами, сопровождающими первоначальное накопление капитала, каковое и в Европе XVII столетия отличали предельно омерзительные черты. Что же делать, коли Бог действует не прямо, а опосредованно, именно преображает наши безобразия, вытекающие из природной свободы человека, в более или менее положительный результат.
Кстати заметить, через сто лет легко будет проверить, есть Бог или же его нет: если через сто лет Россия не пресечется как полноценное государство, то Бог есть, а если пресечется, то, стало быть, его нет. Ибо наше государство до такой степени растлил и обескровил свободный человек, что только на Бога и приходится уповать.
Сдается, то, что мы называем гражданскими правами и демократическими свободами, представляет собой промежуточный этап в развитии человечества, как переселение народов и тотемизм. На эту позицию наводит такое соображение: все-таки идеальной организацией общества следует считать ту, которая обеспечивает бескомпромиссное подавление зла добром, господство труда над прибавочной стоимостью, абсолютизм здравого смысла, подневольное положение сумасшедших, составляющих среди нас едва ли не большинство, диктатуру моральных норм. К тому же с демократическими институтами сопряжено множество неудобств, например, народ возьмет и выберет в президенты прямого уголовника, который посулит семь выходных в неделю, например, какой-нибудь русский Журдэн из бывших приемщиков стеклотары возьмет и издаст газету на матерном языке…
В общем, свобода есть зло, вытекающее из неспособности человечества к настоящей самоорганизации, постольку зло, поскольку свобода представляет собой инструмент, присвоенный слабыми и неправедными особями, которые могут им оперировать только во имя зла. А сильный и праведный всегда свободен, хоть при Са-санидах, хоть при наследниках Ильича. Ему нет дела до цензуры, потому что самый хитроумный цензор не способен постичь гигантской асоциальной силы «Братьев Карамазовых»; ему нет дела до «железного занавеса», потому что если уж очень приспичит, он построит вертолет из бензопилы «Дружба» и улетит. Впрочем, помнится, очень казалось обидным, что твои возможности передвижения зависят от отдельно взятого дурака.
Удивительная закономерность: в России чем страшнее жизнь, тем чудесней песни. Кажется, со времен Иоанна Грозного страна не знала такого бешеного террора, который ей устроил хитрый осетин Сталин, и что же? — Никогда, ни прежде, ни после у нас не сочиняли столько песен изумительной силы и красоты…
Мнится, в этой несообразности кроется какое-то обещание, залог, то есть тем больше у нас оснований поверить в то, что наша Россия со временем превратится в процветающую страну. Если, конечно, до той поры не сопьемся, не выродимся, не покоримся азиатам, не распадемся на удельные города. Но ведь одолели же мы Гитлера, которого, по логике вещей, никак не должны были одолеть, и построили среди болот Четвертый, краснознаменный Рим со всем, что к нему прилагается, — рабами, вселенской идеей, самой мощной в мире военной машиной, своими гаруспиками, жертвоприношениями и отцами нации, ведущими происхождение от богов.
Отсюда такое предположительное заключение: мы — народ сверхъестественной живучести и настолько причудливо талантливый, что умеем выводить пользу даже из общественно-хозяйственных катастроф. Ну кого еще можно довести до такого градуса изобретательности, чтобы он построил вертолет из бензопилы «Дружба» и улетел…
Всякая здоровая государственность ориентирована таким образом, чтобы человеку было хорошо. Русские марксисты в семнадцатом году вроде бы именно так и ставили вопрос, разве что они вывели за рамки понятия «человек» так называемого классового врага. Однако на поверку вышло, что благополучие труженика — дело десятое, что при нашей невзыскательности его с лихвой обеспечивают прочная пайка и поголовная занятость, и в действительности наша парасоциалистическая государственность все семьдесят четыре года своего существования работала на войну. Вернее сказать, на то, чтобы содержать в неприкосновенности безграничную власть десятка-другого старичков, которые волею судеб засели по адресу: Москва, Красная площадь, Кремль.
Особенно обидно, что на самом деле никто на их власть и не покушался, если не считать сумасшедшего Гитлера, — наверное, Запад как-то укрепился в мысли, что русского мужика лучше не сердить, поскольку он тогда себя не помнит и, если нужно двенадцать раз погибнуть за город Ржев, он двенадцать раз погибнет и не сморгнет [13].
Философ и президент довоенной Чехословацкой республики Томаш Масарик утверждал, что «в конце концов побеждают идеалисты»; у них, может быть, так оно и есть, а у нас сначала побеждают идеалисты, потом материалисты, потом опять идеалисты — так история и течет. Только в продолжение одного века материалиста Столыпина сменил идеалист Ленин, того — материалист Сталин, того — идеалист Хрущев, того — материалист Брежнев и так вплоть до наших гнетущих дней. Впрочем, на характере русской государственности эти пертурбации почти не сказываются и она может позволить себе любые шатания, поскольку хозяйство страны издревле держится на том, что работнику почти ничего не платят или не платят решительно ничего.
Но если бы наши владыки читали книги, то идеализм у нас не перетекал бы с такой легкостью в материализм, и власть была бы последовательнее и стройней. Работнику от этого будет не легче, но все же… откроет владыка книгу, положим, Василия Александровича Слепцова, а там написано: «Прежде чем строить храм, позаботься о том, чтобы противник не сделал из него конюшни». И, может быть, тот храм абсолютной социальной справедливости, который взялись строить большевики, равно как и храм демократических свобод, который возвели наши либералы, вышли бы не так подозрительно похожи на лагерь общего режима: наверху паханы, с ними дружатся контролеры, а по периферии ни за что труждаются мужики.
Судя по тому, что матерная брань вдруг стала в России лексической нормой, будущее нашей страны затруднительно предсказать. Но почему-то кажется, что Россия еще не выпила свою чашу, что еще многое впереди.
А мы всё приходим невесть откуда, и всё уходим невесть куда.