Чудо и чудовище Резанова Наталья
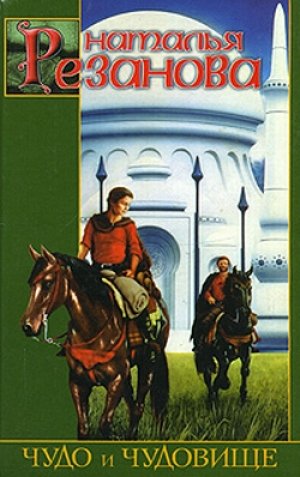
– Мастерство есть плата, вот что я тебе учил! Другой нет! И жена мне не нужна.
– Я не в жены набиваюсь. В жены берут красивых. Я не красивая, даже хуже. Зато я девушка. Я не спала с мужчинами. Ты можешь быть первым. Разве плохая плата, нет?
Непроизвольно она воспроизвела интонации Ильгока, и его передернуло.
– Если хочешь приставать к мужчинам – иди в город.
– К другим я приставать не буду, – перебила его Дарда, – другим я не обязана.
– Уходи, я сказал! Совсем.
– Не уйду я никуда.
В голосе Дарды не было вызова. Он был таким же как обычно. Теперь Ильгок смотрел на нее с некоторым беспокойством. Может быть, он и впрямь верил в ее безумие?
– Если ты не уйдешь, я сам уйду.
– А я тебя догоню. И буду ходить за тобой. И добьюсь своего.
Дарда не делала попыток применить какие-то женские уловки, предназначенные для того, чтобы привлечь мужчину. Во-первых, она их не знала. Во-вторых, при ее внешности они привели бы к обратному результату. Она даже не упоминала о любви, потому что ее не было. А то, что было, Дарда выразить словами не умела.
Ильгок отвернулся. Что он увидел в ней? Воплощение всего, что отталкивало его в этой стране – надменности, практицизма, невероятного упорства? Крушение главного принципа, на котором строилось его учение – незыблемости отношений мастера и ученика, при которой не то, что о бунте – о споре помыслить невозможно? Он был убежден, что уничтожил гордость Дарды, а на деле эта гордость ничуть не уменьшилась. Он только не замечал ее. Ильгок привык читать души своих учеников, как раскрытую книгу, и вдруг оказалось, что книга написана на незнакомом ему языке.
Или ему неприятно было смотреть на несчастную уродину, посягающую на то, что ей не положено?
Что бы он сейчас ни испытывал, это сталось невысказанным. Высказалась Дарда.
– Если тебе сейчас не до меня, я подожду. Я буду ждать, сколько нужно. Но не отступлю.
С этими словами она свернула за камень и скрылась из виду. Ильгок не окликнул ее, и она не оглядывалась.
Ей не было стыдно, потому что ее не учили стыдиться. Очевидно, люди полагали, будто из-за своей внешности она и так беспрерывно терзалась стыдом. Они ошибались. И сомнения ее не мучали. Когда Дарда принимала решение, сомнения исчезали.
И выбрав себе цель, она упорно шла к ней, всегда добиваясь своего. Даже, если ей этого не хотелось.
Должно быть, Ильгок тоже это понял.
Дарда спала спокойно и без сновидений. А когда поутру вернулась на ту самую поляну, нашла Ильгока мертвым. Он воткнул себе в сердце кинжал. Вероятно, он сделал это еще вечером, вскоре после ее ухода, потому что тело его успело остыть. И рука его не дрожала, потому что крови из раны почти не вытекло.
Дарда не сразу осознала, что она видит. А когда поняла, ноги у нее подкосились. Она упала на колени, и на коленях же поползла к Ильгоку, уставившись на кинжал. Он не был погружен в грудь до упора – мешали загнутые крючьями края рукояти. Но и этого хватило. Дарда с усилием вырвала кинжал из раны, хотя это ничем не помогло бы Ильгоку, и сразу же выронила оружие. Дрожь прошла по ее телу, руки дергались так, что она и тростинки не удержала бы. Перед глазами все расплывалось, точно видимый мир был картиной, на которую плеснули мутной теплой водой, и краски поплыли, смешались… Вода была на самом деле – на лице Дарды. Она плакала еще реже, чем смеялась, и успела забыть, что это слезы.
Ей было еще хуже, чем в день, когда ее выгнали из дома. Тогда она чувствовала себя правой, в чем бы ее ни обвиняли. Теперь обвинить ее было некому, но она знала, что виновна, и вина ее была безмерна. Она довела до смерти единственного человека, который взял на себя труд чему-то ее учить. Который был к ней добрее, чем родной отец. С тем же успехом она могла бы самолично вонзить кинжал Ильгоку в сердце. Убийство, совершенное ею на берегу Зифы, нисколько не затронуло в ней совести . Сейчас Дарда сполна ощутила, что значит быть убийцей. И никто не мог избавить ее от этого. Свою вину ей надлежало избывать в одиночестве.
Со временем, значительно позже, она вынесла из того, что случилось, еще один урок: она, Дарда, внушает мужчинам сильнейшее отвращение. Ей следует усвоить это, и не пытаться уподобиться другим женщинам.
Но в тот день подобное соображение не пришло ей в голову. И, сколь ни мучила ее вина, она, как и после изгнания из дома, не подумала о том, чтобы убить себя. Она взяла в руки нож – на сей раз собственный, бронзовый, лишь для того, чтобы вырыть могилу.
Дарда копала ее целый день. Нож совсем затупился, ладони стерлись до крови. Но по крайней мере, хоть тут она добилась, чего хотела. До захода солнца вырыла яму, достаточную для того, чтобы уложить в нее умершего. Она спешила, словно надеялась, что ей полегчает, если она не будет видеть итог своего преступления.
Посох и кинжал Ильгока она уложила вместе с ним. Не в качестве посмертных даров. Она не хотела ничего оставлять у себя на память об Ильгоке. Память и без того была слишком болезненна.
Но после того, как Дарда засыпала могилу, легче ей не стало. Спасло ее то, что она слишком устала душой и телом. Темное, тупое забытье одолело ее. И это был единственный раз, когда ей пришлось спать рядом с Ильгоком.
Так завершился день, ужасней которого для нее еще не было. Но ни тогда, по малолетству и отсутствию опыта, ни позже, Дарда не умела понять: не столько она не была женщиной, сколько Ильгок уже не был мужчиной. И осознание этого могло оказаться столь мучительным, что заставило его лишить себя жизни.
Проснулась она в слезах. Но даже если б она не плакала, окружающая красота померкла. Она была насквозь лжива. эта красота. И Дарда ни за что не осталась бы здесь. В горах, среди скал и снега, в безводной пустыне ей будет лучше, чем в этой ловушке. Никогда больше она не позволит себе поддаться обману красоты.
Дарда вернулась в пустыню еще беднее, чем была. Ступившийся нож пришел в негодность, и она его выбросила. И она не стала загружать сумку камнями для пращи. Из оружия у нее остался только посох. Овчина, служившая ей накидкой и одеялом, почти полностью облысела, и выглядела не лучше платья. Единственное, что осталось в целости – обмотки на ноги, поскольку предшествующие месяцы Дарда ходила босиком.
Наверху было не такое пекло, как помнила Дарда. Здесь время шло, а не стояло, и сезоны менялись ощутимо. Но все равно, жара стояла отчаянная. И солнце слепило немилосердно. От жары, напекавшей голову, от солнца или от рыданий Дарда плохо осознавала, что происходит, и впоследствии не могла бы сказать, долго ли она добиралась до дороги, и встречался ли кто ей по пути. Последнее было возможно, но если кто-то и замечал ее, то вероятно приходил к выводу, что такое убогое существо не стоит ни ограбления, ни угона в рабство.
Однако на дорогу она вышла. Произошло это вероятно, на второй день. Вернее, вышла Дарда на тропу, которая в свою очередь привела ее к дороге на Кааф. Но если Дарда и определяла направление, то не глазами. Она шла, отстранившись от всего, что могло отвлечь ее от горя и терзаний, и потому не заметила, как вышла на дорогу и не услышала стука копыт.
Одинокие путники попадались на этой дороге не то, чтоб часто, но не так уж редко, как можно представить. Они осмеливались пуститься в путь, если, как уже было помянуто, с них нечего было взять. Одинокий всадник – другое дело. Даже если он стар, подслеповат и хром на обе ноги, у него всегда можно отобрать коня или осла, или мула. Поэтому если по дороге на Кааф кто-то ехал в одиночку, то это был либо разбойник, либо человек, по каким-то причинам отставший от каравана, вместе с которым путешествовал.
Человека, поспешавшего в сторону Каафа на высоком, тонконогом жеребце золотистой масти, с первого взгляда можно было принять за разбойника. Он был одет на дебенский манер – в широкий кафтан, перехваченный наборным поясом, шаровары и мягкие сапоги, на боку у него висел меч хатральской работы, судя по изогнутому клинку и бирюзе, украшавшей рукоятку. А большинство разбойников в этом краю являлось через границы между Хатралем и Дебеном. Но человек опытный, много странствовавший сразу бы сказал, что никакой это не разбойник, а также и не уроженец какого-либо из юго-восточных княжеств. В такие кафтаны одевались в Дебене состоятельные горожане, и они же, как этот всадник, обычно брили бороды, и тщательно закручивали пышные усы. Люди пустыни, напротив, считали бороду истинным украшением мужчины, а из одежды предпочитали широкие плащи, длинные и плотные, надеваемые поверх рубах, головы же прикрывали платками или просто обвязывали тканью. Но ни горожане, ни кочевники юга не надели бы расшитую шамгарийскую шапку с отворотами. Зато щеголи южных торговых городов Нира, особенно Каафа, запросто сочетали в своей одежде самые несочетаемые детали: это вовсе не считалось смешным или вызывающим. Вообще во всем его облике – не только в одежде, но и в манере держаться в седле, в том, как он нахлестывал коня – заметна была некая лихорадочная франтоватость, совершенно несвойственная тем, кто промысел свой осуществлял мечом и луком. Да и по правде, рыхловат он был для такого промысла.
Итак, он спешил, проклиная то – или тех, кто задержал его на караванной стоянке, а Дарда его не услышала. Что вполне объяснимо – по песку, даже плотно утоптанному, всадника, если не быть начеку, можно и не услышать. Но для всадника это не было оправданием: оборванка, возникшая на перекрестке дорог, нагло шла себе, и не желала убираться с его дороги. Что ж, пусть пеняет на себя. Уж он-то объезжать ее не собирается. Он бы непременно сбил ее, если б Дарда, все еще пребывая в отстранении, не ощутила бы: что-то не так. И бессознательно отступила на шаг в сторону. И перехватила посох за середину, чтоб легче было защищаться. И всадник промчался бы мимо, если б коня не испугала мелькнувшая рядом с его мордой палка. Кровные кони бывают пугливей полевых мышей и капризней избалованных красавиц. Он заржал, поднялся на дыбы, и всаднику стоило больших усилий удержаться в седле. Он кричал, бил коня плеткой и вжимал колени ему в бока, а золотистый жеребец плясал на задних ногах. Когда же он, наконец, смирился, в бешенство впал его хозяин. Вместо того, чтобы показать этому отребью свою силу, он сам оказался в дурацком положении. Наглость нищенки не имела предела. Вдобавок, укрощая коня, он оказался несколько впереди Дарды, и увидел ее лицо. Это решило дело. Самим своим существованием жалкая уродина оскорбляла его – красивого, нарядного и сильного. И за это ее следовало наказать. Он развернул коня. Если раньше он мог сбить нищенку походя, как бы случайно, то теперь он готов был убить, затоптать конем, не марая благородных рук.
Оцепенение спало с Дарды, слезы высохли, мир, только что бывший тусклым и расплывчатым, вновь окрасился в яркие, резкие цвета. Долгие месяцы Дарду не учили ничему, кроме как отражать и наносить удары. И сейчас, прежде чем она успела что-либо решить, ее руки и ноги решили за нее. Посох снова скользнул в руке – Дарда держала его, как копье. Она отскочила, прыгнула и в прыжке ударила всадника в грудь концом посоха. Удар рассчитан был именно на то, чтобы лишить его равновесия. Действительно, черноусый вылетел из седла, прокатился по песку и, приподнимаясь, потянулся к мечу. Но ни подняться, ни вытащить меч он не успел. Дарда нанесла второй удар – в горло.
Ильгок, не любивший крови, научил ее, как ломать шейные позвонки. Но тогда он своим посохом лишь коснулся нужной точки. Дарда не стала сдерживать руку.
… Он не сразу умер, и Дарда стояла над ним в некоторой растерянности. Она впервые видела, как умирает человек, хотя была повинна – или считала себя повинной – в двух убийствах. Но грабитель Закир погиб мгновенно, и ее не было рядом с Ильгоком, когда тот убил себя. И она наблюдала.
До сих пор Дарда встречала в устремленных на нее взглядах только отвращение, насмешку или жалость. Теперь она видела нечто новое. Она даже наклонилась, чтобы повнимательнее рассмотреть непривычное выражение в тускнеющих глазах.
Страх.
Когда все кончилось, Дарда воткнула посох в песок и отошла – ловить коня. Она не была уверена, что сумеет это сделать, и что животное вообще подпустит ее к себе. До сих пор ей приходилось управляться лишь со старым отцовским мулом. Жеребец фыркал и храпел, но шарахаться и убегать не стал, а когда она огладила его морду и гриву, быстро успокоился. Дарда глянула в седельные сумки. Одна оказалась пуста, в другой были лепешки с сыром, и тыква-горлянка, на треть наполненная сикерой.
Потом Дарда вернулась к убитому. Не столь давно она так же стояла над трупом загубленного ею человека, но сейчас не вспоминала об этом. Произошедшее словно бы отодвинуло ужас и боль последних дней, и сделало ее прежней: спокойной, решительной, внимательной к мелочам.
Глядя в побледневшее круглощекое лицо с закрученными усами, она внезапно вспомнила сказку, которую услышала случайно, когда следила за пастухами у костров. Что-то там было о подменном царском сыне, и как он в придорожной ссоре ударом посоха убил путника, оказавшегося его родным отцом…
Все это чушь. Она – не царская дочь, а путник не годится ей в отцы – слишком молод.
Для начала она обыскала его. К наборному поясу кафтана был привешен кошелек из выделанной кожи, заметно потертый. Из него Дарда вытряхнула несколько кусочков металла, круглых и квадратных, на которых виднелось что-то вроде клейм. Пять были грязно-бурого цвета, три – серого с прозеленью, и два – тускло-желтого. Дарде не приходилось еще видеть денег, но она слышала про них, и без труда догадалась, что это такое. Гораздо меньше она была в состоянии определить, что представляет собой свернутый в трубку кусок какой-то странной ткани (так ей показалось), испещренной рядами замысловатых значков. Поскольку о существовании письменности Дарда не имела понятия. Тем не менее выбрасывать неизвестного предназначения ткань она не стала, а вместе с монетами убрала обратно в кошелек. Она забрала пояс, оружие – меч и кинжал, шапку, стащила с пальца перстень с печаткой, вынула из ушей серьги (уроженцы Хатраля и Дебена не носили колец и серег). Потом раздела убитого. Тут оказалось, что перед кончиной он обделался – еще одно обстоятельство, сопутствующее смерти, о котором Дарда узнала впервые. Но одежда была слишком хорошего качества, чтоб ее выбрасывать, и Дарда решила, что при первом удобном случае отмоет ее и отчистит, а пока что тщательно свернула. Потом сложила в сумку все, за исключением меча, который закрепила у седла. Прихватила посох. Хотя, возможно, ей придется вспоминать, как ездят верхом. Но пока что она не торопилась. Дарда понимала, что ближе к Каафу начнутся населенные места. И ей предстояло обдумать, как избавиться от награбленного с наибольшей для себя выгодой.
Ведя коня в поводу, Дарда двинулась по дороге, оставив мертвеца на радость шакалам и хищным птицам.
ДАЛЛА
Как ни странно, новое путешествие из Маона до Зимрана она перенесла легче, чем предыдущее. Вряд ли можно было говорить о привычке. Далла просто ничего не чувствовала. Как и в прошлый раз, ее везли в конных носилках, возможно, в тех же самых. Она не обратила внимания. Бероя ехала рядом с носилками на ослице. Кто еще был из маонской прислуги, Далла не видела. Ей было все равно. Тесные, душные, тряские носилки подходили к ее душевному состоянию лучше, чем дворцовые покои. Она была одна, и никто не докучал ей. Сюда не проникал даже солнечный свет. Нет, она не желала, чтобы так продолжалось и дальше. Она ничего не желала. Следовательно, не желала и перемен. И пока она лицом вниз лежала на носилках, караван споро приближался к Зимрану.
Криос не остался в Маоне. Он был послан туда на случай, если царскому отряду при занятии города будет оказано вооруженное сопротивление. Ничего подобного не произошло, жители Маона вели себя столь же покорно, как и их княгиня. Поэтому Криос передал полномочия наместника одному из своих офицеров, чтобы вернуться в Зимран с тем караваном, который вез Даллу. У него было достаточно дел в столичном гарнизоне, вдобавок он хотел быть уверен, что с пленницей ничего не случится. Сама Далла была ему безразлична, ни одна женщина, по мнению Криоса, не стоила хлопот, как бы она ни была хороша и высокородна. Однако ему известна была судьба тех, кто пренебрегал царскими приказами.
Удачно, что старуха-нянька вызвалась сопровождать в пути свою госпожу. Она опекала Даллу денно и нощно, избавив Криоса от многих забот. Больше никого из прислужниц он в дорогу не взял. Не хватало ему еще драк из-за женщин в караване. Что же до высокородной княгини – если Ксуф оставит ее у себя, как намеревался – в Зимране у нее будет достаточно рабынь. А если не оставит – рабыни ей не понадобятся.
На этот раз они прибыли в столицу к вечеру, незадолго до закрытия ворот. Далла слышала, как ругаются люди, орут ослы, псы захлебываются лаем, как топочут сапоги и гремит амуниция стражников. Но не выглядывала из-за ковровой занавески. Зачем? Зимран не интересовал ее, даже когда рядом был Регем.
Они долго ехали по улицам, гораздо дольше, чем прежде, так что когда остановились, было уже совсем темно. Бероя поджидала госпожу как обычно, у выхода из носилок, подставила ей плечо, и приобняв, повела в дом. Далла охотно приняла ее помощь. Она чувствовала себя совсем разбитой. По пути ее кольнуло смутное удивление: вроде бы в доме Регема не было таких высоких лестниц . Но тут же и отпустило.
В горнице Бероя шугнула каких-то мечущихся женщин, разостлала постель, помогла Далле раздеться и уложила ее, как ребенка. И Далла, как это нередко бывает, сразу же провалилась в сон, тяжелый и мутный. Она и раньше любила поспать, но никогда не была так сонлива, как в последние недели. Правда, в ее состоянии это было к лучшему.
Солнечный свет разбудил ее. Он вливался в комнату сквозь узкое окно, и это было странно – в ее зимранской спальне окон не было. Но и комната была не ее. Далла ничего здесь не узнавала. Резные раскрашенные деревянные колонны, изображавшие деревья, протянутые между ними узорчатые занавеси, поставцы вдоль лепных стен. Низкий потолок расписан золотыми звездами по синему полю. Ковры на полу и в ногах постели. Только встретившись взглядом с Бероей, Далла поняла, что не бредит.
– Бероя, где мы?
– Ты разве не догадалась, детка? – спросила нянька. И, убедившись, что это так, пояснила. – Мы в царском дворце.
– Но почему? – Далла провела ладонью по лбу. Голова все еще была дурная. И она, памятуя, что ее везут в Зимран по приказу царя, не предполагала, будто ее сразу доставят во дворец. – Почему не в нашем доме?
Прежде чем Бероя успела ответить, из-за занавеси вынырнул человек, точно он уже давно поджидал там, и готовился появиться в надлежащий миг.
Бероя открыла было рот, чтобы выбранить наглеца, ибо никому, кроме хозяина дома, не дозволено входить незваным на женскую половину, а вошедший всяко не мог быть царем Ксуфом. Но бросив на пришельца быстрый взгляд, промолчала. У него была вихляющая походка, свойственная иным молодящимся старухам. И что-то старушечье было во всем его облике – широком коричневом кафтане поверх долгополой желтой рубахи, в руках, сложенных под грудью, и особенно в лице – безбородом, с пухлыми морщинистыми щеками и недобрыми внимательными глазами. Только плешь мешала принять его за женщину.
По старым нирским воззрениям волосы были одним из наилучших украшений, данных людям богами, и лысина для мужчины считалась не меньшим позором, чем для женщины. Поэтому, если кого постигало такое несчастье, как потеря волос, он старался прикрывать голову тюрбаном или просто повязкой. В Зимране об этом успели позабыть, и плешивцы чувствовали себя ничем не хуже других.
Вошедший отвесил Далле низкий поклон и заговорил.
– Приветствую высокородную госпожу. Я – Рамессу, управляющий женской половиной дворца. Явился узнать, что госпожа изволит пожелать?
У него и голос оказался женский, причем не из самых приятных – писклявый, с привизгом. При звуках этого голоса до Даллы дошло то, о чем Бероя догадалась сразу же. Управитель был евнухом. Даллу едва не передернуло. В Маоне к евнухам относились еще хуже, чем к плешивым. Как люди неполноценные, они не могли занимать никаких заметных должностей, и в знатных, тем паче – княжеских домах никто не доверил бы такому пост управителя.
– Госпожа желает мыться, а потом завтракать, – сухо ответила Бероя. Ее голос прозвучал на несколько тонов ниже управительского.
Рамессу кивнул.
– Я так и полагал. В купальне уже все готово, и рабыни ждут госпожу. А затем принесут кушанья.
– Нет, погоди! – Далла села в постели. Впервые за много дней она проявила какой-то интерес к происходящему. И нельзя было назвать этот интерес радостным. – Почему здесь? У меня есть дом в Зимране. И достаточно слуг.
– Здесь твой дом, госпожа, – вежливо отвечал Рамессу. – И все мы в этом доме слуги царицы нашей. Твои слуги, – подчеркнул он, видя ее недоумение.
– Мои? Причем здесь я? Гипероха – царица… – Она осеклась, вспомнив, что Гипероха умерла. Из-за своих несчастий Далла совсем забыла об этом.
Управитель снова кивнул в подтверждение этого печального обстоятельства.
– Наш господин недавно овдовел. Ты тоже лишилась супруга и защитника. Что может быть лучше, чем перейти под мощную руку нового мужа, и принять царский титул?
– Но я не хочу!
Рамессу склонил голову к плечу и внимательно посмотрел на нее. Оттого, что лицо его было лишено волосяного покрова, брови казались особенно мохнатыми.
– На то царская воля, госпожа. Он решил – мы исполняем.
– Я не хочу, – повторила Далла. Так же не хотела она верить в гибель мужа и сына. Но это не помогло. – Не хочу выходить замуж за Ксуфа. Не хочу быть царицей. Отпустите меня.
– Куда, милостивая госпожа?
– Как – куда? В мой город Маон.
– Осмелюсь напомнить, госпожа, что Маон – не твой город. Конечно, если бы твой сын – пусть лелеют его боги в блаженных краях – оставался в живых, ты правила бы Маоном до его совершеннолетия. Теперь же, за отсутствием наследника мужского пола, ты отдала Маон под охрану царя. Что касается родового дома в Зимране, то он перешел к следующему по старшинству из наследников Иорама. Возможно, господин Бихри согласился бы принять на себя заботы о тебе, но он сам еще несовершеннолетний, и не может принимать таких решений.
Далла молчала, как оглушенная. Казалось, самое страшное, что она могла ожидать от жизни, уже произошло, но впереди открывались новые бездны. Она лишилась не только семьи, но и всего имущества. И возразить на это нечего. Она сама отдала Маон царскому наместнику, согласившись приехать сюда.
Рамессу словно угадал ее мысли.
– Госпожа, – сказал он. – Потеряв, ты приобрела гораздо больше. Разве царица не выше княгини Маона? И разве тебе не было предсказано, что будешь царицей?
В его тонком голосе не было сочувствия. так же, как не было издевки, когда он разъяснял ей, что она обездолена. Просто вежливость хорошо информированного человека.
– Впрочем, – продолжал управитель, – о чем бы мы не говорили, это не имеет значения. Ты уже царица, и жена Ксуфа.
– Как? – перебила его Далла. – Свадьбы не было!
– Это не имеет значения, – снова произнес Рамессу. – Предки нашего государя всегда похищали себе жен. И этот благородный обычай по возможности соблюдается в царском роду и по сей день, хотя бы внешне. Будущая царица привозится во дворец тайно, и первое время проводит там как бы в затворе, не показываясь. Затем, конечно, будут и обряд в храме Мелиты, и праздничный пир. Но невеста считается женой с того мгновения, как она переступила порог дворца.
Далла бросила на Берою умоляющий взгляд.
– Если твой царь так почитает обычаи, – сурово произнесла нянька, – он должен был позволить моей госпоже оплакать покойного мужа, как подобает.
– Царская воля важнее траура, – возразил Рамессу. – И со дня смерти князя Регема прошло достаточно времени, чтобы справить погребальные обряды. А если госпожа опасается, что навлечет на себя гнев усопшего, разделив ложе с новым супругом, то страхи эти напрасны. Государя Ксуфа нет сейчас в столице. Он подавляет нынче мятеж в долине Корис.
Внезапно стало легче дышать. Словно рассосался ком, угнездившийся в груди и тянувший щупальца по всему телу.
Рамессу, угадавший смену настроения Даллы, снова поклонился.
– А теперь не угодно ли госпоже проследовать в купальню?
Далла позволила вымыть себя в горячей воде – подзабытое ощущение оказалось очень приятно, – вытереть досуха и одеть в заготовленное платье. Расчесать ее волосы, однако, Бероя не позволила никому из здешних рабынь. Это было слишком ответственное дело, чтоб доверить его каким-то незнакомым девкам.
Когда они вернулись в спальню, Далла даже смогла поесть без отвращения и выпить немного разбавленного вина – настолько укрепляюще подействовало на нее известие, что встреча с Ксуфом откладывается на неопределенный срок. Рамессу тоже куда-то исчез, и это успокаивало.
Потом Бероя усадила ее в невысокое креслице, распустила влажные после мытья волосы и принялась расчесывать их костяным гребнем.
– Что делать? – с тихим отчаянием спросила Далла. – Что мне делать? Я не хочу за Ксуфа. Он … мерзкий. – Она искала то слово, что выразило бы ее отношение к царю, но так и не нашла.
– Можно попробовать бежать.
– Куда?
– В Маон. Но мы не скроемся вдвоем. Нужно искать защиты у родичей Регема. А если они нам помогут – ты выдержишь? Ты сумеешь поднять людей Маона против наместника?
В том, что она сумеет выдержать любую скачку до Маона, Далла не сомневалась. Ей уже приходилось бежать из Зимрана. Правда, тогда обо всем заботился Регем… Но прочее, о чем говорила Бероя, вызывало у нее растерянность. Искать защиты – у кого? У болтушки Фариды? У мальчика Бихри? И "люди Маона" были для нее понятием неясным и расплывчатым. Как с ними говорить? Как убедить, что ее обидели, лишили достояния, законной власти в Маоне? Они ответят, как Рамессу – она только выиграла, обменяв княжеский титул на царский. К тому же горожане не воины, им самим нужен защитник. Наместник царя для них лучше законной княгини…
– Значит, ничего нельзя сделать? – прошептала она.
Некоторое время Бероя молчала. Только гребень с шорохом скользил по шелковистым прядям. Затем нянька негромко, но твердо произнесла:
– Если хочешь, я могу убить его.
Сердце Даллы замерло: сперва от радости, потом от ужаса. Избавиться от Ксуфа навсегда, никогда его не видеть – вот было бы сладко! Но его люди злые и безжалостные, как Криос, или хитрые и скользкие, как Рамессу…
– Нельзя! Они убьют нас, растерзают…
В глубине души она надеялась, что нянька разубедит ее. Но Бероя ничего такого не сказала. После продолжительной паузы она произнесла:
– Может, стоит перетерпеть этот брак, чтобы стать царицей…
Она не добавила: "Ведь тебе это предречено", но Далла подумала об этом.
– Няня, ответь мне… Ты должна помнить. Это предсказание, что я стану царицей – оно было на самом деле, или это выдумка? Бывает же так – кто-то что-то сочинит, и все начнут повторять. Особенно после того, как меня коснулась Мелита…
Хотя Далла не могла видеть ее лица, Бероя опустила глаза. Словно с трудом припоминая, сказала:
– Это было до твоего рождения. Предрекали, что дитя Адины и Тахаша будет править царством. Тогда все думали, что родится мальчик…
– Кто это предсказал?
– Какой-то бродячий прорицатель в Маоне.
– И где он?
– Не знаю. Мы больше никогда о нем не слышали. Наверное, умер.
– Так лучше для него, – с горячностью произнесла Далла. – Будь он жив, и явись во дворец за наградой, я бы сама убила его. Потому что, если бы не его предсказание, Ксуф и не вспомнил бы обо мне!
– Возможно. – Бероя снова подняла глаза. И взгляд ее был остер и цепок, будто она искала некую цель. – Возможно.
Эти дни Далла жила надеждой – мятеж превратится в войну, где Ксуф задержится надолго. Может, его даже убьют…
Но надежды эти были напрасны. Ксуф вернулся, разбив мятежников. Правда, скорее всего, громким словом "мятеж" был объявлен разбойничий набег на торговые стоянки. А Ксуф соскучился по воинским потехам и бранным победам. Это горячило его кровь сильнее, чем развлечения с женщинами. Поэтому, заслышав о беспорядках в долине Корис, он без колебаний кинулся туда, отложив встречу с нареченной.
Теперь он возвращался с победой. Головы зарубленных мятежников несли перед ним на копьях, а уцелевших злодеев гнали, как баранов за царской колесницей, дабы в зависимости от настроения Ксуфа, казнить их, либо бросить в темницу, чтобы царь мог распоряжаться их жизнями.
Далла не увидела этого замечательного зрелища. Не только потому, что окна ее нового жилища выходили на задний хозяйственный двор. Но при вести о возвращении Ксуфа она снова впала в прострацию, утратив способность повелевать своей волей и желаниями. Служанки, над которыми Бероя взяла такую же власть, как в Маоне, купали, умащали и наряжали ее, как большую куклу.
Удивительно, но ни беды последних месяцев, ни пролитые слезы, ни утомительный переезд в столицу, не нанесли вреда красоте Даллы. Она лишь стала более утонченной по сравнению с теми временами, когда казалась воплощением гармоничного покоя.
В храм, к свадебному обряду, новобрачную, даже если это была не юная девушка, а вдова, должны были сопровождать мать или любая старшая родственница. Однако единственными родственницами Даллы в Зимране и его окрестностях были сестры Регема, с которым Далла состояла в дальнем родстве. Приглашать кого-нибудь из них в данном случае было бы совсем неблагопристойно. Но не менее дурно было бы, если бы Даллу сопровождали только служанки.
Рамессу разрешил эту проблему. В покоях дворца появилась невысокая полная женщина в летах. У нее были голубые глаза, вздернутый нос и крепкий подбородок. Она отрекомендовалась помощницей Фратагуны, верховной жрицы Мелиты Зимрана, и заявила, что будет замещать отсутствующую родственницу. Далла выслушала ее безучастно. Бероя следила за жрицей ревнивым взором, но помалкивала. Зато жрица ( Далла так и не запомнила ее имени) болтала не умолкая. Она наставляла Даллу относительно соблюдения обрядов, временами спохватываясь, что дочь князя Маонского знает о Мелите не понаслышке, и тут же забывая об этом. Рассказывала, что в прежние времена царицы, перед тем, как вступить в брак, должны были трое суток проводить в крипте храма, в молитвах и строгом посте. Но Мелита не так сурова, как Никкаль. Она хочет, чтоб женщины шли у венцу крепкими и бодрыми не только духом, но и телом. Мелита – дарительница наслаждений, а какие же наслаждения на пустой желудок?
Далла плохо разбиралась в старинных обычаях, но сейчас она бы предпочла соблюсти пост. Потому что при мысли о наслаждениях на ложе Ксуфа ее начинало мутить.
Ее облачили в два платья: нижнее – розовое, с длинными распашными рукавами, и верхнее лиловое, без рукавов, вышитое жемчугом. Обули в туфли из золотой кожи. Только кожа и была позолочена, прочее золото было чеканным, литым и кованным, и представлено в изобилии. Пояс, ожерелья, цепочки, запястья и витые браслеты, перстни на каждый палец, длинные серьги, – к счастью для Даллы, в Зимране отказались еще от одного старинного обычая – вдевать драгоценные кольца также и в нос, считая это безобразным. Ее белокурые волосы убрали в высокую прическу и оплели нитками жемчуга и кораллов. Никогда еще Далле не приходилось носить столько драгоценностей сразу, хотя дом Тахаша был известен своим богатством. Но воистину это богатство было бедностью в сравнении с царским роскошеством. Свадебный наряд хрустел, звенел и переливался при каждом шаге. Весил он тоже немало, и если бы Далле пришлось идти до храма пешком, она, наверное, упала бы в изнеможении. Но об этом не было и речи. Набросив на Даллу длинное прозрачное покрывало шафранного цвета, жрица и Рамессу подхватили ее под руки и вывели по лестнице вниз, где уже поджидали носилки.
Носилки были не те, в которых Далла прибыла в Зимран. гораздо более роскошные и просторные, хотя влечь их полагалось не лошадям, а людям. Рамессу и жрица поместились вместе с Даллой в носилки. Бероя осталась снаружи, возглавив свиту рабынь, которая также должна была сопровождать царицу. Носильщики рывком подняли свою ношу, и процессия двинулась по улицам Зимрана.
Далла плохо запомнила этот путь. Болтливая служительница Мелиты все время нашептывала ей на ухо какие-то скабрезные истории (этого тоже требовал обычай), но они не раздражали Даллу, потому что плохо доходили до ее сознания, так же, как пение и музыка, доносившиеся снаружи. Рамессу, в противовес жрице, не произносил ни слова. В носилках было очень тесно и душно. Благовония, которыми щедро умастили тело и волосы Даллы, смешавшись с потом, почти клубились в воздухе. Затем в глаза ударил яркий солнечный свет, и Далла зажмурилась. Это откинули полог носилок. Они прибыли.
Хотя большинство строений в Зимране, во всяком случае, в аристократических кварталах столицы, были белыми, стройными и праздничными, храм Мелиты производил если не мрачное, то суровое впечатление. Он был построен задолго до прихода завоевателей и некогда был посвящен Никкаль. С тех пор многое изменилось и во внешнем, и во внутреннем убранстве храма. Поскольку здешняя Никкаль была богиней битвы и охоты, а шлемоблещущий Кемош-Ларан не терпел соперничества. О прежних временах напоминали сохранившиеся фризы с изображением львиц: спящих, бегущих, дерущихся, терзающих добычу, и приземистые, мощные колонны.
Это увидела Далла, выйдя из носилок. И тут же забыла. Если бы ее не поддерживали под локти, она бы пошатнулась – такая слабость охватила ее. К храму приближалась колесница Ксуфа.
Это была та же колесница, украшенная золотом, что Далла видела на погребении Иорама. И одежда на Ксуфе была та же алая и пурпурная. Лучше б ей никогда не появляться на похоронах… Она предстала перед смертью, и смерть увидела ее.
Но в глазах толпы, собравшейся на площади, они выглядели великолепно – в ярких нарядах, усыпанные драгоценностями, сверкающие золотом.
У простонародья, даже в столице, не так много развлечений, и почему бы не порадоваться царской свадьбе от всего сердца? Когда Ксуф спрыгнул с колесницы, зрители разразились восторженным ревом и замахали яблоневыми ветками, увитыми плющом.
Ксуф повернулся к Далле, победоносно улыбнулся, хотя вряд ли мог видеть, как она напугана, из-за покрывала, скрывавшего ее лицо. Его же собственное лицо… Далла не вглядывалась в него внимательно при двух прежних встречах, и успела подзабыть, как выглядит Ксуф. Помнила лишь, что он ей не понравился.
Он не был уродлив. Даже и особенно некрасивым нельзя было его назвать. Встречаются люди с гораздо более отталкивающей внешностью.
Крупное, мясистое, под стать фигуре лицо, покрытое красноватым загаром. Прямой нос с утолщением на конце. Водянисто-серые глаза, утопленные между выцветшими ресницами и набрякшими веками. Выпяченные губы, крепкие зубы, способные перемолоть берцовую кость. На голове – царская диадема. Точно – бывает хуже. Но было в нем нечто, внушавшее Далле непреодолимый ужас.
Ксуф не дотронулся до нее и даже не подошел. Деликатность тут была не при чем – так полагалось. Они должны были войти в храм в разные двери и встретиться уже внутри.
Спутники Даллы, подтолкнув, повлекли ее по лестнице. Она переставляла ноги, не сопротивляясь. Подол длинного платья волочился по ступеням.
В храме пылало множество светильников, и свет их отражался в золоте, полированном камне и горном хрустале, а также в пластинках слюды, которые так часто служили в Зимране для украшения дворцов и святилищ. Так что внутри глаза слепило не меньше, чем снаружи. Посреди этого сияния возвышалась статуя Мелиты. Далла устремила взгляд к своей божественной покровительнице, ища утешения. Напрасно.
Зимранская Мелита была гораздо старше своей сестры в Маоне, и в ней не было привычных Далле изящества и прелести. Изваяние представляло богиню сидящей. На ней была широкая длинная юбка. Выше пояса она была обнажена. Высокую прическу венчали изогнутые коровьи рога – так иногда изображали Никкаль. Зимранская Мелита переняла этот атрибут Госпожи Луны, который нынешние ваятели, почитавшие Мелиту, избегали повторять. У богини были пышные шарообразные груди и широкие бедра. Руки ее покоились на коленях. Статуя была довольно грубой работы, и раскрашена яркими, резкими красками, что производило несколько пугающее впечатление. И она была такой большой, что не сразу замечались две человеческие фигурки у ее подножия. Спинки кресел, в которых они сидели, не доставали до каменных колен богини.
Спутники Даллы отпустили ее, и она медленно пошла к верховной жрице и жрецу Мелиты.
В каждом городе, где почиталась Мелита, верховная жрица храма была самой заметной фигурой культа. Без ее участия нельзя было провести ни одного важного обряда или жертвоприношения. Жрец был гораздо менее на виду, о нем редко говорили в городе, однако он ведал казной храма и прочими материальными вопросами, которые не должны были отвлекать его соратницу от служения. Далле полагалось знать это еще по Маону, но она исполняла свой религиозный долг, не задумываясь об его основах.
Жрица никогда не могла быть слишком юной – для того, чтобы достичь этого ранга, требовалось пройти определенный период ученичества. и три степени посвящения. Но она не должна быть и чересчур старой для того, чтобы исполнять обряд священного брака. Поэтому верховная жрица была, как правило, не моложе двадцати пяти лет и не старше сорока пяти. Потом она отправлялась в отставку, "ткать покровы для богини" (кстати, в прежние времена это была не метафора). Случай в Маоне, во младенчестве Даллы, когда жрица оказалась глубокой старухой, был исключением, следствием небрежности, с которой в те года на родине Даллы относились к культу Мелиты. Что касается возраста жреца, то здесь об ограничениях не было слышно.
Священнослужители встали навстречу Далле, и она увидела, что верховная жрица Фратагуна как нельзя более соответствует своему сану: это была высокая, стройная, очень красивая женщина, синеглазая, с темно-русыми волосами, лет тридцати пяти. Ее можно было счесть и моложе, если бы не предательские морщинки у глаз и в углах рта. Драгоценностей и золота на ней было меньше, чем на Далле – только спиралевидные браслеты на обнаженных руках, и такой же формы серьги. Однако плащ, накинутый поверх жреческого платья, был покрыт таким дорогим шитьем, что мог сравниться с брачным нарядом царицы.
Столь же дорогой плащ был и на плечах жреца. А сам жрец удивил бы Даллу, если бы в этот миг она сохраняла способность удивляться. Да, о возрастных ограничениях для жреца ничего не было слышно, но само собой подразумевалось, что тот должен быть мужчиной. А рядом с Фратагуной стоял скорее мальчик. Он показался Далле ровесником ее племянника Бихри. Только был более тонким и хрупким, чем Бихри, с нежным, почти девическим лицом и большими карими глазами.
Фратагуна шагнула вперед, обняла Даллу и троекратно расцеловала – в обе щеки и в лоб. Ее губы были сухими и горячими. Затем взяла Даллу за правую руку и осторожно развернула так, что Далла оказалась между ней и юным жрецом.
Потом прогретый воздух храма словно бы дрогнул от множества голосов. Когда Далла шла к алтарю, она не замечала, что в зале, кроме тех, кого она видела у подножия статуи, находятся еще люди. Теперь они выступили разом – из-за колонн, из-за статуи, из-за жертвенников. Младшие жрицы, танцовщицы и певицы Мелиты. И все они слаженно грянули свадебный гимн.
Из бокового придела вышел Ксуф со свитой.
Девы Мелиты призваны были услаждать мужчин, но сама Мелита была богиней женщин, и внимала только их призывам. Если мужчина хотел получить что-либо от Мелиты, он обязан был обратиться к посредничеству жрицы. Его собственная жертва не была бы принята. Доброхотное даяние, коим куплено посредничество – другое дело.
Все это имело непосредственное отношение к тому, что должно было произойти сейчас. Каждая красивая женщина принадлежала Мелите – или так считалось. Но относительно Даллы, любимицы богини, отмеченной ее чудесным прикосновением, никаких сомнений быть не могло. И тот, кто собирался взять ее в жены, получал ее из рук жрицы, заплатив ей выкуп. В этом и состоял свадебный обряд, Далла уже проходила через него больше пяти лет назад, но странно – он ничуть ей не запомнился, как будто являлся мелкой формальностью в сравнении с веселым праздником и щедрым пиршеством, устроенным во дворце князем Тахашем. И сейчас Далла воспринимала все словно впервые.
Вслед за Ксуфом шествовали его придворные. Некоторых Далла смутно узнавала – она видела их в тот злосчастный день, когда они посетили дом Иорама. А Криоса, стоявшего ближайшим к царю, она и хотела бы – не могла забыть. Однако были и те, кого она видела впервые. Один из них, плешивый, но, в отличие от Рамессу, обладавший негустой бородой, держал в руках большое серебряное блюдо, заполненное до краев золотыми женскими украшениями, наподобие тех, что украшали наряд Даллы. В чем ином, а в скупости Ксуфа нельзя было обвинить. За его спиной стоял человек, который не принадлежал к числу придворных, но лицо его было Далле смутно знакомо.
Хор оборвал пение. Далла почувствовала, что Фратагуна отпустила ее руку.
– Желаешь ли ты, государь, принять эту женщину в законные жены? – звучным голосом спросила жрица.
Ксуф, ухмыльнувшись, огладил бороду.
– Да, я этого желаю. И отдаю за нее выкуп, достойный царя
По его знаку блюдо передали Рамессу, а тот подал его Фратагуне. Та подержала блюдо в руках, словно бы взвешивая и оценивая, а затем протянула товарищу по служению. На его лице появилось несколько растерянное выражение, словно он не был уверен, что удержит в руках такую тяжесть. Но выкуп он принял. Теперь никто не поддерживал Даллу. Впрочем, Фратагуна тут же снова взяла ее за руку. Далла инстинктивно схватилась за ее ладонь. И ощутила слабое ответное пожатие. Но это было единственное выражение сочувствия, какое могла позволить себе жрица.
– Тогда я, именем госпожи моей Мелиты, отдаю тебе, Ксуф, владыка Зимрана, эту женщину в жены, чтобы ты сделал ее плодовитой!
– Ты хорошо сказала, жрица Мелиты! Если эта жена не будет бесплодной, как прежние, и родит мне сыновей, я щедро отблагодарю богиню и твой храм!
По всей вероятности, это замечание Ксуфа не входило в установленный ритуал. Гладкая щека Фратагуны чуть дернулась от сдерживаемого раздражения. Но Далла уже не увидела этого. Ее руку переложили в лапу Ксуфа. Царь заключил новобрачную в объятия, откинул покрывало с лица и поцеловал.
Нет, она не упала в обморок, не отшатнулась, и даже не вскрикнула. Дыхание перехватило. Этот запах… Ксуф, несомненно, побывал в бане перед свадьбой, жители Нира, и коренные, и пришлые вообще отличались чистоплотностью, и правитель их вряд ли составлял исключение. Но пахнуло от него чем-то таким, от чего Даллу едва не замутило.
Дальше все было как в тумане. Ксуф опять кричал, хор опять пел. Ее вывели из храма. Толпа на площади вопила приветствия. Царские слуги швыряли из корзин пироги и фрукты.
Даллу снова усадили в носилки. Рамессу и жрицы там больше не было, зато была Бероя. Далла, всхлипнув, прижалась к ней и уронила голову на плечо. Нянька крепко обняла ее и стала гладить по волосам. Так, вдвоем, они вернулись во дворец.
Ксуф тоже вернулся. Но во дворце готовили пир. Пир буйный, веселый и пьяный. То есть такой, на котором нельзя показаться достойной женщине. Даллу отвели в спальню, где рабыни освободили ее от многочисленных украшений, сняли платье и обувь и переодели в тонкую рубашку. После чего ее покинули все, кроме Берои. Как в ту ночь, когда их доставили во дворец, нянька уселась на край постели, и Далла ухватила ее за руку. Она не цеплялась за няньку после первой своей свадьбы, когда была невинной девушкой, и понятия не имела, что ее ждет… Сейчас она жалела, что не согласилась на предложение Берои убить Ксуфа. И одновременно не находила в себе сил приказать Берое сделать это.
Однако всякое напряжение имеет пределы, а страх изматывает больше физических усилий. Проходили часы, Ксуф не появлялся, и Далла незаметно для себя задремала. В какой-то миг сквозь сон ей показалось, что она слышит шаги, и Далла в ужасе подскочила в постели. Она действительно различила в полумраке темную фигуру, и замахала руками, ища Берою, чтоб спрятаться за ней. Но она была в постели одна, и Бероя как раз входила в комнату.
– Не бойся, доченька, – ласково сказала она. – Сегодня он не придет. Он так упился на пиру, что… Неважно. Спи.
Но и утром Ксуф не появился. Может, страдал с похмелья, может, продолжал пировать. Это Даллу не волновало. Она понемногу начала отходить от пережитого вчера ужаса. Позволила себе даже лелеять надежду, что Ксуф заявится не скоро. Регем никогда не пренебрегал супружескими обязанностями. Но от подруг в Маоне Далла то и дело слышала, что мужья оставляют их ночевать в одиночестве, отдавая предпочтение наложницам, пирам, охоте и азартным играм. Вдруг и Ксуф такой же? Вот было бы счастье!
А может, он вообще женился на ней только из-за того, чтобы обезопасить свой престол? Если предсказано, что Далла должна быть царицей, то муж ее, следовательно, должен быть царем. И чтобы никто не посягал под этим предлогом на власть, Далла должна выйти замуж за правящего царя. И стоило ей овдоветь, как Ксуф незамедлительно воспользовался удобным случаем. А сама она царю без этого предсказания вовсе не нужна, ему хватает и наложниц.
Соображение это показалось Далле очень убедительным. Настолько, что она почти повеселела. Позволила умыть себя и одеть. Почувствовала, что проголодалась. Перекусила, и уселась с ногами на постель. Заняться ей было нечем, рукоделием в Зимране она обзавестись не успела, а спрашивать, что осталось от запасов Гиперохи, ей не хотелось. Поэтому она просто сидела, тихонько напевая маонскую песенку.
Мой возлюбленный видит в саду румяное яблоко.
Что за сладкое яблоко! Но сад стерегут сторожа…
Дворцовая рабыня, шустрая девушка с зеркально-черными волосами, поклонившись сообщила, что высокородная Фарида просит госпожу царицу принять ее. Это означало, что предписанное обычаем затворничество закончилось, и Далле разрешалось встречаться с дамами ее круга. Она ответила, что с радостью примет госпожу Фариду, и радость эта не была притворной.
Так – с приветственной улыбкой она шагнула навстречу прежней золовке, и тут же отступила назад, потрясенная выражением яростной злобы ее глазах. Далла не могла даже представить, что благородная Фарида способна на подобные чувства.
– Веселишься? – прошипела она. – Я слышала, как ты распеваешь… Добилась своего!
– О чем ты? – недоуменно прошептала Далла.
– Царица! – голос Фариды звенел от ненависти. – Когда ты только успела сговориться с ним… мой брат был великодушен, его легко было обмануть. Славная пара! Убийцы! Он придушил жену, а ты избавилась от мужа.
До Даллы с трудом дошел смысл услышанного.
– Что ты говоришь… – беспомощно произнесла она. – Какое убийство? Регем погиб случайно…
– Не притворяйся большей дурой, чем есть! Случайно! Мой брат с младенчества учился править конями, он бы не разбился, если б не было умысла! Только те, кто обещал избавить тебя от мужа, не сказали, что прикончат заодно и сына! Или ты сама согласилась на это?
Безумные, дикие, невозможные обвинения хлестали ее, как удары. Она хотела крикнуть, что Фарида не смеет обвинять ее в таком ужасном преступлении. но слова почему-то не шли с ее губ. И почему-то перед ее внутренним взором возник облик человека, который стоял вчера позади Ксуфа. Это был Булис. пророк Кемоша, который отправил Регема и Катана к оракулу…
Бероя, вышагнувшая из-за занавески, готова была броситься на Фариду, если та решится и в самом деле ударить Даллу. Но Фарида не двигалась.
– Или ты и впрямь не догадывалась ни о чем? Тогда ты дура, какой еще не видывали в Нире, слепая и глухая дура. Я рада, что мне не надо больше видеться с тобой. Надеюсь, Ксуф прикончит тебя так же, как бедную Гипероху.
Не дожидаясь ответа, Фарида развернулась и покинула женские покои. Никто ее не удерживал. Бероя бросилась к своей воспитаннице и подхватила ее, иначе бы та, возможно, упала. Подвела ее к постели и усадила.
– Няня, – пустым голосом спросила Далла. – Это правда, что она сказала… про… – она не могла выговорить слова "убийство".
– Не знаю, доченька. – Бероя говорила почти шепотом. – Ничего не знаю.
– Это правда. И это все из-за меня… – Внезапно Далла закричала: – Зачем ты отнесла меня в храм, зачем молилась? Для чего меня коснулась Мелита? Лучше бы я осталась безобразной, тогда бы ничего этого не было! – Она с размаху ударила себя кулаком по лицу, так что из носа пошла кровь. Бероя перехватила ее руку, но Далла продолжала кричать: – Будь она проклята, красота! Будь проклято чудо!
ДАРДА
Слава к Паучихе из Каафа пришла не сразу. Она и не торопила ее, эту славу. Она умела ждать. Кстати, Паучихой она назвала себя сама. И впоследствии некоторые умники видели в этом прозвище выражение не только уродства, но и редкостного терпения, дающего силу таиться, плести паутину и ждать, пока противник в ней запутается, чтобы беспрепятственно вонзить свое жало!
Но до этого было еще далеко. В город Кааф вошла девочка-подросток, способная обратить на себя внимание разве что безобразием. Да и то не слишком. Ибо на улицах и площадях Каафа было полно уродов и калек, среди которых Дарда совершенно терялась. Собственная незаметность стала для Дарды великим открытием, а впоследствии на годы убежищем и оружием. А пока что она использовала это новое для себя положение, чтобы понять, куда же она попала.
Кааф был первым городом, куда она попала, и окажись он иным, трудно предсказать, как сложилась бы ее дальнейшая судьба. Но Кааф был именно таким, каким должен быть – город среди пустыни и вблизи границы, город-перекресток, город-торжище. Считался он царским, но между Каафом и Зимраном можно было найти очень мало сходства, да и то при усилии. Наместник Каафа именовался князем, и, хотя не принадлежал к родовой знати, но в силу удаленности от Зимрана был скорее самостоятельным правителем, чем царским слугой.
В Каафе Кемош-Ларану не удалось потеснить Хаддада. И не потому, что здешние жители были так уж склонны цепляться за старые традиции, как, например, в Маоне. Просто в пустыне люди слишком зависели от солнца, ветров и редких дождей, чтобы заменить Небесного Владыку богом шлемоблещущих воинов. Хаддад пользовался в Каафе большим почитанием, но и Мелита тоже была здесь в силе. Ее храм из розового мрамора был в городе среди самых больших и роскошных, а девушки-служительницы славились равно и красотой, и искусностью в пении и танцах, и изощренностью в любовных ласках. Путники, попадавшие в Кааф по караванным дорогам, и горожане спешили в святилище Мелиты, дабы усладить слух и зрение чудными игрищами, музыкой и плясками, а тело – любовью. Последнее, впрочем, было доступно не всем и не всегда. Жрицы Мелиты не взимали платы за любовь, ибо это поставило бы служение богине на одну ступень с пошлым блудом. Но обычай предполагал, что паломник, пожелавший соединиться с богиней через посредство ее служительницы, должен сделать подарок храму. Разумеется, дело это было сугубо добровольное. Однако Мелита, богиня женщин, прощала все, что угодно, кроме пренебрежения к своей особе. И, не получив подарка, или сочтя его недостаточно щедрым, могла обидеться. А обидевшись, карала оскорбителя, наслав на него трясучку, жар, слабость в ногах, а то и вовсе лишая мужской силы. Такие случаи были хорошо известны. Поэтому храм процветал, а прихожане его, независимо от сословия или племени, были по большей части люди состоятельные. Но не только. Мелита – богиня капризная, однако ее не зря именуют милостивой. Она знает, что любви покорны все, не только богачи, и все должны соблюдать ее законы. И каждая, в свой черед, служительница Мелиты выходила на паперть храма, обвязав голову грубой веревкой, в знак покорности власти Мелиты – сидеть и ждать любого, кто потянет за конец веревки и уведет ее за собой. Кто бы это ни был – нищий, калека, прокаженный – отказывать она не имела права. И уходить, прежде чем исполнить свой долг – тоже. Но они там никогда не засиживались. Не то что в иных городах, где жрицы были столь некрасивы, либо жители столь нерадивы, что девушкам месяцами приходилось ждать возможности доказать верность богине.
Да, Мелита была сильна в Каафе, но не единодержавна. Купцы, погонщики ослов и верблюдов, наемники, бродячие сказители и певцы – все они приносили с собой свои верования, и ни одно из них не казалось в Каафе слишком нелепым или страшным и каждое имело шанс укорениться.
По узким улицам теснились пестрые процессии, ведя на заклание жертвенных животных, украшенных венками и ожерельями, ухали барабаны, свистели костяные флейты, гадальщики всех мастей, тесня друг друга, хватали прохожих за полы одежд, со ступеней храмов вещали взлохмаченные прорицатели, выкрикивая пророчества – заманчивые и обольстительные.
Многие боги и богини имели в Каафе свои алтари, и огонь в них не угасал, но более всех здесь чтили одну богиню. Дарда увидела ее в первый день пребывания в городе, когда, выйдя на шумящую площадь, оказалась перед мощным зданием из серого гранита. Фасад его украшал барельеф, изображавший крылатую женщину, окруженную птицами и змеями. В правой руке она сжимала меч, изогнутый подобно серпу луны.
Это была Никкаль. Но не та Никкаль, которую Дарда знала в Илайском краю – покровительница полей и домашнего скота, богиня плодородия. В Каафе она являла иной облик, и горожане поклонялись ему от всего сердца. Ибо Госпожа Луны благосклонна ко всем ночным занятиям, а когда же происходят, по большей части, кражи, ограбления и убийства, как не ночью?
Сказать, что в Каафе эти ремесла процветали – ничего не сказать. И были они ремеслами, то есть занятиями, почти узаконенными, уж во всяком случае, не позорными. При том, что наказания за них полагались самые строгие – от отсечения руки до снятия кожи. Но тот, кто играл по установленным в Каафе правилам, мог надеяться сохранить и руки и ноги, и кожу и голову, если не в целости, то хотя бы в наличии. Главное правило было – "Ты мне, я – тебе". Большинство сообществ попрошаек, воров и грабителей в Каафе состояло из мелюзги, группировавшейся возле нескольких сильных вожаков. Им уходила значительная часть выручки, добываемой остальными. Вожаки платили дань городской страже. И не только ей. Свой процент имел Иммер, князь города, чего и не скрывал. Плата отдавалась в обмен на покровительство, предупреждение об опасности, защиту от закона. Такое положение дел казалось естественным, слово "бескорыстие" заставило бы жителя Каафа корчиться от смеха. Самодеятельность не приветствовалась, нарушения иерархии карались. Хотя Дарда, попав в город, еще не знала об этом, но все же догадывалась, иначе не предприняла бы мер, дабы ничем не выделяться из толпы малолетних воришек, заполнявших улицы Каафа. А она бы непременно выделялась – со всей своей добычей. Но к воротам Каафа Дарда подъехала не на том замечательном жеребце, на котором уехала с места убийства. Она его обменяла. То есть выкрала коня из табуна, самого невзрачного, а взамен оставила своего, привязав, вдобавок, к седлу меч. С ее точки зрения она поступила более чем честно. Коня она продала в городе, на рынке, а одежду – в одной из лавок. Если конь вряд ли мог сойти за краденого (да и не был таким), то про одежду всяк догадался бы, что она похищена. Но ворованная одежда вполне соответствовало тому месту в воровской иерархии Каафа, каковое отводил Дарде обычай. Она не возражала. И как раз из этих денег выплатила первый взнос в воровскую казну. О том, что у нее есть золото, никто не догадывался, а она распространяться не собиралась. Таскать при себе кошелек постоянно также было невозможно, и помимо угла для жилья – точнее было бы назвать его норой, – Дарда не преминула обзавестись личным тайником. Кроме денег там еще лежал клочок папируса, найденный ей у покойника. Почему Дарда не выбросила его, она не могла бы сказать. Деньги она не собиралась тратить, хотя бы первое время. Зачем? Выделяться из толпы до поры до времени она не хотела. В воровских кварталах терпимей, чем в деревне, относились к ее наружности, но амбиции, не подкрепленные властью, были бы самоубийственны. Что ж, она согласна была ждать, совершенствуясь в искусстве быть незаметной. Это оказалось легче, чем она предполагала вначале. Хотя и требовало определенных усилий. Дарда была сильней, проворней, выносливей большинства своих сверстниц и многих сверстников, но знаний у нее было меньше, чем у них, даже тех, кто приходил в город из деревень и пустынных становищ. Единственное, чему ее целенаправленно учили – это драться. Однако выгодой положения Дарды было то, что она сознавала свое невежество, и готова была учиться. Учиться всему, наблюдать, упражняться. Внешность ее, мягко говоря, бросалась в глаза, однако Дарда вскоре поняла, что при умении переодеваться можно преобразить любую фигуру. Этому помогали своеобразные местные обычаи, касавшиеся носильного платья. В одних краях юбка в качестве одежды однозначно была присвоена женщинам, а штаны – мужчинам, в других – наоборот. В Каафе такого единообразия не было. И женщины и мужчины могли рядиться в длиннополые платья, и в короткие юбки или рубахи, и в широкие шаровары, и в узкие штаны. Никакие законы этого не возбраняли. Ходи хоть нагишом, если тебе охота. И если не ходили – или ходили не так уж часто, то не по причине стыдливости, а из-за жары, ветра и пыли. А то, что носит человек – свободную или узкую, коротенькую или длинную, высоко или низко подпоясанную одежду, способно изменить сложение до неузнаваемости. С лицом своим она ничего поделать не могла, но опять таки многоплеменность обитателей города и его климат приводили к тому, что по разным причинам люди могли появляться с закрытыми лицами. Дарда научилась использовать это к своей выгоде. Те, среди которых она теперь жила, конечно, заметили ее возросшее мастерство – и одобрили. И все. Замечать прочее она не позволяла. Никто не должен был знать, что безобразная девчонка способна на нечто большее, чем ловко срезать кошелек или стащить тюк с товаром из повозки торговца. Она никому не говорила, что ей уже приходилось убивать. Да и вообще она говорила мало. Ее скрытность принимают за робость – тем лучше. Так удобнее. Никто не станет ею интересоваться. Особенно тщательно на этих порах Дарда скрывала владение искусством боя. И в то же время она сознавала, что если не будет регулярно упражняться, то утратит и те навыки, что имела. И далеко не каждую ночь рыскала она за добычей. Даже в таком людском муравейнике, как Кааф, при желании можно было отыскать пустыри, или заброшенные дома с дурной славой. Там Дарда оттачивала свое мастерство. Иногда, если ей нужен был простор, она выбиралась за городские стены. Туда она брала с собой посох, с которым не могла бродить днем по городским улицам. Ибо упражнения с посохом удавались и нравились ей больше всего. Но этим нельзя было ограничиваться. Она изыскивала приемы, пригодные для борьбы без оружия – сказать "голыми руками" было бы не совсем точно. И когда миновало уже больше года ее жизни в Каафе и подобных упражнений, решилась взять в руки меч. Не такой, что она однажды заполучила во владение, а потом без сожаления от него избавилась. Этот она добыла, неузнанной вмешавшись в ночную стычку между городскими стражниками и шайкой бродяг. Дарде неведомо было, из чьей руки он выпал, но вряд ли бы прежний владелец узнал его. Такие мечи были распространены по всему царству – с прямым, сравнительно коротким клинком, в соответствии с исконно нирской традицией. А этот вдобавок был еще не лучшей работы: бронза с изрядной примесью олова, деревянная рукоятка обмотана потертым кожаным ремешком.
Упражнения с мечом шли тяжело, но Дарда не оставляла их. Меч, однако, на практике она еще не применяла. В отличие от посоха. Он помогал и при тех редких нападениях, что она совершала, и при ограблениях, совершенно отличных от дневных покраж. Она научилась, отталкиваясь посохом, взбираться на высокие отвесные стены, вскакивать на крыши, не хуже чем на скалы у себя на родине. Совершала она это все не только ради практики. Хотелось есть. Дарда все еще росла, тянулась вверх, как сорняк, и силы, расстрачиваемые в упражнениях, надо было восполнять.
При всем том она оставалась незаметной – и уже привычной участницей здешнего преступного сообщества. И постепенно проникая в его тайны, Дарда начинала сознавать, какова истинная власть храма Никкаль. Под сенью крыл Ночной Госпожи вершились дела, от которых во многом зависело спокойствие города. Общеизвестно было, что храм принимает на сохранение состояние любого гражданина, который по каким-либо причинам не может оставить его под собственной крышей, либо покидает Кааф. Собственно, были и частные хранилища, но владельцы их брали за услуги процент больший, чем храмовый, и, вдобавок, не могли похвастаться такими мощными стенами, как святилище Госпожи Луны. Однако в храме хранились и общие деньги любой уважающей себя шайки. Соперничащие вожаки собирались на территории храма для разрешения спорных вопросов, там же при необходимости они встречались с представителями городских властей, не исключая князя Иммера. Не будь храма, Кааф захлестнула бы война междоусобиц, и город погряз бы в бессмысленной резне.
Арбитром и посредником в этих запутанных делах была мать Теменун, верховная жрица. Этой женщине и предстояло стать новой наставницей Дарды.
Дарда не искала ее покровительства. Но храм привлекал ее. Она нередко задерживалась на площади, глядя на крылатую женщину с мечом. Никкаль была красива, а Дарда безобразна. Но Никкаль была красива по-иному, чем Мелита. Она была в первую очередь сильной. И совы с гадами, изображенные рядом с Никкаль на барельефе, свидетельствовали о том, что не только прекрасным созданиям дозволено приблизиться к богине.
Прошло, однако, много месяцев, прежде чем Дарда решилась переступить порог храма. Слишком свежо было воспоминание о том, как ее гнали от сельского святилища в Илайском краю.
Но к Никкаль Каафа шли и уродливые, и красивые, и здоровые, и увечные, и молоды, и старые. В конце концов пришла туда и Дарда. Она не молилась, она не участвовала в церемониях. Она наблюдала.

