Звонок в пустую квартиру Штемлер Илья
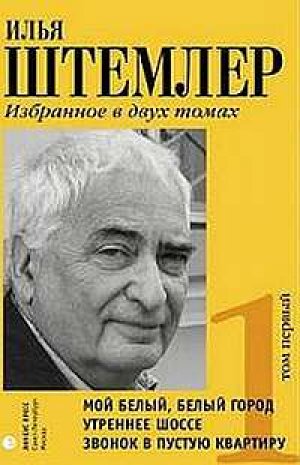
— И возвращайтесь, — обрадовалась Галя. — Потом свяжетесь с нами… А вот и Ефремов. Отдайте ему пьесу, он у нас главный… Олег!
Идущий мимо высокий, худой молодой человек, казалось, переставлял лапки циркуля своими длинными ногами.
— Репетиции сегодня не будет. Меня вызывают в министерство, — громко проговорил он на ходу.
Аудитория радостно зааплодировала и поднялась со своих мест.
— Олег! — окликнула Галя. — Вот пьеса. Это автор. Он приезжий, из какой-то там экспедиции.
— Прекрасно! — воскликнул Ефремов — Давай сюда пьесу. — Он тепло и дружески взглянул на меня. — А кто читал? Кваша? Он же у нас завлит.
— Здрасьте! — ответил с другого конца зала стройный симпатяга с гладко зачесанной темной шевелюрой. — Завлит ведь Сергачев.
— А где Сергачев? — Ефремов держал пьесу на весу.
— Сергачев сегодня ушел пораньше, — ответил кто-то. — У него номерок к зубному.
— Здрасьте! — вскричал Ефремов. — А если бы репетиция?! Да ладно. — Он сунул пьесу под мышку. — Я поехал в министерство.
Мы шли по улице Горького. Я и мои новые знакомые — Игорь Кваша, Олег Табаков со своей крохотной женой, актрисой театра, и Левка Круглый. Я травил анекдоты, рассказывал геологические байки и, кажется, всем надоел. Правда, Кваша пригласил меня в гости; он жил неподалеку от театра, на улице Немировича-Данченко, в большой красивой квартире… Пьесу мою так и не приняли. У меня тогда сложилось подозрение, что ее просто потеряли, не прочитав. Нудеть, прояснять положение мне не хотелось, боялся показаться сквалыгой. И перед Ефремовым робел. Итогом поездки в Москву стала дружба с некоторыми из актеров, которых я несколько дней укорял своим унылым видом. Мы стали на равных: кто-то посвящал меня в какие-то тайны, кто-то — в закулисные ходы. Я не вникал, просто радовался пусть временной, но близости к таким ребятам. И фамилию героя своего романа «Гроссмейстерский балл» я выбрал из доброго отношения к Леве Круглому…
Много лет спустя, во время гастролей в Ленинграде, ко мне в гости пришли Галя Волчек с Костей Райкиным. Мы долго сидели, чем-то угощались. Память, как в калейдоскопе, собирала минувшее. В общем разговоре всплыл и мотив, по которому моя пьеса была тогда отклонена. В журнале «Юность» напечатали повесть Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды». Как это нередко случается, пафос повести чем-то перекликался с моей пьесой. И театр решил инсценировать уже апробированную читателем вещь. И действительно — выиграл. Спектакль «Продолжение легенды» вошел в золотой фонд «Современника». Кстати, именно в тот вечер, у меня в гостях, Галя по радио узнала о присуждении Государственной премии ее отцу, кинооператору, и позвонила, поздравила…
Пора зимних камеральных работ имела свою прелесть. Съезжались друзья-коллеги со своими летними полевыми историями и в ожидании прибавки к скудной зарплате за вечерними посиделками перемывали кости начальству. Я же особенно ждал зимнее время — появлялась возможность пожить по-человечески. Зимой выбирались в отпуск мои семейные приятели — Витя и Юля Мануковы, Зора и Володя Левянт, чета Лангборт — уезжали последовательно, сменяя друг друга и доверяя мне охрану своих квартир…
Сюжет первого рассказа, который я написал, мне подкинул оператор сейсмостанции Ян Лапушанский. Забавный был «экземпляр» этот Ян. Родом из Киева, прекрасный специалист, Ян слыл сексуальным гангстером. Казалось, днем и ночью в нем бушевали любовные бури. Высокий, здоровый симпатяга. И даже странная шишка на лбу, которую он охотно представлял всем как «рог», не портила его мужественного большеглазого лица. Женщины были от Яна без ума. Летом, во время полевых работ, в дом, который он снимал, стучались «ходоки в юбках» из ближних и дальних деревень. Приходили в одиночку и целыми группами, как козы на водопой. Зима осложняла жизнь Яна — не в общаге же назначать свидание. Ян «подкатывался» ко мне, я ему сочувствовал и нет-нет да и впускал на площадь, вверенную мне друзьями для присмотра.
Ян считался безотказным кандидатом в трудные и суровые зимние экспедиции, как он говорил: зимние «половые» работы. Тогда и приключилась с ним история, что легла в основу сюжета моего первого рассказа «Разговор с уведомлением». Как-то он вспомнил, что у киевской подружки день рождения, и решил ее поздравить. Заказал по рации переговоры. Время было позднее, студеное, зимнее. Да и почта находилась в тридцати километрах от деревни. Но для Яна не было преград в любви — он поехал в ночь, на своей сейсмостанции. В дороге машина забарахлила, встала. Путь он продолжил пешком. Промерз, вывихнул ногу, а подружка киевская… на переговоры не явилась. Такая вот история. И еще бесхозную сейсмостанцию кто-то раскурочил: снял колеса, унес осциллограф и еще по мелочам.
Рассказ был написан. Еще один мой рассказ, не нужный никакому издателю…
Как-то Шейнин мне сказал, что местный писатель Виктор Григорьевич Чехов собирает материал для сборника рассказов молодых прозаиков. Я позвонил, получил приглашение, пришел. Чехов жил на улице Комсомола в насупленном толстощеком доме-крепости, как и большинство домов в центре Сталинграда. Такое впечатление, что их строили с расчетом на следующую битву. И сам писатель оказался солидным, массивным, большеголовым.
Встретив любезно, угостил чаем. Перелистал рукописи нескольких рассказов, отобрал парочку на пробу, предложил через неделю позвонить.
Ожидание мучительно, ожидание комкает жизнь, затирает краски и приглушает запахи, дни ожидания блеклые и невыразительные, даже любовь в дни ожидания становится пресной… Я позвонил точно в срок. «Писать вы можете, — сказал Чехов во влажное от волнения ухо. — Я отобрал для сборника рассказ „На берегу Лирги“. О заболевшем геологе, который искупался в проруби, чтобы выгнать болезнь и доставить геологическую карту. Жизненно и правдиво. А „Разговор с уведомлением“, история прыткого любовника с несостоявшимися телефонными переговорами — сущий бред…»
Я усмехнулся. Именно рассказ «На берегу Лирги» целиком был придуман. И название реки, и вся история джеклондоновского романтизма. А «Разговор с уведомлением» — реальное похождение Яна Лапушанского. Но удержался, не стал доказывать: еще обидится и выбросит принятый рассказ. К тому же у оппонента был веский довод — можно факт превратить в нелепость и, наоборот, из придуманного сочинить достоверную историю — все зависит от одаренности.
«Мне кажется, сборник будет удачным, — продолжал Виктор Григорьевич. — Есть способные авторы. Вы не знаете Михаила Рощина? Из Москвы. Он прислал в сборник рассказ „Старый каяк“… Вот что: поезжайте в командировку в город Волжский. Недалеко, на том берегу Волги. К годовщине гидроэлектростанции туда приедут многие литераторы. Познакомьтесь. Литератору нужна среда. Может, и очерк напишете. И не робейте — прочтите какой-нибудь рассказ, поведайте о себе. Зайдите в Союз писателей, выпишите командировку, я предупрежу. И работайте. Не ждите вдохновения». — Он повесил трубку.
Вдохновение… Пожалуй, нет более расхожего представления о писателе как о человеке, судьба которого зависит от вдохновения. Но как нельзя при выключенном двигателе надеяться на то, что тебя еще долго будет катить по инерции, так и нельзя в писательском труде всецело полагаться на вдохновение. В процессе работы — именно работы — вдруг высекается эмоциональная искра, дающая описание или природы, или чувств, или поступков, но искра сверкнула и пропала, а сюжет требует дальнейшего развития. Искра может ярко осветить какую-нибудь мысль или образ, а может насытить значительный кусок или даже главу произведения. Или короткий рассказ. Но не повесть, не роман. Для профессионального литератора «пусковым механизмом», скорее, служит не вдохновение, а удивление и, как следствие удивления, любопытство. Казалось бы, самый заурядный случай, мимо которого, не замечая, проходит множество людей, а у литератора он вызывает удивление, пробуждая любопытство, и подчиняет себе все его помыслы. Начинает прослеживаться связанная с этим случаем цепь событий, вытекающих одно из другого. Так разматывается в его воображении сюжет романа, так строится вся работа, при которой — о счастливые мгновения! — вдруг возникает вдохновение. А может, и не возникает. Есть еще один немаловажный фактор, заставляющий не только заниматься литературой, но и вообще толкающий человека в путь по дороге неизведанного. Об этом факторе как-то не принято говорить вслух, он замалчивается и даже яростно отрицается, но… я говорю о зависти. Вот какое чувство подвигает и к труду, и к успеху. Зависть, разогреваемая честолюбием. Зависть говорит: «Смотри, что отчебучил имярек. Ну и везунчик! Ведь и я так думаю, и я так умею, а он, поди же ты, успел. Ну и хват!» И тотчас начинает подзуживать честолюбие: «Но я ничем не хуже него. А если откровенно — я ведь лучше, способнее. А никто об этом не знает. Обидно! Просто задыхаюсь от обиды…»
Город Волжский в те годы выглядел скучно и серо. Как метеорит представляется сколком планеты, так Волжский виделся миниатюрным Сталинградом. Прямые малолюдные улицы, массивные, серьезные, безликие дома. Во Дворце культуры регистрировали приезжих мастеров пера, о чем оповещал красочный указатель. Вручали талоны на питание, принимали заявки на обратный билет, определяли с ночлегом, планировали площадку для выступлений. Мне достался какой-то участок на гидроэлектростанции.
В гостиничном номере, за столом, уставленном бутылками, бутербродами и рваными консервными банками, сидели двое моих компаньонов. Я был смущен, но старался держаться достойно — еще бы, настоящие писатели… Познакомились. Конечно, я о них слышал. Высокий, с ровным затылком спортсмена и гладким зачесом темных волос — Аркадий Адамов, автор известного детектива «Дело пестрых». Второй, столь же представительный, но менее статный, с брюшком и пролысинами — популярный детский писатель Юрий Яковлев.
— Присаживайтесь, коллега, — радушно предложил Адамов. — Водки хватит. Как вас величать?
Я представился. Естественно, мое имя ни о чем им не говорило, но они закивали: «Как же, как же. Слышали».
«Врут, — подумал я. — Кто меня знает, кроме родственников, приятелей и участкового? Врут».
— Вас нахваливал Виктор Григорьевич Чехов, — сказал Адамов. — Мы и предложили нас поселить вместе. А то подошлют какого-нибудь графомана, да еще храпящего. Как у вас жизнь в Сталинграде?
— Да какая жизнь после битвы? Царство теней, — пробормотал я, радуясь покровительству Чехова и соображая, как отблагодарить своих соседей за дружеское расположение. Похвалить их книги? «Дело пестрых» я читал, но подзабыл. Вообще я не поклонник детективного жанра, правда, начинал когда-то, вместе со своим дружком Алешей Айсбергом, с детектива. Первое и главное — интрига должна строиться на психологии героев, а в большинстве наших детективов она строится на сюжете. И еще. Излишняя идеологизированность советских детективов, как правило, предвосхищает развитие сюжета и его финал. А это гибель жанра, вся суть которого в загадке. В свое время в том же театре «Современник» шла пьеса Зака и Кузнецова «Два цвета», где само название предполагало отсутствие полутонов. Правда, «Дело пестрых» своим названием смешивало краски, но суть оставалась та же — идеологическая назидательность. Интрига важна в любом произведении и чем изощреннее, тем интереснее. Я стараюсь свести сюжет к интриге и радуюсь, если удается. Но у меня вовсе не детектив, который предполагает криминальную основу с обязательным «побегом и поиском». Тем не менее некоторые критики ставят мои романы на полку детективной литературы. А издательство «Терра», переиздавая «Коммерсантов», даже снабдило книгу логотипом «Терра-детектив»…
— Кстати, вы не храпите? — деловито поинтересовался Юрий Яковлев.
Я пожал плечами и посмотрел в его темные глаза на гладком лице отличника учебы. Чем-то он мне не понравился. То ли интонацией высокомерной, то ли тем, как плотоядно шевелились его полные сытые губы, пережевывая бутерброд. И я ему не пришелся. Я чувствую, когда не нравлюсь, угадываю почти безошибочно. В чем тут причина? Вероятно, при встрече наши поля излучают флюиды с одинаковыми знаками — тщеславия, зависти, гордыни, глупости, а может, и ума — и в полном соответствии с законами магнетизма отталкиваются.
— Кто занимает четвертую кровать? — Я подавил раздражение.
— Должен был быть Рощин… Михаил Рощин, — ответил Адамов. — Но, думаю, из-за этой страшной истории кровать останется свободной.
И я узнал, что жена Михаила Рощина, журналистка Наталья Лаврентьева, накануне разбилась здесь, в Волжском. Спешила на мотоцикле по заданию редакции, и мотоцикл врезался в бетонную тумбу… Мы помянули Наташу, выпили, не чокаясь. Пили еще, уже чокаясь. Я сбегал, купил еще водки, какую-то закуску. Долго мы сидели в тот вечер. Впервые в жизни я оказался в компании настоящих печатающихся писателей. Оба они были старше меня более чем на десять лет, и это мне льстило. Даже неприязнь к детскому писателю прошла. Временами, трезвея, я вслушивался в дивные слова: «Литфонд», «Дом творчества», «издательство», «гонорар» — и сожалел, что меня не видят друзья в компании таких знаменитостей…
Назавтра проснулся в полной тишине. «Коллег» сдуло. И чемоданов их не было. Лишь на столе теснился развал из перепачканных тарелок и стаканов. Я взглянул на часы. Давно «просвистело» время моего выступления на ГРЭС, за окном смеркалось. «Черти, — подумал я. — Могли бы и разбудить. Я бы непременно разбудил… А еще клялись в любви».
Собрав чемодан, я отправился на автобусную станцию.
С Адамовым я больше не встречался. Яковлева видел иногда в Доме творчества, но мы оба почему-то делали вид, что не знакомы. Может быть, он и впрямь меня не запомнил — ни к Литфонду, ни к издательствам я тогда отношения не имел…
А с Рощиным мои пути в дальнейшем пересекались, и не раз. Познакомились мы в театре на Малой Бронной. Я в этот театр был вхож: тогда там шла инсценировка моего романа «Гроссмейстерский балл» и репетировалась другая инсценировка по роману «Уйти, чтобы остаться». Я приехал в Москву по делам и попутно привез рукопись незнакомого мне литератора Матросова. Ее мне передал Сократ Сетович Кара — человек по-своему уникальный, я еще вернусь к нему в этих записках, — передал с напутствием воспользоваться какими-то связями и вручить рукопись талантливого молодого человека в надежные руки, чтобы не затерялась среди «самотека». Жена Кары — кинорежиссер Тамара Аркадьевна Родионова, тоже личность примечательная — завернула рукопись в цветастую косынку, перекрестила и вручила мне на Московском вокзале перед отправлением поезда. Так я и привез рукопись Матросова, словно гостинец от бабушки.
Народу в театре было видимо-невидимо — Анатолий Эфрос давал премьеру. Неподалеку от меня сидел поэт Андрей Вознесенский. Тем летом в Ялте на драматургическом семинаре я подружился с его женой, писательницей Зоей Богуславской. Дружба эта продолжается и до сего дня — где бы и когда бы мы ни встретились, всегда находится время для сердечного разговора…
Однажды мы гуляли после семинарского занятия — его вел Леонид Зорин, знаменитый драматург, бывший бакинец, — неожиданно из кустов на дорогу выбежал молодой человек в ковбойке, произвел несколько ребячьих выстрелов из растопыренной ладони — пиф-паф! — и скрылся в кустах. «Андрей! Иди к черту, перепугал! — засмеялась Зоя. — У него такая манера писать стихи — бродит по парку, как Тарзан». Я был поражен. Знаменитый поэт Андрей Вознесенский — кумир молодежи — и такая мальчишеская выходка!.. И вот знаменитость сидит в партере, неподалеку от меня, в ярком клетчатом пиджаке, в белоснежной рубашке, с ярким платком-шарфиком вместо галстука и скучающе обозревает зал. Взгляды наши встретились, Андрей приветливо отсалютовал поднятой пятерней. Я потянулся к нему со своими заботами, связанными с рукописью Матросова.
— Ко мне не по адресу, — ответил Андрей. — Вот, познакомься, — он повернулся к молодому человеку, что сидел рядом, — самый модный сейчас в Москве прозаик. Миша Рощин. Он тебе и посоветует…
Кстати, назавтра я сидел в ресторане ЦДЛ с милейшим и добрейшим писателей Жорой Садовниковым.
— Слушай, — сказал Жора, — я хочу тебя познакомить с самым модным сейчас в Москве прозаиком, Володей Максимовым, — и он кивнул в сторону Максимова, с которым я уже был знаком…
Так вот, Рощин оказался удивительно располагающим к себе человеком, начисто лишенным спеси, столь характерной для подавляющего большинства московских литераторов. Среднего роста, с умным, добрым лицом под гладко зачесанными набок рыжевато-пепельными волосами. Мы условились, что рукопись Матросова я принесу в «Новый мир», где Рощин работал литконсультантом…
Помню такой забавный случай. Как-то в очередной свой приезд я зашел в Центральный дом литераторов. В ресторанном зале меня остановил Геннадий Машкин, молодой прозаик из Иркутска; мы накануне познакомились в редакции журнала «Юность». Геннадий сидел за столом с моим (и не только моим) тогдашним кумиром Евгением Евтушенко и будущей знаменитостью, впоследствии так трагически и нелепо погибшим драматургом Сашей Вампиловым — Сашу я тоже знал, нас познакомила завлит театра Станиславского. Четвертое место за столиком пустовало; я сел и вскоре довольно крепко нализался.
— Илья, — сказал Евтушенко, — у тебя прекрасный кейс. Где ты его раздобыл?
Я, человек восточного разлива, бакинец, был польщен — кейс и впрямь был отменный: чешский, с хромированными замками, крепкий, как орех. И кто похвалил? Сам Евтушенко, на вечер которого в Концертном зале у метро «Маяковская» я с таким трудом доставал билет, поэта, почти каждое стихотворение которого в те времена взрывало общественное мнение. Я уж не говорю о том, что меня распаляла тайная гордость — мой первый роман «Гроссмейстерский балл» печатался в одних номерах журнала «Юность» с поэмой Евтушенко «Братская ГЭС».
Расчистив на столе место, я раскрыл кейс, выгреб из его уютного чрева бумаги, документы, какую-то дребедень, завернул все в газету, захлопнул крышку и протянул кейс Евтушенко. Подарок!
Вскоре я отвалился от стола: надо было отправляться к тете, в Спиридоньевский, не будить же мне ее среди ночи… Назавтра я проснулся в жутком настроении. Ходить по редакциям с ворохом рукописей в авоське неприлично, а у тетки, как назло, ничего подходящего не было. Тут у меня мелькнула мысль заехать к Мише Рощину на Смоленскую площадь — может быть, у него найдется какой-нибудь задрипанный портфельчик. Возьму на пару дней, верну перед отъездом. Миша тогда жил в общежитии театра Станиславского у своей жены, актрисы. Встретил он меня с легким недоумением. К тому же, видно, после приличного застолья.
— Сейчас позвоню Евтушенке, пусть вернет кейс, — решил Миша и принялся накручивать телефонный диск. — Мало у него этих кейсов! А ты тоже, дурак, нашел кому дарить. Мало у него этих кейсов…
Телефон Евтушенко не отвечал. Мне подобрали какую-то сумку, сложили бумаги, угостили бутербродом и отправили в путь.
Вечером я вновь зашел в ЦДЛ и вижу — на полке гардероба мой кейс: накануне ночью его обнаружила уборщица под столом в ресторанном зале. Вот так встреча! И тут в фойе встречаю Сашу Вампилова — ему, приезжему, тоже некуда было податься. Мы отправились в кафе.
— Слушай, — сказал Саша, — ты нас извини, брат. Мы так вчера приняли за галстук, что Евтушенко забыл твой подарок. Вспомнили в такси. Но не возвращаться же…
Саша виновато улыбнулся широким монгольским скуластым лицом и откинул черный локон, что спадал на бугристый смуглый лоб.
Сумка Миши Рощина так и осталась у меня как память о той забавной истории…
Отношения наши с Мишей строились сезонно. Когда я приезжал в Переделкино, в Дом творчества писателей, где Рощин обычно жил, дружба наша получала свежий импульс… до следующего приезда. Однажды Миша перехватил меня выходящим из столовой Дома творчества. Он был очень возбужден.
— Загляни ко мне. Екатерина с Олегом репетируют сцену из моей пьесы. Побудь рядом со мной, иначе я не выдержу и не знаю, что сотворю, — торопливо проговорил он.
Ничего не понимая, я пошел за Мишей. Его новая жена, изумительная актриса (теперь уже из театра «Современник») Екатерина Васильева, репетировала с не менее изумительным Олегом Далем. Однако текст пьесы невозможно было понять из-за отборного мата.
— Ты слышишь?! — торжественно проговорил Рощин. — Они репетируют, мать их…
Я присел на край дивана. И вскоре игра этих блистательных актеров меня увлекла. Не текстом, нет, текст я не слышал. Он и не нужен был. По ходу пьесы возникла такая степень эмоционального накала, что актеры выражали свои чувства, точно в экстазе. Они пропускали еще плохо выученный текст ролей, заменяя его тем, что был «под рукой». Так в экстремальной ситуации человек выражает свои чувства криком, не заботясь о словах.
— Е… твою мать! — вскричал я, охваченный их темпераментом, точно ужаленный. — Так бы сыграть на зрителях!
Возникла пауза. И через мгновение в комнате грохнул смех.
Назавтра я отправился в Москву, и Катя любезно предложила подвезти меня на своей машине. Боковым зрением я наблюдал за ее уверенным шоферским «прихватом», пытаясь разглядеть в этой светской московской умнице вчерашнюю взрывную героиню рощинской пьесы. И дождался. Какой-то чудак неожиданно тормознул перед нами. Катя мгновенно отреагировала, словно продолжая вчерашнюю репетицию. Правда, на полутонах, сквозь зубы… Но аварии не допустила.
После своего первого неудачного литературно-просветительского броска в город Волжский я вернулся к трудовым будням. Размотка по профилю «косы» с сейсмографами. Взрыв. Замер отраженных и преломленных волн. Сматывание «косы». Переезд на следующий профиль. Разматывание «косы». Взрыв. Сматывание. Переезд… За сезон надо было пройти определенный километраж, отстрелять, собрать данные, подготовить материал к зимним камеральным работам.
Коллеги по геофизической конторе смотрели на меня без особой служебной заинтересованности — чувствовали, что у парня на уме побег в другую жизнь, что проблемы производственного плана его не особенно волнуют. Они были правы. Невостребованность первой своей пьесы «Звезды незакатные» меня распалила, подзуживала. Я сел сочинять вторую пьесу. Я ходил с гирляндой сейсмографов среди чертополоха и бурьяна сталинградской степи, словно под кайфом, в нетерпении ожидая конца рабочего дня…
Появились неприятные ощущения в области сердца. Проблема эта возникла у меня еще в школе. Перед началом занятий наш строгий преподаватель физкультуры Леонид Эдуардович Юрфельд — швед из обрусевших — воспитывал учеников пробежкой по бакинскому бульвару. Бегали мы долго и безжалостно. Тогда я впервые и почувствовал колотье в сердце. Вспомнил я об этом в своих записках не от жалости к своей судьбине — колотье это сыграло в моей жизни несколько иную роль… В дни, когда сердце не кололо, солнце палило жарче, в степной траве свирищали какие-то существа, и в нужное время с небес падал теплый счастливый дождь. По субботам я ходил на танцы в сельский клуб или на почту — звонить по междугороднему телефону. Звонил то в Баку — услышать родные голоса, то в Ленинград — Лене. Вечно ее не было дома, отвечала мама: «Это тот самый мальчик с усами? Позвоните позже. Лена пошла гулять с Юрой… с Гагой… с Гришей». Я злился и… чувствовал ревность, удивляясь сам себе. Ревность проходила со звуками радиолы в сельском клубе, с молодками-подружками, застоявшимися, точно кобылки в стойле. Ночь проскакивала быстро, и вновь начинался длинный первый день недели в ожидании вечера за письменным столом под керосиновой лампой: в нашем селе Молодель электричество добывалось скудно, от какого-то бензинового движка, снабжавшего током клуб и еще несколько точек. И это неподалеку от крупнейшей в Европе ГРЭС имени XXII партсъезда.
Наконец-то пьесу я закончил и послал в Ленинград. Дело в том, что причиной моих настырных телефонных звонков Лене, наряду с «именинами души», была еще и тайная надежда — отец Лены, Григорий Израилевич Гуревич, заслуженный деятель искусств, служил главным режиссером Областного драмтеатра на Литейном. Ну, и естественно… Словом, пьеса ушла в Ленинград, а я, как обычно, погрузился в ожидание. Ожидание, как зубная боль — не у всех хватает терпения, легче вырвать зуб — и все тут.
Договорился с начальством, взял краткосрочный отпуск и вылетел в Ленинград.
Григорий Израилевич — плотный человек небольшого роста, с покатыми плечами, громким низким голосом и подвижным мягким лицом — сел со мной в кабинете и принялся чертить на бумаге кривые, подтверждающие законы драматургии. По оси абсцисс он отмеривал зрительский интерес, по оси ординат — развитие в пьесе сюжета. Точка их пересечения означала наибольший экстаз, слияние ожидания зрителей, включая их траты на приобретение билета, с замыслом драматурга. Это взрыв!
Об этом надо мечтать! А у меня в пьесе все гладко, никаких потрясений. Надо работать и работать.
Я смотрел в доброжелательные глаза заслуженного деятеля искусств и думал: неужели ради этого графика я прикатил из города имени одного вождя в город имени другого вождя?! Кто мне возместит дорожные издержки и безутешные итоги?! Если папа не понимает, какого драматурга он видит перед собой, то дочь наверняка поймет и оценит степень моего драматургического темперамента.
Оставшиеся два вечера я провел с Леной в согласии и веселье. И с робкой надеждой на более результативный исход своего подкопа под репертуарный план Театра на Литейном…
Через месяц в сталинградскую степь пришла телеграмма, текст которой недвусмысленно говорил о том, что брошенное мной великодушное приглашение погостить в деревне не осталось без внимания. Судьба спешила мне навстречу семимильными шагами. Я не сопротивлялся. Во-первых, как известно, у меня на градус ниже температура тела, стало быть, ослаблена реакция сопротивления. Во-вторых, нет-нет да и просыпалось колотье в сердце, надо было торопиться собирать жизненные впечатления. В-третьих, не оставляла надежда попасть в театральный репертуар и наконец, в-четвертых, самое важное — Лена мне и впрямь нравилась: веселая, красивая, неглупая. То, что она была небольшого роста… так еще не вечер — подрастет, девушке только двадцать два.
Железная дорога проходила километрах в тридцати от села Молодель, и Лену мы встречали втроем — я, пыльная сейсмостанция на базе автомобиля ГАЗ-51 с совершенно чудовищными рессорами и шофер Митя, хилый паренек, озадаченный прыщами на своем тощем лице, один из немногих представителей мужского пола на селе. Только сейчас я начал понимать, что дело принимает нешуточный оборот, и, придавленный этим открытием, молчал.
Помалкивала и Лена, ее, вероятно, тоже поразила эта мысль. Только Митя веселился. Часть пути, взлетая на жутких рессорах к потолку кабины, Митя приставал к нам с вопросом: «Обтяпает ли „газон“ ЗИС или не обтяпает?» И, не дождавшись нашего ответа, уверенно утверждал, что, конечно, обтяпает, если будут они гоняться по хорошему шоссе. Часть пути Митя интересовался, есть ли в Ленинграде доктора по прыщам, ибо он совсем замучился. Ночью ложится — все гладко. Утром — бах, выстрелил! И где? На лбу или на носу, всю вывеску перед танцами путает. И корень ревеня прикладывал, и калган — ни хрена…
Митя скоротал нам дорогу, избавил от неуклюжих фраз.
Хозяйка моего дома — пенсионерка тетя Нюра, женщина без образования, но с тонкой, интеллигентной душой — постелила гостье в моей комнате, а мне — на веранде, на тяжелой дубовой раскладушке с крестообразными ножками и крепким парусиновым подстилом.
В ту ночь я долго вертелся и слушал, как призывно скрипит старая, видавшая виды моя раскладушка…
Время летело в бражничестве, купании в тихой речке Медведице и прогулках по степи. Друзья-коллеги своим вниманием всячески подталкивали меня к решительным действиям. Особенно недоумевал Ян Лапушанский. Он поглаживал «рог» на своем лбу и мычал, точно бычок-двухлетка…
Пришел срок расставания — Лену в Ленинграде ждала работа в детском саду. Она закончила дошкольное училище, а поступление в Театральный институт сорвалось — как правило, в такой институт никто не поступает с первого захода.
Я проводил ее на станцию. Шофер Митя вел сейсмичку молча и торжественно, предупредительно объезжая рытвины и кочки степной дороги, — ему нравилась Лена, они были почти одного роста. После отъезда гостьи сердце вдруг вновь заколготилось. Боль была настолько острая, что я не мог поднять руки. Местный лекарь поговаривал об инфаркте и предлагал вызвать «скорую».
Доигрался, думал я, инфаркт в двадцать пять лет! День пролежал в мрачных размышлениях, а вечером… вернулась Лена. Она не смогла купить билет из Сталинграда в Ленинград и, вместо ожидания следующего поезда, вернулась в Молодель.
— Чувствовала, что с тобой неладно, — сказала она, располагаясь в хате к явному удовольствию тети Нюры. — Поедем в Ленинград вместе. У папы есть прекрасные врачи. У него тоже был инфаркт, — успокаивала она меня. — Лучше поехать в Ленинград, к хорошим врачам, чем остаться в сталинградской степи, как безымянный солдат.
В тот же вечер из райцентра прикатила «скорая». Сделали кардиограмму. Никакого инфаркта. Но обратить внимание следует, раз такие острые боли. Если есть возможность показаться хорошим врачам, надо показаться.
— Бедняга! Со всех сторон обложили, — сказала Лена. — Выбирай — любовь или смерть!
Я выбрал первое. Колотье и впрямь прошло, возможно, подействовали лекарства…
Это произошло в августе пятьдесят восьмого года, а в апреле пятьдесят девятого, ровно через девять месяцев, по всем законам физиологии, у нас родилась дочь Ирина — проморгала тетя Нюра, проспала интеллигентная пенсионерка.
Тайну эту хранила сталинградская степь, крупные южные августовские звезды и запах ковыля перед рассветом. Еще лягушки, что жили в осоке на берегу тихой речки Медведицы…
Знаменательная деталь. Я привез доченьку из родильного отделения Военно-медицинской академии и заметил в почтовом ящике какую-то бумажку. Придерживая одной рукой драгоценный сверток, я выудил из ящика извещение о денежном переводе на 442 рубля 52 копейки. Это был мой первый в жизни гонорар. За рассказ «На берегу Лирги» в сборнике «Бронированное сердце», под редакцией В. Г. Чехова… Тридцать восемь лет я хранил эту реликвию. И недавно сдал в ЦГАЛИ вместе со многими другими документами. Там, в Архиве литературы и искусства, им будет надежнее. Когда живешь один, и живешь довольно давно, разное может случиться. Почему один? Об этом речь впереди. А пока вернусь к славным дням, проведенным в подвале гостиницы Пулковской обсерватории, где размещалась заводская гравиметрическая лаборатория, куда меня перевели с магнитной станции, находившейся в поселке Мельничный Ручей, в пятьдесят девятом году. А сейчас уже шестьдесят второй год. Как летит время. Мне уже двадцать девять. А я все еще…
«Штемлера из подвала!»
Вся обсерватория, вероятно, уже знает, что в подвале гостиницы годами держат какого-то Штемлера…
Телефонная трубка лежит на краю стола дежурного администратора, напоминая пиявку, что набралась черной крови. Наверное, звонит один из алкашей-механиков, чтобы уведомить о срочной домашней заботе, из-за которой он не может явиться на работу. Пьян, сукин сын! А на стеллаже ждет механиков «левый» градиентометр. Деньги за ремонт уже уплачены, да и нарочный из Красноярской экспедиции сидит подле своего дорожного рюкзака. Вторые сутки сидит, бедолага, дожидаясь окончания «халтуры», ибо нарушил основное правило — закон! — взаимоотношений работодателя и исполнителя в России: никогда не оплачивать впрок, тем более наличными.
Лаборатория, заброшенная на край города, на Пулковские холмы, наряду со сладкой вольницей выпятила и недостатки безнадзорной жизни — отсутствие элементарной служебной дисциплины…
— Илья! — после нескольких сиротских публикаций жена решила приучить себя к моему литературному имени. — По радио сообщили, что в Пулковской обсерватории сегодня выступают Окуджава и Аксенов. Не прозевай, потом расскажешь.
Я вернулся в подвал. Громоздкий бобиновый магнитофон вытягивал из динамика хриплоголосую песню какого-то Владимира Высоцкого. Пленку принес всезнайка Васюточкин. О Высоцком я ничего не слыхал, но Васюточкин уверял, что это восходящая звезда. И, признаться, песни его захватывали — бесшабашная, злая удаль и безудержный тонкий юмор. А Окуджаву я слышал, о нем уже много говорили. Стихи и музыка трогали за душу своим ясным и щемящим смыслом. Я люблю в искусстве ясность. Может быть, от лености ума, а может, оттого, что ясное искусство — если это настоящее искусство — трогает сразу, и только потом начинаешь доискиваться, чем же оно потрясло! Или не доискиваться, ибо ясность исчерпываема по своей сути. И в то же время неисчерпаема, как у Шекспира! Или у Пушкина! Загадка! Сообщение о выступлении московских знаменитостей всколыхнуло лабораторию. Лишь ходок из Красноярска уныло вздохнул: он думал, что поступили новости от механиков, не век же ему торчать в подвале и спать на полу в обнимку со своим поломанным градиентометром. Стало жаль парня. Я решил нарушить регламент — вручить ходоку уже отремонтированный прибор, давно ждущий хозяев, геологов из Воркуты, а поломанный красноярский оставить, довести до ума, переменить маркировочные шильдики и отдать воркутинцам, когда явятся. Доброе дело, даже самое пустяковое, вызывает прилив самоуважения, поднимает настроение. С таким приподнятым настроением я вышел на площадку перед гостиницей, с тем чтобы направиться в актовый зал, расположенный в главном корпусе…
В сквере, напротив пересохшей чаши бассейна, заложив руки за голову, сидел Борис Стругацкий — я часто в обеденный перерыв заставал его в этой позе. Рядом с Борисом читала газету его жена Ада. Мы не были представлены и обычно здоровались официальным суховатым кивком, когда ненароком оказывались в поле зрения друг друга. Честно говоря, я как-то робел перед Борисом, знал, что он пишет фантастику вместе с братом Аркадием. Даже опубликовал повесть «Страна багровых туч». Хотел поближе познакомиться, только трудились мы на разных уровнях: я в подвале, а он на гребне холма, в самом сердце астрономической науки. Да и вид Бориса казался высокомерно-неприступным: крупнотелый, большерукий, с белым, несколько мясистым лицом и тонкими брезгливыми губами. Стекла очков прятали настороженные глаза, уменьшая их в размере. Признаться, и до сих пор я как-то смущаюсь его присутствием — то ли мешает широкая известность Бориса, то ли давняя, пустившая корни робость, хоть человек я далеко не робкий. Не последнюю роль сыграла и его манера поведения — некоторая отстраненность. То ли это преграда, которую он возвел и всячески оберегает от «дурного глаза», то ли напускной имидж обитателя Олимпа. Кому, как не ему, соавтору романа «Трудно быть богом», известны тонкости сохранения «божественного имиджа». Ну, да ладно, он хороший писатель и, что не менее важно, умный публицист. Его позиция гражданина вызывает уважение…
Помню, я собирал материал для романа «Уйти, чтобы остаться», герои которого были астрофизиками, и попал в Институт теоретической астрономии к членкору академии Иосифу Шкловскому. Разнесся слух, что приехал писатель из Пулковской обсерватории. Я услышал восхищенное придыхание: «Стругацкий приехал!» Народ сбегался с этажей. Каково же было разочарование, когда узнали, что произошла накладка: приехал вовсе не Стругацкий, а другой — кто, уже не имело значения. Я не был знаком с братом Бориса — Аркадием, видел только несколько раз в ЦДЛ и почему-то всегда он нес от стойки бара рюмку с коньяком, держа ее на уровне груди, торжественно, как приз. Но мой близкий приятель, писатель и переводчик с вьетнамского Мариан Ткачев, так часто и много о нем рассказывал, что, мне кажется, я знал Аркадия лично…
— Слышали? Окуджава приедет с Аксеновым, — подавляя робость, обратился я к Стругацким.
Ада по-доброму улыбнулась. Борис что-то пробурчал и снисходительно улыбнулся. Улыбка его преображала, делала теплее, доступнее.
В зале «негде было иголку обронить». Не думал, что в обсерватории работает столько людей…
Окуджава — тощий, сутулый и вихрастый — чем-то напоминал мне знаменитого в то время артиста Беньяминова, возможно, упрямо торчащей шевелюрой и большими грустными глазами. Аксенов — среднего роста крепыш, с мягким лицом и мужественным, чуть выступающим подбородком — был более приветлив, чем его угрюмый коллега с гитарой на широком ремне.
С ними приехал еще поэт. Низкорослый, широкий, на коротких крепких ногах. Он перемещался по сцене, словно по покатой плоскости, как бы цепляясь ступнями за какие-то неровности, и читал хорошие стихи. Спустя много лет, в 1986-м, он подарил мне свой стихотворный сборник «Погоня» и надписал: «Дорогому Илье. С дружбой и нежностью. Григорий Поженян. Переделкино». А спустя еще несколько лет Григорий во мне разочаровался, просто возненавидел и прервал всяческие отношения. Но когда по Переделкину разнесся слух, что меня убили, именно Поженян как преданный друг поднял на ноги весь писательский поселок. Он да мои добрые друзья — Юнна Мориц и Зоя Богуславская. А узнав, что я жив-здоров, что произошла ошибка, что я нахожусь дома, в Ленинграде, Поженян вновь стал меня не любить, правда, уже помягче — хоть сквозь зубы, но разговаривал. За что? По глупости. Чьей?! Это кроссворд, требуется точность для определения истины. Я потом расскажу, если не надоем себе этими записками. С Василием Аксеновым, хоть мы встречались нечасто, у меня сложились самые теплые отношения. И о них речь впереди…
Выступление троицы шло с успехом. Веяло ветром грядущей «оттепели» первой половины шестидесятых. То, о чем пел Булат Окуджава, читали Василий Аксенов и Григорий Поженян, было для моих, пока еще затянутых тиной, ушей не совсем новым — я уже кое-что слышал на магнитофонных лентах, читал в журналах «Юность» и «Новый мир»; но одно дело просто слышать, другое — и слышать, и видеть…
Успех определяло еще то, что зерно падало в удобренную почву. Демократические настроения в научной среде проявляются упрямее, чем где-либо. В ученых нуждается любая власть, благодаря этому они могли позволить себе некоторое вольномыслие и независимость. И еще — оттого, что законы естества, законы науки объективны и не подчиняются никакой идеологии, это, в определенном смысле, отражается и на тех, кто исследует эти законы.
Помню, в Коктебеле я шел пляжем за энергичным, загорелым, спортивным мужчиной, что пригласил меня на прогулку. То был академик Бруно Понтекорво, физик, член итальянской компартии. Он бежал в Россию от «американского маккартизма» в поисках идеала коммунистического учения еще в начале пятидесятых годов… Понтекорво шел по коктебельскому галечнику и на весьма приличном русском языке громко вещал, что, по его мнению, каждый второй на пляже — стукач. Возможно, он рисовался своим вольномыслием перед юной спутницей — стройной фигуркой в купальнике — не знаю. Я смущенно оглядывался, подобное заявление вслух было мне не очень привычно. Вечером, на веранде дома, за чашкой чая, академик развивал эту же мысль в кругу малознакомых ему людей. Он говорил о проникновении КГБ в науку, что даже у него в лаборатории есть соглядатаи. И он знает кто. Что он уехал от «американского маккартизма» не для того, чтобы втюхаться в советский… Правда, в дальнейшем я слышал, что физик-итальянец состоял в довольно сложных отношениях с тем же КГБ, неспроста же его допустили к самым-самым тайнам нашей физической науки. Мне же он запомнился человеком, который разгонял кровь своими репликами. Смелость захватывает, пьянит, манит не только вольностью разговоров. Смелый человек и ведет себя особенно…
По просьбе журнала «Аврора» я отправился в Крым на Всемирный конгресс по космической газодинамике с целью написать очерк. «Оттепель» уже отгуляла свое, ушла в предание вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым, стояла вторая половина шестидесятых, время закручивания гаек. Эфир лихорадили зарубежные голоса с информацией о политических репрессиях против инакомыслящих. Появилось слово «диссидент». Сквозь писк глушилок процеживались фамилии Синявского и Даниэля…
Санаторий «Парус», где проводили конгресс, охраняли несколькими кордонами — птица не пролетит. Еще бы, на конгресс приехали ведущие физики из-за «железного занавеса»! Я не мог понять, от кого охраняют, если те, от которых защищались, были официальными гостями. Возможно, охраняли тех от наших?!
В перерывах между заседаниями участники конгресса выходили на лужайку, к просторному бассейну, вокруг которого они играли в новую заморскую игру фрисби — поочередно ловили круглые пластмассовые диски, что запускали партнеры. Яркую цветную забаву привез известный американский астрофизик Коллгейт. Кроме его учености, молодости, белокурой красавицы-жены, широкой ковбойской шляпы и высоких туристских сапог, что пластались поверх еще невиданного на Руси дива — джинсовых штанов, было известно: американец — настоящий миллионер, один из членов семьи богатейшего рода, занесенного в особую книгу. Что наглухо отбрасывало физика в ряды злейших врагов страны рабочих и крестьян и требовало соответственного догляда… Имена партнеров классового врага по игре во фрисби были известны всему миру — не очень широко, но уже достаточно прозрачно, как их ни оберегали долбаные органы от «сглаза», особенно от своего, «нашенского» народа, — больно уж фамилии нетипичные. Академик Виталий Гинзбург, академик Юлий Харитон, академик Яков Зельдович, член-корреспондент Иосиф Шкловский — просто как нарочно! Вот какие мужи, точно дети, по очереди кидали друг другу диск и оглашали тихий омут санатория «Парус» криками и беспечным смехом. Вдруг диск упал в воду. Он призывно мерцал посреди водного зеркала, словно царственный цветок. И сразу со своих мест сорвались Зельдович и Коллгейт. Перемахнув через бортик бассейна, они наперегонки — один в дивных джинсах и сапогах, второй в штанах общесоветского покроя и в чешских туфлях «Батя» — бросились к диску, разгоняя мириады брызг. Первым успел подскочить Зельдович. Он поднял диск над головой, издал победный крик и, мокрый по пояс, протопал к красавице американке, жене Коллгейта, церемонно поцеловал ей руку и передал добычу. Все зааплодировали. А два физика — Коллгейт и Зельдович, орошая траву потоками воды, обнявшись, направились к санаторному корпусу, веселые и счастливые. Три «топтуна», что таились у кустов сирени, торопливо подтянулись к ним, выражая беспокойство о драгоценном здоровье ученых, но явно с целью услышать, о чем так доверительно лопочут друг другу светила-физики, не пользуются ли моментом, чтобы сообщить какую-нибудь страшную тайну. Зельдович осадил их значительным взглядом, «топтуны» придержали прыть…
В игре, в неожиданном купании и вообще в поведении этих людей были раскованность и самоуважение. С американцем все ясно, а вот наш повел себя на равных, как нормальный человек.
Очерк я написал. Но его не пропустила цензура. Почему? Как мне стало известно, из-за эпизода с фрисби. Именно он задал очерку не то направление, что нужно нашему человеку. Утешением послужила сама командировка, в которой я встретил людей, ставших легендой при жизни…
Итак, выступление москвичей в актовом зале Главной астрономической обсерватории казалось взаимным объяснением в любви. В Ленинграде в те годы не так-то легко было найти трибуну для подобных выступлений — чрево революции с яростью донашивало свое дитя. Даже странно, как по городскому радио дали информацию о выступлении. Я слушал москвичей с упоением, и нет-нет да и подтачивала меня мысль: вот они, таланты, знаменитости, поэты. Пришельцы из другой жизни. А кто я сам? «Человек из подвала». Временами корябаю на бумаге какие-то слова, вяжу сюжет. А что в итоге? Получаю очередной номер журнала «Юность» и читаю чужую радость, чужой успех, чужие мысли, которые могли бы быть моей радостью, моим успехом, моими мыслями. Зависть томила меня. Человек не пишущий, не отравленный наркотиком, полученным от прикосновения пера к бумаге, не может этого понять. Неспроста одним из самых тяжелых психических расстройств считается графомания. Может, я и есть графоман. А те два несчастных моих рассказа — случайные пескари в потоке галечника и воды. Может, послушать жену — не разбрасываться, заняться всерьез своей работой, я ведь на поверку оказался вполне дельным инженером, заняться дочерью, семьей… Но возвращался домой, в нашу «семейную» одиннадцатиметровую комнату в двухкомнатной квартире родителей жены, и вновь магнитом тянуло к секретеру с выдвижным подносом-столиком. Слух улавливал ворчание тещи за стеной: «И что он там все пишет и пишет? Лучше бы занялся делом, как все нормальные люди».
Тещу свою поначалу я называл мамой, потом, в одночасье, вернулся к более естественному обращению, по имени-отчеству.
Евгения Самойловна — крупная женщина с тяжелым торсом и большим задом — слыла искусной закройщицей-модельером. Я ладил с ней, находил общий язык. Она обладала авантюрно-веселым характером, который заменял ей ум. Правда, она была убеждена, что главное ее достоинство — это все-таки ум, но не отрицала и веселость. Если уж брать за основу слово «ум», то к ней, скорее, подходило определение «себе на уме», что, кстати, свойственно многим…
Как-то заболела моя жена. Вызвали участкового врача. Пришла молодая, только окончившая институт докторша Эмма Александровна — в дальнейшем вся моя жизнь в Ленинграде тесно переплелась с ней и ее мужем, ныне академиком, Семеном Григорьевичем Вершловским, — так вот, врача встретила на пороге квартиры хозяйка, Евгения Самойловна.
— У моей дочери простуда, — произнесла с веселой категоричностью хозяйка. — А у меня — рак!
Врач обомлела. Она еще не видела таких ликующих раковых больных.
— Да-да! Мне сказали, что у меня рак в самой запущенной форме. — Евгения Самойловна протянула руку с голубоватым пятном на запястье. — И уже несколько лет!
— Я только сниму пальто; где у вас вешалка?
Но вместо вешалки Эмма Александровна продолжала видеть только протянутую руку хозяйки квартиры.
— Ну, если вы настаиваете — да, — сдалась врач. — У вас рак. И самой последней формы.
— Вот видите! — торжествовала «раковая больная». — Вы молодец! Теперь, я уверена, мою дочь осмотрит хороший специалист, а то другие доктора начинают со мной спорить.
Кстати, теща не ошиблась, Эмма Александровна и впрямь выросла в хорошего врача-кардиолога. А пятнышко на запястье у тещи все голубеет, хоть после той встречи прошло сорок лет.
Этот эпизод я бы отнес к веселой беззаботности характера тещи.
Будучи искусной портнихой, она была весьма необязательным исполнителем. Заказчицы гонялись за ней месяцами. Семейное предание хранит такую историю. Однажды разъяренная заказчица так стремительно ворвалась в квартиру, что теща едва успела спрятаться за ширму.
— Мамы нет дома! — тренированно проговорила Лена, моя будущая жена.
— Как— нет?! — поправил ее правдолюбивый младший братишка Даня. — А чьи это ножки? Это же мамины ножки! — Малыш, рыдая, принялся поглаживать торчащие из-под ширмы босые ступни материнских ног. Пришлось покинуть укрытие, дать Дане по шее и как ни в чем не бывало заняться заказчицей.
Этот эпизод я бы отнес к авантюрной стороне характера своей тещи.
Полной противоположностью тещи был ее муж, заслуженный деятель искусств, главный режиссер Театра на Литейном — Григорий Израилевич Гуревич. Я уже рассказывал о давней встрече с ним, перед своей женитьбой. О тайных выгодах, которыми я тешил себя, благодаря удачному мезальянсу… После женитьбы ничего не изменилось. По-прежнему я просиживал с ним на кухне — на нейтральной полосе разделенной квартиры — и с тоской следил за графиком развития драматургии в идеальной пьесе. За осью абсцисс и осью ординат. Тесть хитрил, ему не хотелось браться за постановку пьесы своего зятя. Он был человек порядочный, и упрек в кумовстве был бы ему страшнее благости семейных отношений. Теща же ставила вопрос ребром: «Скажи, Григорий! Николай Павлович Акимов. Он ведь не боялся брать пьесы своего зятя Алеши Тверского! А чем наш слабее? Он так хорошо играет на пианино!» — «Чем слабее? — тихо оборонялся тесть. — Талантом!»
И тонкие стены доносили до моих ушей набор нелестных замечаний относительно моих драматургических способностей, заставляя стыдливо отворачиваться от жены в узор обоев. Я ненавидел в эти минуты своего тестя. Но проходили дни, и я, отравленный ядом драматургического варева, вновь плелся на кухню, заранее готовясь «поверить алгеброй гармонию».
Григорий Израилевич по своей натуре был добропорядочный и печальный человек. Добропорядочность была врожденной чертой характера, печаль — приобретенной. Кроме общих моментов — служебно-театральных склок, четырех лет войны, явного идиотизма многих ситуаций — он еще был задавлен своей экспансивной супругой. А для нее самым важным в жизни было мнение друзей. Мнение родных и близких, а тем более мужа в расчет не принималось. С ними всегда можно договориться. В основе подобной ущербности лежит не столько отсутствие самостоятельности, сколько пробелы культуры и воспитания; кстати, эти факторы, по моему убеждению, генетически закодированы и нередко передаются по наследству. Я часто задаюсь вопросом: что поддерживает союз разных по характеру людей? Отчасти — физиология, отчасти — привычка и леность натуры, но в большей степени — совестливость, ответственность за судьбу близкого человека, в основе которой лежит все та же культура. Видный театральный художник Эдуард Кочергин, проработавший в Театре на Литейном долгие годы, сказал мне после кончины тестя: «Он был одним из последних по-настоящему культурных людей в театральном мире нашего города. В широком смысле этого слова. Он умер от непонимания». Возможно, Кочергин был прав, но отчасти. Григорий Израилевич умер от несправедливости. Жизнь его сократило предательство. Он не понимал — почему самые близкие люди уехали «от него» в другую страну? Ну, сын, бог с ним, у него своя жизнь, семья. Но жена?! С ней прожито более сорока лет… Она и раньше уезжала, собравшись в одночасье, то в Ялту, то в Москву к подружкам. Но ведь возвращалась, размышлял он горестно, а тут навсегда, в Америку. Опекать сына, который без особой радости воспринял эту жертву? И после некоторого размышления Григорий Израилевич добавлял: «Нет, она все-таки благородный человек. Она не просто бросила меня, как ненужную вещь. Она подобрала мне жену, передала в надежные руки. Конечно, она меня любила». Кстати, «надежные руки», в которые, как пакет, был передан старый режиссер, были руки моей родной тетки, Марии Александровны Береговской, сестры моего отца… Но до того было еще далеко. Это случилось в конце семидесятых. А сегодня календарь отмечал самое начало шестидесятых. Время, когда воронкой затягивала меня молодая литературная среда, время мощного общественно-социального подъема, названного впоследствии временем «шестидесятников». Сейчас нередко проводятся дискуссии о чистоте рядов среди тех, кто относит себя к этому славному периоду. А можно ли дифференцировать? Верен афоризм: «Вся жизнь — театр, и люди в нем — актеры». Они играют разные роли в спектакле: и героев, и злодеев. Но спектакль один. Нет героев без злодеев и нет злодеев без героев — все в спектакле строится на контрастах, проявляя общую картину. И что удивительно — многие герои того времени, с достоинством носившие вериги мучеников на протяжении долгих лет, дождавшись побед своих идей, «торжества демократии», оказались такими же рутинными злодеями, как те, против которых они когда-то боролись. Правда, и само «торжество» оказалось на поверку просто перелицованными буднями прошлого. Но это тема другого разговора.
А пока, как в песне: «Мы все таланты и красавцы…»
«Таланты и красавцы» собирались по четвергам на третьем этаже Дома книги в тесной комнатенке издательства «Советский писатель». Человек пятнадцать — двадцать, во главе с Михаилом Леонидовичем Слонимским. Кроме него, в разные времена кресло занимали не менее достойные гуру: Леонид Николаевич Рахманов, Геннадий Самойлович Гор, Израиль Моисеевич Меттер. Навещали собрание для интеллектуального отдыха и знакомства с литературной «сменой» и Константин Паустовский, и Вера Панова, и Давид Дар, и Вера Кетлинская. Они хоть и оставили зарубки на литературной кроне, но принимались «сменой» по-разному: от восторга до откровенной неприязни, порой до скандала — «смена» была ершиста и самонадеянна. Нередко после визита «литературных кондукторов» пытались прикрыть вольнодумные занятия, но усилиями наших гуру занятия продолжались годами. До нашего набора, в эпоху «раннего возрождения» — вторая половина пятидесятых — в ЛИТО обсуждали свои первые произведения Александр Володин, Виктор Конецкий, Валентин Пикуль, Василий Курочкин, Виктор Голявкин… Так что колебания секретаря ЛИТО Киры Успенской после знакомства с моими рукописями можно было понять. Но допущен я был. На предмет апробации, что уже победа…
Итак, я пришел на свое первое занятие.
Молодой человек лет двадцати пяти читал рассказ. Узкое, несколько удлиненное лицо с округлым подбородком помечали довольно резкие подглазные дуги, служившие как бы подставкой крупным серым глазам. И еще припухлые губы красивой формы с печально приспущенными уголками. Это был Андрей Битов. Рассказ назывался «Бабушкина пиала». Воспоминание о давних годах эвакуации из осажденного Ленинграда в Ташкент… Когда стихла волна обсуждения — в основном благожелательного, что, судя по репликам, явление редкое в этой компании, — Михаил Леонидович Слонимский предложил высказаться и мне, новичку-абитуриенту. Хотел прощупать, понимаю ли я что-нибудь или просто прячусь за многозначительным молчанием. Рассказ и мне понравился. Со знанием дела — все-таки человек восточный — принялся я что-то бубнить о деталях, об описании автором самой чаши-пиалы, так поразившей воображение маленького героя рассказа Андрея. Затронул и достоверно описанный быт беженцев, он был мне известен по личным воспоминаниям о людях, спасавшихся в Баку от войны… Но в целом мой анализ рассказа лежал в русле стандартной газетно-рецензионной статьи и не отличался оригинальностью. Прослушали его с вежливой настороженностью, без воодушевления. И предложили прочесть свой рассказ на ближайшем заседании.
Я принес рассказ «Праздник собак нашего двора». Тоже ностальгический, тоже о мальчишеской суете в тыловом городе в войну. Рассказ пришелся по вкусу. Даже скупой на похвалу Олег Базунов, брат Виктора Конецкого, обронил несколько одобрительных фраз. И я единогласно был принят в ЛИТО. С первого же захода, что случалось не так уж и часто.
Сложно объединить в сюжет пеструю жизнь нашего «литературного взвода». Память выталкивает разрозненные эпизоды, картины, фразы. Главное — это было сообщество талантливых людей, одержимых литературой, жаждущих публикаций, признания и успеха, скрывающих свою страсть под маской презрения ко всякому успеху… Основной костяк слушателей был знаком между собой с детства, знали друг друга по городу, учились в близких школах, то есть с того времени, когда закладываются основы «пожизненной» дружбы. Я же никого из них не знал, не имел общих знакомых. Поэтому круги наших «нелитературных» интересов не соприкасались, что, естественно, сковывало отношения. Они после занятий собирались на гульбу, я бежал домой, повязанный семейными заботами. Отвлекаясь, хочу заметить, что дружба — этот удивительно животворный источник— завязывалась у меня с трудом и нередко через начальную неприязнь и даже вражду. Чья в этом вина и вина ли вообще, не могу ответить и по сей день…
В ЛИТО проявились и свои литературные любимчики, чтения которых ждали с интересом не только профессиональным, но и развлекательным. Андрей Битов, к примеру, к ним не относился. Его чтение заставляло думать, напрягаться — хотя внешне все единодушно ждали его очереди на чтение. Кстати, и сейчас, став знаменитым писателем, известным в мире, читающим лекции за рубежом, он все глубже и глубже уводит читателя в дебри трудных размышлений, подчас невыносимых для чтения — по крайней мере, для меня. Я, при всем своем расположении к автору, часто не могу преодолеть первые страницы, зная наперед, что, преодолев, уже не оторвусь. Ох, эти первые страницы испытаний, как первый вскрик любви — если его нет, то возникает страх, что его никогда уже не будет. Как сказал Валерий Мусаханов: «Битов — писатель для писателей, но не для читателей». Возможно, и я, занимаясь профессионально литературным ремеслом, остаюсь в рядах читателей…
К любимчикам относился Валерий Попов. Он обычно садился так, чтобы можно было вытянуться на стуле. Переплетя длиннющие ноги чуть ли не в три перехлеста, Валерий зажимал ими папку с рукописями в самом причинном месте и скрещивал руки на груди, глядя исподлобья красивыми карими глазами с провисшими уголками век. Весьма двусмысленная поза… Помню его рассказ «Случай на молокозаводе». Пародия на детективный жанр. Как детективы ловили шпиона, который засел в твороге, но упустили: шпион увернулся от наручников и юркнул в масло… Мы хохотали. До сих пор на слуху этот рассказ, хоть с тех пор Попов стал известным писателем, автором многих повестей и романов. Поселился он в самом центре Питера в вытянутой вдоль коридора большой квартире покойной поэтессы Ирины Одоевцевой — девочки с розовым бантом — возлюбленной Николая Гумилева. Жена Валерия Попова — Нонна — вскружила голову не одному ныне знаменитому литератору. Из-за красавицы Нонны как-то размахивали кулаками перед носом друг друга Андрей и Валерий. То ли из-за нее, то ли двум талантам стало тесно — тоже, думаю, причина для соперничества весьма серьезная. Но общественное мнение определило Нонну как яблоко раздора — славные мгновения далекой юности. И я был повязан ее чарами — как-то на Невском проспекте вступился за ее честь перед какими-то парнями; тоже слыл драчуном с детства, бакинский мальчик…
Вообще «рыцарские турниры» среди нас были не редкость: медведи ворочались в берлоге. И Андрей Битов считался любителем этих турниров. Иногда он сам их затевал, а иногда оказывался жертвой чужих затей. Так, однажды на Невском возникла драка: морячки, сняв пояса, дубасили кого-то. Приехала милиция и всех заарканила, в том числе и стоявшего в стороне Битова. В милиции составили «телегу» и направили в Союз писателей. Хотя Андрей тогда еще не был членом Союза, но все равно приятного мало. И наш дорогой гуру — Михаил Леонидович Слонимский — встал на защиту Андрея перед гневными очами громовержца Александра Прокофьева, тогдашнего первого секретаря. Авторитет Слонимского был велик — как-никак он вместе с Горьким стоял у истоков Союза писателей. А ведь могли повернуть дело так, что Битову была бы заказана дорога в Союз на многие годы.
Стать членом Союза являлось мечтой любого пишущего человека в нашей стране, особенно в те годы. Член Союза писателей мог позволить себе нигде официально не работать и не слыть тунеядцем. Получить путевку в заветный Дом творчества. Шить в мастерской Литфонда пальто для себя и жены — не бесплатно, но зато в ателье Литфонда. И прочая и прочая… Мы тогда еще не знали, что Союз писателей, пожалуй, самая иерархическая организация в идеологической службе страны. Виварий со своими змеиными законами, чистоту которых оберегает армия чиновников-лизоблюдов под надзором чиновников-писателей, литературных полковников и генералов. Редко кто, попадая в этот виварий, сохранял достоинство и независимость.
Дни, когда я отправлялся в ЛИТО, были необычными. Даже когда они падали на конец месяца, на заводскую гонку за выполнение плана, я умудрялся вырваться в Дом книги. У Сергея Довлатова есть чудная автобиографическая повесть «Слово», в которой всажены снайперские фрагменты из записных книжек под названием «Соло на ундервуде», лаконичные и емкие мазки высвечивают этот период жизни молодых ленинградских писателей. После него трудно что-либо добавить, кажется пресным, сухим… В тот период наши пути с Сергеем не пересекались, так сложилось. Обидно, ведь буквально все, о ком он вспоминает, были и моими знакомыми, кое-кто и приятелями, некоторые — друзьями. Конечно, всего не вспомнишь, обо всем не напишешь, память — штука коварная. К примеру, я знаю: много пекся о творческой судьбе Довлатова Дима Поляновский. Его вообще как-то перестали вспоминать, возможно, оттого, что круг, вобравший в себя определенных людей, превратился в обруч с высоким ободом, через который уже невозможно перемахнуть. А ведь Поляновский сыграл в судьбе многих литераторов весьма благородную роль тем же добрым словом поддержки и заинтересованности. В судьбе хорошего детского писателя Ильи Дворкина или, скажем, в моей судьбе. Дима был удивительно красив внешне, жизнелюбив, доброжелателен. Носил редкое отчество — Иоганнович. И вообще, считался своим парнем, несмотря на значительную разницу в возрасте с большинством из нас. Он мало прожил — всего лишь сорок восемь лет, сдало сердце, сказалось тяжкое ранение в войну, контузия. Его повести «Сотрудник ЧК» и «Тихая Одесса», написанные в соавторстве с Лукиным, читают и сейчас…
О Поляновском я вспомнил в вольном трепе с Сергеем Довлатовым. Когда-то Довлатов предлагал свои рассказы в альманах «Молодой Ленинград». Составитель альманаха — Поляновский — рассказы принял, а ответственный редактор — Кетлинская — их задробила…
Вольный треп мы вели, фланируя по острову Манхэттен, куда я попал в восемьдесят седьмом году, после снятия «железного занавеса». Я приехал повидать своих близких после многолетней разлуки и был в числе первых ласточек, открывших широкую навигацию к берегам Новой Англии. Значительное место в чемодане занимали письма и подарки, не имеющие прямого отношения к моим близким, в том числе и письмо Меттера к Довлатову. Я позвонил Довлатову, и мы встретились. На Бродвее, у здания, где разместилась радиостанция «Свобода». Довлатова я узнал издали, хоть и видел его в Ленинграде раза два.
Однажды я ехал с приятелем в Дом писателя. Неожиданно на Литейном проспекте трамвай остановился — на межпутье, поддерживая друг друга, расположились трое молодых людей с бутылками в авоськах. Остановился и встречный трамвай — троица веселилась широким фронтом занимая и параллельные рельсы. «Тот, длинный, — Довлатов», — сообщил приятель. А второй раз — в день освобождения из-под стражи Володи Марамзина, моего приятеля по ЛИТО. Марамзин, кроме литературной одаренности, славился особой сексуальной одержимостью, чему в немалой степени способствовала яркая внешность — черноволосый красавец с живым призывным взглядом обольстителя, к тому же отчаянный буян и забияка. Известен факт, когда Володя швырнул тяжелый чернильный прибор в директора издательства «Советский писатель» Кондрашева — тот чинил зловредные препятствия прохождению рукописи. Случай казался логическим продолжением рассказа Марамзина «Я с пощечиной в руке», написанного в гротескном гоголевском стиле, — о том, как маленький человек пытается отомстить за обиду и «таскает» к обидчикам пощечину, никак не решаясь ее применить… Это в рассказе, а по жизни Марамзин своей пощечиной воспользовался — Кондрашев подал в суд, однако сам почему-то на заседание суда не явился…
«Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Марамзин все-таки «попался». Его довольно долго держали в СИЗО по обвинению в связях с иностранцами, в клевете на СССР. Но формальным поводом для привлечения к ответственности послужил рассказ Марамзина «Тяни-Толкай», воспринятый как поклеп на доблестные службы госбезопасности. Состоялся суд. Марамзину впаяли пять лет… условно. «Мягкость» приговора предполагала дальнейший отъезд из страны. Что Володя и сделал. Я был у него в гостях в Париже, в самом центре, на улице Фуше. Володя оставался все тем же добрым, ироничным, хлебосольным. Но стал преуспевающим бизнесменом. Литературу практически забросил, а жаль…
После оглашения приговора суда Володя покинул здание на Фонтанке, сел с женой в мою машину, намереваясь заехать в храм Преображения Господня, что на улице Рылеева, прицениться — сколько будет стоить церковное венчание. Сидя в кутузке, он так «нарисовал» себе свой первый поступок на воле. К «Жигулю», вместе с другими молодыми людьми из «группы поддержки», как мне кажется, подошел и Довлатов. Пожалуй, вот все мои встречи с ним…
И вот теперь, в Нью-Йорке, я увидел Довлатова в третий раз. В цокольном этаже здания разместился книжный магазин. Между двумя витринными стеклами, засиженными пятнами книжных обложек, на светлом камне простенка рельефно рисовался красивый Сережин профиль в надвинутом на лоб плоском кепи. По-прежнему он казался выше всех в пестрой толпе прохожих. Мы сердечно обнялись, словно были знакомы всю жизнь. Письмо Меттера обрадовало Довлатова — в те времена письма в Америку шли долго и как-то хромая, а тут свежая весточка, хранящая еще запах Ленинграда…
Первым делом мы зашли в винный магазин. В высоченных стенах магазина, излучающих сияние бутылок, Сергей углядел то, что нужно. Я тоже прикупил какую-то флягу. «Закуска у них есть всегда». Довлатов отмеривал длинными ногами дорогу к подъезду, в котором среди многих офисов разместилось и бюро Русской службы радиостанции «Свобода».
Встретили нас тепло. В тесном кабинете Юрия Гендлера — руководителя бюро — собрались сотрудники: благообразный, бородатый Петр Вайль, тонкий, с «лермонтовским» обликом Саша Генис, прямой, с настороженно вытянутой шеей Аркадий Львов. Пришел молчаливый поначалу, фундаментальный Борис Парамонов — энциклопедист и златоуст. «Принес свою закуску как символ независимости, — шепнул мне Довлатов, — через стенку чует выпивку». Потом я разговорился с Парамоновым, бывшим ленинградцем: он жил когда-то недалеко от меня, в соседнем доме…
В 1987 году гости из России — явление нечастое, да и не всякий осмеливался заглянуть в это помещение — страх перед «гнездом антисоветчины» еще теснил душу. И, честно говоря, как-то сковывал меня, беседа проходила вяловато. Да и о чем таком новом я мог рассказать людям, прекрасно информированным обо всем, что происходило в России! Но с падением уровня спиртного в бутылках повышался накал общения. И беседа с общественно-политических рельс перешла на бытовые, на литературные сплетни-новости. Я воодушевился, воспрял, стал наверстывать, набирать очки; бутылки катастрофически быстро мелели, несмотря на то, что Довлатов, как я заметил, не пил, а лишь слегка пригубливал, как бы не желая конфузить компанию, — я еще не знал, что у него нездоровая печень… Встреча закончилась предложением выступить на «Свободе», конечно, не бесплатно. Через несколько дней я выступил. Передача получила хорошие отзывы, ее несколько раз повторяли. В дальнейшем я выступил со специально написанными короткими рассказами в цикле «Америка глазами человека со стороны» или что-то вроде этого. Первый рассказ, помню, описывал автомобильную свалку «Джанк ярд», идею рассказа подсказала мне Рая Вайль — бывшая жена Петра Вайля, талантливая журналистка и соседка по дому, где я гостевал…
Звонит Довлатов: «Илья, хотите заработать? Сичкин пишет роман о своей жизни. Обещает пять тысяч долларов за литературную обработку, согласны?» — «Нет, — отвечаю я. — Во-первых, такие деньги он не отдаст. Во-вторых, достаточно во-первых». — «Может быть, вы и правы, — соглашается Довлатов. — Но хоть что-нибудь он все-таки заплатит». — «Через суд, — отвечаю я. — А мне скоро уезжать, не успею». — «Вы редкий человек, — смеется Довлатов. — Отказываетесь от денег». — «От судебных издержек», — и мы оба хохочем во все горло…
Ночью меня будит звонок. Голос Раи Вайль. «Илья, у вас есть дома вино? Поднимитесь ко мне. У нас вино кончилось, а Сергей с Аркадием только начали спорить».
Я взял бутылку и поднялся на этаж. Дом, в котором я жил в Нью-Джерси у своей бывшей жены, был знаменит тем, что там в свое время получили квартиры многие эмигранты… Трехкомнатная квартира Раи плавала в сизом мареве неоконченного загула. Овальный стол напоминал место действия моего рассказа «Джанк ярд»: тарелки с овощными салатами, колбасой, тунцом, сыром, ломти хлеба, овечьи горошины маслин, пустые бутылки, стаканы. Вокруг стола, подобно хозяину свалки, герою рассказа «Джанк ярд» ирландцу О’Тулу, топтался завернутый в строгий черный костюм при ярком клоунском галстуке Аркадий Львов. Босой, в сером банном халате на голое тело, Сергей Довлатов напоминал хмельного генерала Чарноту из фильма «Бег» в исполнении Ульянова.
— Вы никогда не напишете ни одной стоящей вещи, Львов, — вещал Довлатов. — Потому что вы уверены, что пишете стоящие вещи.
Львов с ироничной снисходительностью выгибал темно-пшеничные брови и пожимал плечами — что можно ждать от пьяного Довлатова!
— О чем речь? — Я беспечно водрузил на стол бутылку красного синагогального вина из пасхальной посылки.
Ситуация меня озадачила — все знали, что Львов, затянутый в строгий черный костюм, был несколько ближе к Рае, чем босой и расхристанный Довлатов…
— Я объясняю Львову, что его романы — это превращенные в листаж песенки соседа по этому дому Вилли Токарева…
Львов нервно повернулся и ушел на кухню, к Рае.
— Зачем вы так? — укорил я Довлатова. — Обидели человека.
— Почему он за весь вечер не расстегнул ни одной пуговицы на своем похоронном костюме? — встречно вскинулся Довлатов. — Ладно, пойду извиняться. У него и вправду есть приличные и весьма читабельные вещи. Пойду извиняться.
Довлатов прошлепал босыми ступнями по рисованному под паркет линолеуму. А я отправился досыпать…
Вечером вновь раздался телефонный звонок. На этот раз звонила мама Довлатова.
— Илья, — проговорила она, — как вы могли поступить подобным образом, напоить Сергея, когда у него больная печень?..
Я ошарашенно пролепетал о том, что всего лишь выполнил просьбу Раи — принес вино, что я и не знал, что у Сергея проблемы с печенью, да и вообще, влетел в эту историю как кур в ощип.
— Очень плохо, очень плохо. Мы уже два раза вызывали «Скорую помощь».
Расстроенный, я позвонил Рае. Оказывается, Сергей вчера ввалился к ней уже пьяный — у него произошел малоприятный разговор с руководством радиостанции: Довлатов работал на радио не в штате, что автоматически предусматривало бы определенные льготы и страховки, особенно медицинские, а по договорам на конкретную работу. Трудился он много, практически каждый день выходил в эфир, рассчитывая на постоянный статус, и вновь пролетел — ему объявили, что в новом штатном расписании нет свободных единиц. Тут подоспели еще и какие-то личные неурядицы: Довлатов был по-прежнему во власти своих сердечных похождений и тяжело переживал их неприятные сюрпризы… Словом, поводов напиться было предостаточно. И моя бутылка вина тут ни при чем: Довлатов все равно вино бы достал — итальянский ресторанчик «Каса Данте» работает до утра, надо лишь перейти улицу…
На этот раз Довлатов выдюжил, поправился. И дней через десять пришел к нам на обед. Чинно, с женой и дочерью. Сидел в торце стола, печальный, непривычно молчаливый, пил минеральную воду, похваливал тещину фаршированную рыбу, но ел с опаской, боясь за печень. Таким я его и запомнил, как последнюю фотографию.
Когда я приехал вновь в Америку, Сергея уже не было; трагическую роль в этом в немалой степени сыграло и отсутствие медицинской страховки. А книги его, небольшого формата, изданные нью-йоркским издательством «Эрмитаж», глядели на меня с полки с щемящей виноватостью — не все, мол, рассказал, не успел, а жаль… В литературе — как и в жизни — есть личности, уход которых невосполним. Их мало, и это естественно. Можно им подражать, но заменить нельзя.
Нью-йоркское издательство «Эрмитаж» — собственность Игоря Ефимова. Он — директор, главный редактор, наборщик, менеджер, издатель и начальник АХО — все в одном лице. Хозяйство его размещается в комнате собственного дома. До эмиграции Ефимов жил в Ленинграде и был активным членом ЛИТО при библиотеке им. Маяковского. Отъезд Ефимова был «громом среди ясного неба»: в те годы многие воспринимали это как подвиг или как самоубийство и всячески избегали общения — кто из-за страха, кто из зависти. Помню, я с нашим общим приятелем Борисом Ручканом решил зайти к Ефимову попрощаться. Ефимов тогда жил где-то в районе Невского проспекта. Держался он достойно, без гусарства. Однако его чем-то тяготил наш визит. Он долго искал какую-нибудь свою книжку, чтобы подарить на память, но так и не нашел. Ручкан обиделся. На улице Ручкан объявил: «Была у меня давнишняя мечта — дать Ефимову по морде. Не мог слышать, как он читает свои тягомотные сочинения». — «Особенно после того, как „Юность“ напечатала его повесть „Смотрите, кто пришел“», — съязвил я… Ручкан промолчал. Зависть порой доводит до глубокого обморока. Повесть Ефимова читалась с интересом, обращала на себя внимание. Что же касается занудства, то подобная манера письма считалась особым шиком молодой ленинградской прозы тех лет. Длиннющие абзацы без точек, с редкими запятыми своей формой как бы помогали достичь особых глубин авторских размышлений. Я вспомнил это, когда читал роман Ефимова «Седьмая жена», изданный им в своем издательстве «Эрмитаж». Так и не дочитал, отложил, устав продираться через скучные, длиннющие авторские сентенции…
В тот самый первый свой приезд в Нью-Йорк меня пригласили на заседание литературной группы русских писателей в Колумбийский университет, на кафедру славистики. Собралось довольно много людей, среди которых я увидел и Ефимова. Встреча была для нас неожиданной: Ефимов приехал на заседание с коммерческой целью — попробовать продать книги своего издательства; книги и впрямь он издавал хорошие. После оторопи от неожиданной встречи он вдруг проговорил с непонятной злостью:
— Ну что?! Поползли сюда! Подняли вам шлагбаум. Ну-ну!
Возможно, им владело дурное настроение — книги не покупали, даже расходы на бензин не покрыть, — но высокомерно-обличительный тон, признаться, мне испортил вечер.
Многих в эмиграции ждала нелегкая судьба, и не мне их судить. Нередко, желая представить судьбу более удачливой, эмигранты подпускают дымовую завесу из высокомерия и спеси. А свободные сегодняшние границы, вскрывающие истинное положение вещей, они рассматривают как провал явочной квартиры…
В начале шестидесятых «общественно-социальное окружение» мне представлялось как дом с двумя лестницами, каждая из двух ступенек с площадкой. Дом — общая система ценностей, в основе которого лежит «прогрессивное учение», дискредитированное чиновничье-бюрократическим и национал-шовинистическим отклонениями. Одна лестница в доме вела вверх, ее, в плане идеологическом, представлял на первой ступени журнал «Юность», на площадке — журнал «Иностранная литература» и на верхней ступеньке — журнал «Новый мир», возглавляемый главным редактором Твардовским. Вторая лестница вела вниз. Первая ступенька — журнал «Молодая гвардия», площадка — журнал «Знамя», последняя ступенька — журнал «Октябрь», возглавляемый редактором Кочетовым. Дом сотрясал топот шагов по этим лестницам — одни карабкались вверх, другие сбегали вниз. Как известно, вверх идти тяжело, но почетно. Вниз — легко, гладко, без одышки, но особого почета не прибавлялось. Поэтому бег вниз нередко прикрывался кряхтением и стенаниями, словно ты карабкаешься вверх. Сам дом, казалось, стоит на прочном фундаменте, хотя «немногие эксперты» уверяли в полной трухлявости стен, а иные кивали на фундамент. Такие смельчаки вызывали уважение вперемежку со страхом перед всесильной охраной, заинтересованной в сохранности привычного дома. Но большинство относило себя к зрителям, что наблюдали со стороны за теми, кто топал по лестницам. Я тоже относил себя к зрителям, болея за тех, кто карабкался вверх…
Дней, когда почта доставляла очередной номер журнала «Юность», я ждал с тайным сладострастием, предвкушая наслаждение. Как всякое острое наслаждение, ритуал этот должна окружать тайна. А какая тайна может быть в квартире, где на двадцати восьми метрах проживало шесть человек: родители жены, их сын — пострел Данька, их дочь — моя жена Лена, их внучка — моя дочь Ириша и я сам, их зять? Но страсть не знает безвыходных ситуаций. Ближе к полуночи, когда утихала семейная суета и лишь теща что-то шила и кроила на кухне, я запирался в туалете, где под медитацию вечно неисправного сливного устройства предавался сладострастию. Свежий номер журнала имеет свою особую ауру, воздействие которой сродни первому свиданию. В те времена умами владела «новая» проза, получившая название «исповедальной». Читалась она с придыханием, с сердцебиением, с полным рабским подчинением авторской воле. Помню июньский номер «Юности» за шестьдесят первый год — «Звездный билет» Василия Аксенова, еще раньше его же «Коллеги». Писатели Анатолий Гладилин, Анатолий Кузнецов, Юрий Пиляр… Почти в каждом номере журнала было что читать. Предвижу недоумение сурового литературоведа — а где школа мировой литературы? Где имена классиков? Неужели эта облегченная проза легла на алтарь вашего писательского труда? Именно так! То было время литературы, несущей хоть толику, но свежего воздуха. «Исповедальная» проза восполняла дефицит классической литературы в сознании людей. Проза «полуправды», романтической отвлеченности, когда казалось: еще немного, еще чуть-чуть — и воспрянет истина. Правители были не так глупы, допуская балансирование на грани и возложив эту миссию на журнал «Юность», ведущий тактический бой под встречным обстрелом журнала «Молодая гвардия». В то время как журнал «Новый мир», оснащенный артиллерией стратегического назначения, вел встречный бой с журналом «Октябрь». А вся интеллектуальная прослойка общества разделилась на два противоположных лагеря и, подобно футбольным болельщикам, следила за этими боями. Идеологический отдел ЦК выполнял роль судьи, явно подсуживая журналу «Октябрь» и приструнивая классных футболистов «Нового мира». Доставалось и «Юности», что, несомненно, шло на пользу этим двум журналам: повышались тиражи, а писатели, сотрудничавшие с ними, становились национальными героями. Славное было время, неповторимое. В наши дни национальными «героями» стали бандиты и эстрадные крикуны. Но это — другая тема…
На одном из заседаний ЛИТО Геннадий Самойлович Гор — он сменил приболевшего Слонимского — поинтересовался, пишет ли кто-нибудь роман. Или все увлечены малой и средней формой? Кое-кто признался, что пишет. Я тоже брякнул, что пишу, — зачем соврал, не знаю. Так, из бахвальства.
После заседания, направляясь к выходу извилистым полутемным коридором — обычно нас выпускали с черного хода опустевшего полуночного Дома книги, — я оказался рядом с Геннадием Самойловичем.
— Как называется ваш роман? — спросил Гор.
— «Гроссмейстерский балл», — ответил я, удивляясь сам себе. Столь необычное сочетание слов было услышано мной буквально этим утром по радио. Два гроссмейстерских балла являлись непременным условием получения звания гроссмейстера по шахматам.
— Хорошее название, — кивнул лобастой головой добряк Гор. — С загадкой и в то же время с манком. Но роман, вероятно, не о шахматистах?
— Роман… ну… Молодые инженеры, вчерашние студенты, мои коллеги, — врал я без энтузиазма…
В грохоте колес вагона метро я обкатывал в памяти название моего эфемерного романа. Ничего не стану выдумывать, буду писать все как есть. О том, что меня окружает на заводе, в подвале гостиницы Пулковской обсерватории: нищенская зарплата, неустроенность, экономические вопросы. Сердечные увлечения, которые с женитьбой обретают притягательность запретного плода. Любовь, измена, предательство дружбы… И об этом надо писать. В том же «исповедальном» ключе. Хватит мне потрошить свои пьесы, оставлю старика-тестя в покое. Да и сам отдохну от этих графиков в поисках точки пересечения зрительского интереса с замыслом драматурга. Все! Решено…
Так на перегоне метрополитена от станции «Невский проспект» до станции «Парк Победы» я определил свою дальнейшую судьбу.
— Папуля, ты проспал мой детский сад.
Продираю глаза, очумело смотрю на доченьку. Ирина стоит в своей кроватке, смуглые пальчики цепко оплели деревянный бортик. Черные большие глазенки лукаво плещутся на добром улыбчивом личике, длинная фланелевая рубашка, розовая в горошек, уже не прячет ножки — Ирише пошел четвертый годик…
На часах — восемь. Лег я спать в четыре утра. Бросаю взгляд на секретер. Выдвижная полка хранит исписанные карандашом желтоватые листки моего будущего романа. Мне нравится писать на такой бумаге и карандашом, вошло в привычку со времени ночных посиделок в геофизической партии…
— Все командуют мной, — ворчу я. — Мама командует, теперь ты начинаешь. — Под скрип терпеливого складного дивана я выползаю из-под одеяла. — Что будем делать?
— Будем писать, — объявляет доченька.
Я подхватываю ее на руки и несу в туалет… Знал бы я тогда, что через пятнадцать лет моя красавица дочь выйдет замуж, эмигрирует из России в Америку, поселится в Нью-Йорке, познает в совершенстве английский и французский, поработает в ООН, разойдется с мужем, объездит и облетает Европу, Африку, Австралию, Японию, Южную Америку, Тихоокеанские острова и архипелаги, выйдет вторично замуж, поселится в Калифорнии, в большом доме славного городка Монтерей, в довольстве и согласии, но сохранит зуд к перемене мест. А пока… Покончив с туалетом, я начинаю натягивать на нее заранее сложенные на табурете вещицы, маленькие и смешные. Вскоре доченька, в своей мутоновой шубке с поднятым капюшоном, подпоясанная цветным шнурком, напоминает игрушечного ямщика. Когда я приведу ее в детский сад и сдам жене — та работает воспитательницей в саду, — Лена соберет всех своих коллег, чтобы показать, во что ее «писатель» превратил безответную девочку.
И примется распутывать этот куль, чтобы найти там свою доченьку…
А я в это время уже буду трястись по Пулковскому шоссе в автобусе № 55, выстраивая в голове сюжет следующей главы. Занимаясь литературой вот уже более сорока лет, я не изменил своей методике — не строить заранее сюжет. Работая над одной главой, я не представляю, что ждет моих героев в следующей. Поначалу такой метод возник от безалаберности и необузданности характера, потом вошел в привычку. Хотя этот метод и мог завести в тупик, заставляя сожалеть о допущенной слабости в начале работы, но он имел и несомненные преимущества — пробуждал охотничий инстинкт. Поиск передается читателю, пробуждает любопытство — а это главная задача автора. Но метод срабатывает при одном условии — герои сочинения должны быть живыми людьми, с биографией, со своей судьбой. Только тогда они сами поведут сюжет…
Автобус встряхивает на неровностях шоссе. Мысль вильнула в другом направлении — удалось бы на месячишко уйти в свободную от работы жизнь, я бы закончил роман. Деньги есть: журнал «Нева» опубликовал рассказ, должен получить триста рублей. Рассказ так себе, но деньги сумасшедшие — три месячных бюджета семьи. Но я их не увижу — жена уже расписала все до копейки, дыр скопилось достаточно… К тому же сердце вновь стало пошаливать — визит к доктору в платной поликлинике стоит полтора рубля, еще и лекарства. И телефонные переговоры с Баку уводят немалую копейку, хоть я и скрываю их от жены, бегаю на переговорный пункт. Отношения между Леной и моими родителями уже дали зримую трещину. И по вине жены. Как моя мать к ней ни подлаживается — все не так, а живут на расстоянии в три тысячи километров друг от друга! А все теща со своим вздорным характером. Мое общение с ней — сплошной нервный напряг, часто срывающийся в бурные объяснения — а что делать: живем в общей квартире… Я распалялся… Если плюнуть на все, уйти, снять комнату… А как же Ириша? И сердце барахлит. И к секретеру привык, так уютно сидеть ночью, накрыв настольную лампу старой юбкой жены с прорехой, что пропускает на потолок одинокий лучик. Становится жаль себя, невыносимо жаль… И потом, как я могу уйти, когда Лена поступила на вечернее отделение Финансово-экономического института? Пусть закончит институт, а там посмотрим, с облегчением решил я, уводя себя от радикальных решений. Стало полегче. Даже сердце перестало колоть… Все же фартануло мне с этим гонораром за рассказ в «Неве». И с Карой познакомился, Сократом Сетовичем, членом редколлегии журнала «Нева», он редактировал рассказ. О том, что Кара отстаивал рассказ на редколлегии перед главным редактором Сергеем Ворониным, я узнал от обольстительной большегрудой секретарши редакции Антонины. Мне редко доводилось видеть подобную грудь, необузданный рельеф которой вздымал на невероятную высоту плотную ткань кофты, а фантазия рисовала ее самым изнурительно-сладострастным образом… Сократ Сетович Кара появился в холле редакции, согнув в талии хрупкую фигуру, тяжело переставляя перед собой две палки, о которые опирался руками. Большие южные глаза с желтоватыми белками печально взирали из-под густых ресниц. Я почувствовал неловкость и вину за свою молодость и энергию. Еще за то, что докучаю личными интересами такому больному человеку. Кара опустился в кресло, отложил костыли и чудодейственно превратился в моего ровесника, словно повернул волшебный ключик. А тихий голос с восточным акцентом окончательно меня покорил. Несчастьем своим Кара обязан войне, на которой его контузило. У него не было громкого литературного имени, он больше был известен как киносценарист. Так, задолго до «шумной славы» главного редактора «Октября» Кара переложил в сценарий роман Всеволода Кочетова «Журбины». И как бы восстанавливая идеологический баланс, написал сценарий к фильму «Степан Кольчугин» по роману Василия Гроссмана. Поставила его жена Кары — Тамара Аркадьевна Родионова. Фильм долго колошматила «прогрессивная» критика, и в конце концов его задвинули в кладовые проката.
Но мне хочется вспомнить не былые литературные драчки — тем более что многое вызывает сейчас недоумение своей глупостью — хочу вспомнить другое: удивительную чистоту отношений, что я наблюдал на протяжении нескольких лет в семье Сократа Сетовича. Самоотверженность, с какой красавица-сибирячка Тамара Аркадьевна — а все, кто ее знал, это подтвердят — заботилась о своем годами прикованном к постели муже Сократике. Все, начиная от убранства постели с безукоризненно чистым накрахмаленным бельем, подноса, на который для удобства больного собиралась любимая восточная еда, и кончая специальным приспособлением для письма и работы, было отмечено особой заботой — заботой не жалостливой, а влюбленной женщины. Я завидовал этому. Я нес свою зависть через город, от центра, где жили Кара, до южной окраины, где жил я. Втаскивал свою зависть на третий этаж в одиннадцатиметровую комнату и слышал в ответ от жены: «Если бы я днем не работала и не училась вечером… если было бы достаточно денег, чтобы отдать белье в стирку с крахмалом… если бы ты был контужен и передвигался на костылях… — то я бы посмотрела, кто кого. А то — ишь! Тоскует по крахмальному белью, пижон. От крахмала белье ломается и рвется!» Под убедительностью сослагательных наклонений я конфузливо «линял» в туалет с журналом в руках, в свой земной рай. Умом я понимал, что Лена права, что я не имею права на подобные претензии. А сердце тоскливо ныло — есть же настоящий рай на земле, «не туалетный», почему же мне так не повезло? Слезы жалости к себе капали на страницы нового «исповедального» романа. Какое дивное название: «До свидания, мальчики». Роман прелестный — умный, нежный, мужественный. Три героя, три мальчика. Так же, как и мой недописанный роман с тремя героями. И автор явно того же замеса, что и я, — Борис Балтер. Напечатали же… Воодушевленный, покидаю укрытие и крадусь к своей амбразуре-секретеру. Время от времени бужу Лену и читаю написанное, вслушиваясь в ее реакцию: не спит ли? Если слушает, мое сердце наполняется нежностью и желанием долгой семейной жизни. Но чаще доносится застенчивое похрапывание. «Конечно, — оправдываю я жену, — она устает. Весь день на работе, потом дом, Ириша, вечерний институт — трактор не выдержит», — а память вновь проявляет образ Тамары Аркадьевны: той, поди, не легче, но вряд ли она прихрапывает, когда Сократик читает ей свои сценарии…
Летом семейство Кары обычно выезжало на дачу Литфонда в Комарове. Я навещал их. Тамара Аркадьевна печатала на машнке сценарий Сократа Сетовича, написанный по мотивам романа Пермяка «Серый волк». Как-то я пристроился на крылечке с отпечатанными страницами. Сквозь узорные оконца веранды ближней дачи я видел пожилую женщину в накинутом на плечи цветастом платке. Она вышла на крыльцо — грузная и в то же время высокая, статная. Платок особо оттенял величавость крупного лица. Анна Ахматова… Я тогда не проникся для себя значимостью той минуты, был непростительно легкомыслен. Нас разделяло расстояние не более чем метров в двадцать, казалось, я даже слышу ее дыхание. И почти каждый раз, приезжая в гости к Каре, я видел Анну Андреевну — то на веранде, то сквозь оконное стекло дома, то на участке. Часто не одну, а с дамой — матерью артиста кино Алексея Баталова. Однажды на веранде собралось несколько молодых людей, среди которых я различил и знакомые лица — Евгения Рейна и Иосифа Бродского — они иногда захаживали в ЛИТО, к своим друзьям: Борису Бахтину, Яше Гордину, Володе Марамзину… На веранде было весело: доносился смех, обрывки фраз. Временами пластался ровный шорох — видно, читали стихи или слушали Анну Андреевну. Тогда я не знал, что являюсь невольным, хоть и сторонним свидетелем крупного литературного события — встреч Ахматовой с Иосифом Бродским и его друзьями.
Автобус № 55, отфыркиваясь, взбирался на Пулковский холм. Начинался рабочий день. На дальнем пикете, что высится над обрывом, я выставлю очередной серийный градиентометр, а сам, пользуясь уединением, просмотрю страницы, над которыми работал минувшей ночью. И так уже который месяц…
Это произошло неожиданно. Ночью. В начале второго. Я поставил точку и вдруг понял, что закончил роман. Конечно, я готовился к этому, знал, что сюжет на исходе, что дальше пойдет уже другая история. Но чтобы вот так, неожиданно, словно заяц из-под куста… Я смотрел на чистый остаток листа, помедлил и поставил дату, словно помечал заявление. Пустота… В состоянии опустошенности наркоманы вгоняют новую дозу. Некоторые писатели начинают сразу же, в продолжение листа, новый роман. Некоторые с головой уходят в безоглядный загул. Один писатель после каждого нового романа менял жен… Много есть способов отметить окончание большой работы. Я сидел, глядя в ладонь секретера, словно в стену тупика. Успокаивало лишь то, что я твердо знал, кому первому покажу роман «Гроссмейстерский балл»…
Сократ Сетович Кара вежливо принял рукопись. Тамара Аркадьевна нарезала соленых огурчиков, открыла баночку со шпротами и наполнила водкой три рюмки…
Через несколько дней Кара сообщил по телефону, что роман в целом ему понравился и он передал рукопись главному редактору «Невы» Сергею Воронину. Сказал он это тускло, без энтузиазма, что-то недоговаривая…
Воронин отверг роман с титульной страницы, не читая. Кара был обескуражен — он полагал, что будет хотя бы какой-то разговор, хотя бы видимость обсуждения. Воронин даже и разговаривать не желал. Почему? «Потому, что роман хорош. И потому, что его написали вы. Роман — не рассказ… Не понимаете? — нервничал добряк Сократ Сетович. — Вы знаете мою историю? Моя настоящая фамилия Кара-Демур Вартанян. Длинная, неуклюжая, но моя. Отца обвинили, что он дашнак, член буржуазно-националистической партии „Дашнак-цутюн“. Дорогу в институт мне перекрыли. В Тбилиси косо смотрели на армян, все армяне — дашнаки. Я стал просто Кара-Демур, без Вартаняна. В пятом пункте проставил национальность „курд“, благо мой отец был наполовину курдом. Удалось закончить институт. Переехал в интернациональный Ленинград, колыбель революции. Вождь коммунистов Киров увидел в газете очерк, подписанный Кара-Демуром. „Он кто? Француз? Де Мур?“ — спросил вождь у главного редактора газеты. Этого вполне было достаточно, чтобы меня перестали печатать. И я стал подписываться „Кара“. Так, после двойного обрезания меня приняли как нормального человека. Вам, Илья, обрезать нечего, во всех смыслах. Поставьте фамилию… Штеменко, и Воронин прочтет рукопись. И уверен, что напечатает… Кстати, этот Штеменко, известный генерал, не ваш ли более предприимчивый родич?.. На Воронине свет клином не сошелся. Покажите в „Звезде“ Холопову. Вообще, мой совет: распечатайте рукопись и пошлите в разные адреса». Так я и сделал…






