Звонок в пустую квартиру Штемлер Илья
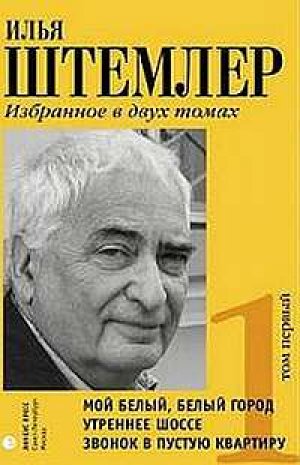
С чего начинается жизнь? С какого момента человек начинает осознавать это состояние? С детства? С юности?.. Все индивидуально. У меня, к примеру, все началось с вполне взрослых лет, в 1958 году.
Я безработный. В июле 1958-го я значился инженером-оператором конторы «Нижневолгонефтегеофизика» с окладом 790 рублей в месяц, а в сентябре я — ленинградский безработный…
Еще этот дождь, однообразный, тягучий, без перерыва на обед. Зонтик охромел на два стержня и напоминал фуражку с высокой тульей. И туфли промокли: правая киснет у пальцев, а левая, наоборот, у пятки. «Вместе они сольются в области предстательной железы», — мрачно думаю я, начитавшись популярной медицинской энциклопедии. Впрочем, мне сейчас не до шуток.
Стою под навесом темного портала на углу Невского и улицы Гоголя,[1] с тоской взирая на тротуар, что ведет к цели моего сегодняшнего хождения. Асфальт тротуара шелушится дождевыми каплями, напоминая темнокожее лицо после оспы. Цель моего сегодняшнего похода — отдел кадров завода «Геологоразведка». Накануне я услышал радиоинформацию, что заводу требуется специалист моего профиля для работы в отделе технического контроля, в просторечье ОТК. Вот он я! Инженер-геофизик, молодой специалист с трехлетним стажем. Готов на любую работу, тем более по специальности.
Я спешил не чуя ног. Все верно. Требуется молодой специалист. Необходимо подать заявление в отдел кадров и завтра явиться за ответом… Я торопил ночь, но она, как никогда, была ленива, беременна темными сырыми тучами, а под утро разродилась дождем. И каким дождем, словно хотела оправдать необычайно сухое лето. Добираться от Нарымского проспекта[2] в центр города в такой дождь можно только ради сверхважного дела. И я добрался. Осталось несколько десятков метров, как ливень все-таки законопатил меня в кисловатый зев сберкассы, выходящей углом на Невский проспект.[3] За моей спиной, в глубине операционного зала, счастливцы снимали деньги со своих счетов, более счастливые, наоборот, сдавали деньги, вероятно лишние. У меня никогда не было лишних денег, у меня никогда не было сберкнижки, а мне уже двадцать пять. Есть жена Лена, воспитательница в детском саду, через несколько месяцев появится ребенок. Есть одиннадцатиметровая комната в квартире родителей жены, есть круглый раздвижной стол, купленный на деньги при расчете за сталинградские деньки, есть два мягких стула — подарок моего дяди к свадьбе, есть сладкое прибежище — диван-кровать — совместные усилия родителей. Господи, как много уже есть, если подумать, а сберкнижки нет, серо-голубой, с распластанным гербом. Нет этого символа благополучия… В темном боковом стекле отражается моя физиономия, достаточно жалкая, напоминающая мордочку хорька; еще эти черные усы. Точно у Манолиса Глезоса, греческого коммуниста, томящегося в застенках черных полковников, чей образ запечатлен на висящем перед моим носом плакате с призывом «Свободу Манолису Глезосу!»…
«Работу Израилю Штемлеру!» — произношу я про себя и усмехаюсь. Израилю! Имя, которое на Руси, скажем прямо, не очень популярно, и вслух произносить его как-то неловко. Но с некоторых пор меня просто подмывало к месту и не к месту выставляться с этим именем… Казалось, я носил на лбу наколку с непотребным словом, не примиряло даже отчество — Петрович…
Так, распаленный ситуацией, я выставил свой инвалидный зонтик и отчаянно вошел в водяную стену, благо путь предстоял короткий: завод размещался метрах в тридцати отсюда, на улице Гоголя по соседству с домом, в котором 25 октября 1893 года скончался Петр Ильич Чайковский.
Влажными пальцами стягиваю с рычагов телефонную трубку и набираю номер отдела кадров. Подобострастно сообщаю кадровику свою фамилию, невнятно прожевываю имя и четко проговариваю отчество.
— Израиль Петрович?! — переспрашивает невидимый распорядитель моей судьбы. — К сожалению… место занято. Ваши документы спущены в охрану завода.
— Как?! — лепечу я. — Вы ведь сказали, что… Какая охрана? — но в душевом кружочке телефонной трубки дразнилкой пикают звуки отбоя.
На ватных ногах я двинулся к оконцу охраны, оставляя на треснутых квадратах кафельного пола мокрые восьмерки подошв. Вялым голосом доношу в оконце фамилию, фиксируя взглядом свой диплом, что предупредительно лежит на столе вместе с заявлением о приеме на работу. Черт бы вас побрал! Я вижу сонные глаза вахтера, лоб, суженный лакированным козырьком фуражки, и сизые мочки ушей. А дождь колет пиками узорные стекла тяжелой входной двери, внушая мысль, что обратного хода нет. Погода вообще нередко распоряжается моей судьбой…
Перепуская одну-две ступеньки, я взметнул себя на второй этаж, подстегнутый воплями вахтера. Кривой коридор освещался слепыми лампами. Вот и дверь отдела кадров… бесполезно! Дальше бухгалтерия и касса (увы!), далее — профком (побоку!) и, наконец, приемная директора. Вламываюсь! Справа табличка — «Главный инженер Цуканов Я. Г.», слева — «Директор Туниманов А. З.». Прямо по курсу — секретарь директора (ох, как я их боюсь!). К счастью, секретаря на месте нет, приемная пуста. Дверь слева приоткрыта ровно настолько, чтобы просунуть голову.
— Что вам угодно?! — Из-под густых черных бровей на меня смотрят глаза кавказского человека (распознаю всегда, сказываются долгие годы жизни на моей родине, в Баку).
— У меня семья! — выпаливаю я. — Должен родиться ребенок.
— Ну и что?! — Густые брови в удивлении встали домиком. — У меня тоже семья. И двое детей. — Директор Туниманов А. З. шарил рукой, нацеливаясь попасть в рукав синего плаща.
— А то! Меня не берут на работу на ваш завод. Отказали. Я инженер-геофизик со стажем. Завод дал объявление, что требуются. И не берут. Что им не понравилось? Может быть, моя национальность?
— Интересно. — Директор оставил рукав плаща. — Сразу так?
— А как же. — Я понимал, что сжег мосты, остается только вперед, и, едва сдерживая слезы, пробубнил: — Инженер-геофизик. Ленинградская прописка…
— А пятый пункт хромает, — с непонятной интонацией прервал директор. — У меня тоже с пятым пунктом не все в порядке, если верить вам. Однако я директор завода… Глупости все это.
Я молчал. Продолжать дискуссию бесполезно, ибо недоказуемо: известно, что в нашей стране все равны, и нечего баламутить… Нет ничего горше ущемленного национального достоинства. Странное состояние — здоровый физически, вроде не совсем уж и дурак и внешне вроде не урод, а хочется сжаться, спрятаться куда-нибудь, затеряться в толпе, когда вдруг слышишь слово «еврей». За какую такую провинность? Помню, в детстве, желая оправдать себя за очередную драку на улице, я сообщал маме или бабушке: «Они мою нацию задели». И все сходило с рук. Я вступил в драку, защищая честь…
Детство позади. Мне уже двадцать пять. Но по-прежнему чувствую на своем лице и руках шагреневую кожу, что, стягиваясь, обнажает нервы… Хочется уйти, исчезнуть, пройти слепым коридором на улицу, в дождь, где все равны под своими зонтами. Смуглые пальцы директора, заметно покрытые темным пушком на фалангах, цепко держат мой диплом и заявление с отказом.
— Вы что, из Баку? — произносит Туниманов.
— Да. Из Баку. — В интонации директора я улавливаю заинтересованность. — Вы были в Баку?
— Родился там. Садитесь. Вот вам лист, перепишите заявление.
Я шел коридором, тем самым коридором, который мгновение назад казался дорогой в никуда. Теперь это был светлый, нарядный коридор, и даже лисьи мордочки ламп, забранных в тюремные намордники, выглядели яркими светильниками. Память запоздало проявила слова благодарности на армянском языке, которые тщетно пытался вспомнить в кабинете директора. И хорошо, что не вспомнил, подобное он мог бы расценить как нагловатое панибратство. Азербайджанский-то язык я знаю хорошо, а вот армянский похуже, как и многие ребята в моем белом городе детства…
Человек, под начальство которого меня отрядили, носил фамилию Черемшанов. Кривые ноги заметно выгибали штанины лоснящихся серых брюк, над которыми высился мощный торс, обтянутый серым пиджаком. Под темной челкой, как бы минуя лоб, зыркали маленькие глазки.
Некоторое время они обиженно смотрели в заявление, медленно процеживая строчки, потом вскинулись на меня.
— Посиди-ка тут!
Черемшанов вышел из кабинета. Вернулся насупленный.
— С чего это ты решил? В отделе работают люди твоей нации. — Он начал перечислять фамилии, загибая пальцы. Словно удивляясь этому факту.
Я проработал на заводе девять лет под руководством Ивана Алексеевича Черемшанова. И ни разу между нами не было никаких конфликтов. Наоборот. У нас сложились прекрасные отношения. Он мне говорил: «Понимаешь, Израиль, я ничего против вас не имею, еврейцев. Но только ты не обижайся, — он страдальчески морщился, — многовато вас, понимаешь». — «Как же многовато, Иван Алексеевич, — просвещал я своего шефа, — меньше одного процента. На всю страну». — «Что ты говоришь?! — искренне удивлялся шеф отдела технического контроля. — А впечатление, что на каждый второй рассчитайсь! Нет, я не против, только вот люди говорят: „Окружили тебя, Иван, гляди, сделают тебе обрезание, и не заметишь…“ Ладно, сними грех с души, не обижайся».
Особо заладились наши отношения после публикации романа «Гроссмейстерский балл». Черемшанов ходил гоголем. Как я ни разуверял его, что у героев романа нет прямых прототипов, втайне он был убежден, что дело без него не обошлось (и он был прав). Представляю его огорчение, узнай он, что один из главных мерзавцев романа был наделен некоторыми чертами его характера, — человеку свойственно видеть себя в положительных образах… Но на чужой роток не накинешь платок! Поговаривали, что, когда часть завода эвакуировалась из блокадного Ленинграда, оставшимися цехами руководил Иван Алексеевич. Он очень любил остроумные выходки, просто с ног валился от хохота, когда удавалось. И в войну не терял чувства юмора. Подходил к падающему от голода механику и сочувственно говорил: «Есть хочешь, бедняга, возьми вот жменю сахара, подкрепись». Тот доверчиво брал. Только не сахар, а… соль. Эффект был взрывной как для доходяги-механика, так и для самого директора. И народ вокруг оживлялся, просыпался от голодной дремоты и продолжал сверлить и точить во имя Победы. Вот таким манером поддерживал дух в блокадном городе смешливый наш Иван Алексеевич.
Магнитная станция, где испытывали и настраивали продукцию завода после сборки, находилась в поселке Мельничный Ручей под Ленинградом. «Поместье» Ивана Яковлевича Бедекера — директора станции — размещалось у самого леса и состояло из нескольких специально оборудованных деревянных домов, пикетов, избы-хозблока и фруктового сада. По утрам сотрудники станции садились у завода в автобус и отправлялись в Мельничный Ручей, на работу. С одной остановкой у пивного ларька на станции Ржевка. Со сна пиво пили молча, сосредоточенно, с ожесточением. Пил и я, не казаться же белой вороной — пиво я не любил.
В воротах станции бригаду встречал Бедекер — худой, поджарый, горбоносый, из обрусевших немцев. Он слыл специалистом по юстировке магнитометров М-2, весьма популярных тогда в магниторазведке и составляющих основную продукцию завода. Бедекер пытливо вглядывался в лица приехавших сотрудников, пытаясь определить степень пивного воздействия, с тем чтобы отделить наиболее «поддатых» от общей массы с целью дальнейшего приведения в рабочее состояние при помощи спецсредств: рассола, уксуса или хлеба с маслом. Кто утром не успевал дома позавтракать, этим пользовался… Откровенно говоря, какая может быть пьянка?! Пиво не водка! Но Бедекер был суров. Правда, нет-нет да и сам прикладывался втихаря к концу рабочего дня — он хоть и был из немцев, но обрусевших. Иначе говоря, большую часть рабочего дня он был из немцев, меньшую — из обрусевших.
Еще Бедекер любил охоту. В начале месяца, когда производство завода — как и вся промышленность страны — по каким-то особым законам «медитации» находилось в летаргическом сне, Бедекер бегал по лесу с ружьем и собаками, как Троекуров. Иногда что-то приносил, в основном из зазевавшихся пичуг или запоздавших уток. Как-то после долгого отсутствия он, в сопровождении лая и скулежа собак, принес зайца. Оставил на кухне и гордо удалился. Каково же было удивление Нюры — кастелянши и поварихи, — когда в мешке с зайцем она обнаружила чек сельского магазина. Находка стала достоянием общественности. «А что, Иван Яковлевич, зайцы теперь бегают по лесу с чеками в зубах, для удобства?» — допытывались настырные механики. Бедекер грозил ружьем и зыркал на Нюру огненным взглядом… Словом, на станции было весело. Я любил эти командировки. Особенно в конце месяца, с двадцатых чисел, когда завод просыпался от спячки, гнал производственный план — приходилось уплотнять и свой график. А когда на испытание поступали авиационные магнитометры М-13, приборы особой чувствительности, приходилось работать и ночью, пользуясь временем, свободным от движения электричек, что «загрязняли» фон, наводили искажения. Как-то во время череды моих безвылазных бдений над М-13 из города вернулся Бедекер со свежей газетой «Смена». Ввалился в мой отдаленный домик, где, в ожидании окончания технологического цикла, я сидел у стола и предавался «черному» делу — покрывал безответный лист бумаги диалогами героев новой пьесы.
— Слушай, Израиль, — сказал Бедекер, хитро вглядываясь в мои бумаги. — Тут объявился твой однофамилец, писатель Илья Штемлер. Получил премию газеты за рассказ. Не родственник ли? И рассказ о геологе, а?
Я обомлел. В свое время молодежная газета «Смена» проводила конкурс на лучший рассказ 1959 года. Конкурс под девизом — стало быть, объективный. Я послал рассказ «Разговор с уведомлением», написанный еще в Сталинграде, — я еще вернусь к истории этого рассказа. Девиз выбрал «Серебристая цапля», запечатал в конверт и послал отдельно от пакета с рассказом. И вот пожалуйста — итог.
— Ну что? — продолжил Иван Яковлевич Бедекер тоном следователя. — Родственник или однофамилец? А может быть, ты сам сочинил?
Я признался.
— Так я и думал, — втянул воздух горбатым носом Иван Яковлевич. — Ты что же? Здесь — Израиль, там — Илья. Народ должен знать своих героев! Выбирай одно. Хочешь анекдот? Рабинович надел нательный крест и пошел в баню. Народ ему советует: «Рабинович! Или сними крест, или натяни трусы. А то разночтение получается…» То-то. Кстати, что Илья, что Израиль — корни одни…
— Между прочим, Иван тоже вроде не исконно чистое имя, — съязвил я. — Из того же корня.
— Иоанн! — Бедекер поднял палец к потолку. — Разница! Да, вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, — пропел он, направляясь к двери, на пороге остановился: — Слушай, тебя переводят отсюда. В Пулково, в гравиметрическую лабораторию. Повышают. Знаешь, нет? А жаль. Привыкли мы к тебе. Может, и меня пропишешь в каком-нибудь рассказе. — Он вышел навстречу собачьему визгу и лаю.
— Ура! — крикнул я в голос и развернул газету.
В лесной тишине деревянного дома тренькнуло стекло. Сыто покоилась на козлах гондола авиационного магнитометра М-13… Я пробежал глазами шапку рассказа. Хоть пляши! Первой, о ком я подумал, была Кира Успенская. И показал язык… Как раз на прошлой неделе, в обед, я поднялся в издательство «Советский писатель», что размещалось на третьем этаже Дома книги. Привело меня туда желание попасть в Литературное объединение. Но строгая молодая женщина, секретарь ЛИТО Кира Успенская, перелистав мои рукописи, сказала, что «не по Сеньке шапка», что в их ЛИТО допущены люди одаренные, высокой литературной пробы, а мне, судя по всему, надо испытать себя где-нибудь в менее профессиональном месте, скажем, пойти в ЛИТО при журнале «Нева» или при библиотеке Маяковского. Я обиделся, ушел… И вот теперь-то я утру им нос…
Позднее я подружился с Кирой, она оказалась славным, доброжелательным человеком. Но историю ту не вспоминали…
Лаборатория находилась в подвале гостиницы при Пулковской обсерватории. Дежурная гостиницы вызывала меня к телефону: «Штемлера из подвала!» Завод арендовал подвал совместно с Институтом геологии. Пулковский холм был выбран в связи с относительно устойчивым сейсмическим фоном, необходимым для наладки чувствительной гравиметрической аппаратуры, детищем института. Так что подвал делила заводская бригада вместе с учеными. Там я и познакомился с Георгием Сергеевичем Васюточкиным — невысоким, худощавым, с тонким болезненным лицом, отмеченным серыми глазами и удлиненным носом над узкими смешливыми губами, — человеком одаренным и сведущим во многих областях. Его тихий, интеллигентный говор вгонял в оцепенение двух заводских алкашей-механиков, у которых из частей речи сохранились лишь предлоги и союзы. Но механики они, Вовшин и Зейц, были отменные. Я и раньше наблюдал этот феномен — при определенном пороге опьянения руки моих механиков отлично справлялись с ювелирной работой. Трезвым это им не всегда удавалось, возможно, по причине скуки. Перевалив же этот порог, они нарабатывали сплошной брак. Однако определить его в граммах водки я не мог, как ни старался…
Васюточкин был разносторонней личностью. Знаток поэзии Серебряного века, он обладал феноменальной памятью, вкусом, разговаривал по-английски, слыл теоретиком классического джаза, коллекционировал все, что касалось этого искусства, а подобное для казенного времени шестидесятых годов расценивалось не только каким-то эпатажем, но и в некотором роде вызовом системе. Васюточкин был скрытен, тих и скромен. Надо отметить, я отношусь к слишком уж скромным людям с некоторым подозрением. Не раз убеждался в остроте их зубов, ядовитости языка и хамелеонности натуры. Так что не особенно стремился к сближению с ним — работали мы в разных углах просторного сырого подвала. Но однажды на какой-то полуофициальной джазовой тусовке в Доме культуры пищевиков, к своему изумлению, узнаю в тщедушном лекторе нашего Георгия Сергеевича.
Подтверждая наблюдение, что мужчины невысокого роста, худощавые, подвижные, ничем не приметной наружности (за исключением глаз) добиваются в жизни гораздо большего, чем видные и авантажные, Георгий Сергеевич не раз удивлял всех, ловко проворачивая, казалось, безнадежные дела. Его группа занималась разработкой макета квантового магнитометра, и позарез были нужны несерийные элементы для оптического канала. А год стоял 1962-й. Время суровых правил секретности, время наказаний без преступлений. История о том, как Георгий Сергеевич без сверхдопуска проник в Институт кристаллографии и в коридоре, узрев академика Шубникова, в течение трех минут заполучил от старика, совершенно бесплатно, несколько дорогостоящих пленочных поляроидов, — эта история меркнет в сравнении с историей, как наш Георгий Сергеевич обаял сурового академика Иосепьянца, проникнув на территорию сверхсекретного оборонного бюро Министерства среднего машиностроения, и вынес оттуда два малоинерционных фотодетектора.
Изумленный академик, выслушав просьбу Георгия Сергеевича, задал один-единственный вопрос: «Как вы сюда проникли?!»… Принимая все это во внимание, я ничуть не удивился, когда узнал, что Васюточкин стал депутатом Ленинградского горсовета. А ныне он — активный член элитарного Всемирного клуба петербуржцев. Вот каков на самом деле скромный и неавантажный мой приятель, дай Бог ему здоровья! Ибо недавно слышал, что какие-то мерзавцы ударили его по голове на родном Васильевском острове, ночью, со спины, куража ради. Васюточкин едва оклемался… Кстати, именно в доме у Васюточкина я познакомился с поэтом Виктором Кривулиным, с которым в дальнейшем столкнулся по работе в Пен-клубе… Но не буду отвлекаться в самом начале «плавания по волнам житейских воспоминаний».
Словом, бытие мое в роли инженера завода, рутинная работа навевали скуку. Подвальное существование без дневного света вызывало ломоту в костях, а водочный дух, что тянулся от механиков Вовшина и Зейца, пробуждал тоскливую мысль о том, что где-то люди живут иначе. Вот есть остров Свободы, далекая Куба, портреты вождя которой, молодого бородача, почти моего ровесника Фиделя Кастро Руса, заполонили страницы всех газет и из-за которого однажды чуть ли не отметили друг другу физиономии мои славные механики, утверждая, что Рус он на то и Рус, что из наших, русских, из-под Вологды, откуда злой судьбиной были пленены его предки при Наполеоне. Поэтому он и тянется к России: кровь — не водица. Так-то… Да и на орбиту тогда же запустили тоже почти моего ровесника — первого космонавта Юрия Гагарина…
Все это в те годы отвлекало обывателей от трудной бытовухи, от бесконечных очередей за всем, начиная от картошки и кончая автомобилями. Не унывайте, граждане! Научно-технические достижения и международные успехи — признаки возрождения страны, но пока вам это не понять в силу серости и узости мировоззрения…
Я входил в положение страны и радовался вместе со всеми, получая в месяц зарплату, которой с лихвой хватало на сносную жизнь семьи из трех человек… дней на десять. Преимущество у этой работы было одно и существенное: свободное время. Отдаленность от завода создавала в подвале атмосферу вольницы — эдакая свободная экономическая зона. Появился источник дохода, правда, не совсем законного. И я не мог не воспользоваться возможностью чем-то компенсировать свою «хорошую, но маленькую зарплату». Из геофизических экспедиций страны к нам на завод привозили в ремонт градиентометры. Этим мы и пользовались. Хотите ремонтировать — пожалуйста, дожидайтесь своей очереди. А если не терпится, если на носу полевые работы, если срывается график— пожалуйста, мы в свободное от работы время произведем ремонт, но за особую плату. И дело пошло! Порой при четырех плановых приборах выпускали шесть левых, ремонтных. Любили мы это занятие — живые деньги шли… Возможно, в те далекие годы начала шестидесятых и была проложена просека к роману «Коммерсанты». Впрочем, коммерцией впервые я занялся в детстве.
Южное бакинское солнце лепит на асфальте причудливые контуры домов. Чтобы побороть скуку, я, десятилетний коммерсант, старательно шагаю по кромке рисунка, повторяя его изгибы. Задрипанный портфель воровато вспух от двух великолепных, тисненных золотом томов «Школы игры на фортепиано» Бейера и «Сонатин» Клементи. Ноты мне купила бабушка, Мария Абрамовна. «Внук мой будет играть на пианине. Или я буду не я», — всем говорила бабушка. Ноты она купила на толкучке, где в военном сорок третьем продавали с рук всякую мелочевку: круглый американский шоколад, иранские финики, местный соленый сыр-мотал, белые куски буйволиного масла, теплые носки из американских посылок. Моя бабушка имела на толкучке «точку», вроде крохотного магазина. Товар она раскладывала на перевернутом ящике. Бабушка слыла удачливой торговкой и, как правило, возвращалась домой с выручкой от своей мелкой спекуляции. А что было делать: на зарплату одной мамы — бухгалтера в Институте физкультуры — не проживешь. А отец мой, Петр Александрович, воевал солдатом, аттестат ему не полагался. А тут еще внуки — я и моя сестра Софья. Их надо не только кормить, но и обучать музыке…
После каждого занятия я, глотая слезы, осматривал плечо, в которое тыкала острые пальцы училка, заставляя меня правильно держать музыкальный счет. В отместку я избавлялся от ненавистных нот, таская их на другой толчок, книжный, скупщику — одноглазому старику-армянину. Тот при виде товара поднимал вверх палец, вскидывал на меня единственный глаз и спрашивал: «Дома знают?!» И я отвечал, ничуть не смущаясь: «Дома все голодные и больные. Только я еще хожу». — «Хороший мальчик, — говорил старик, отсчитывая деньги за ноты. — Большой будешь жулик».
А вот пример другой просеки к роману «Коммерсанты», еще одного личного опыта в области коммерции, но он относится уже к более зрелому возрасту… Дошел до Ленинграда слух о том, что последний писк моды — механическая бритва «Спутник» — пользуется огромным уважением на далеком юге среди тамошнего мужского населения. Бедолаги ходят со щетиной на щеках, ленятся бриться. И эта диковинка начала шестидесятых годов была бы им весьма кстати.
А надо сказать, что по какому-то стечению обстоятельств в нашем пулковском магазинчике скопилось множество этих самых «Спутников». Астрономы — ученая элита, белая кость — предпочитали пока бриться по старинке: помазком и лезвием. Ну и ладно. Я поднапрягся, залез в долги и, собрав нужную сумму, скупил все бритвы. Остальное зависело от сноровки: хочешь в отпуск поехать на юг с семьей, как подобает заботливому мужу и отцу?! Вот тебе шанс! Мужское население жаркого города Сухуми с любопытством разглядывало диковинку, не веря, что можно обойтись без электричества, требовало доказательств. Я вдохновенно водил жужжащую машинку по колючим синим щекам председателей колхоза и рядовых чаеводов солнечной Абхазии, возвращая им гладкость и природный розовый оттенок… Бритвы я распродал за неделю, получив более двухсот процентов навара.
Как я уже рассказывал, геофизический прибор, которым мы занимались, назывался градиентометр. В основу его заложено свойство полезных ископаемых создавать разное поле тяжести в зависимости от плотности породы. Эту самую разницу и улавливал градиентометр конструкции Сергея Алексеевича Поддубного. Удивительный человек был Сергей Алексеевич. Невысокий, плотный крепыш, он являл собой сгусток энергии. Он и умер на ходу, на улице, отказало сердце.
На склоне Пулковского холма, над обрывом, Поддубный соорудил пикет — деревянную будку на бетонной плите, где я обычно юстировал собранный механиками градиентометр. Занятие нудное, единственное достоинство которого заключалось в свежем воздухе и уединении. Хотя уже складывался «литературный круг»; там, на гребне Пулковского холма, на опушке города, я себя чувствовал каким-то общегородским вертухаем. И вдруг возникла мысль написать роман. О том, что меня окружает — на работе, дома. Идея робкая, пугливая. Особенно ее распалял каждый свежий номер журнала «Юность» — прибежища счастливчиков, сумевших, как говорила моя мама, ухватить Бога за пейсы…
Искушение литературой я испытал еще в школьные годы. Подбил приятель, Алеша Айсберг. Большеголовый, круглолицый, с узкими покатыми плечами, он был похож на котенка в очках, стекла которых прятали печальные глаза, наследие матери-армянки. Может, он предвидел свою недолгую жизнь? Мы познакомились в Доме пионеров, куда оба ходили в драмкружок. Алеша слыл выдумщиком и фантазером. Наша повесть называлась «Янтарная рыбка». Что-то о шпионах, заброшенных в Баку, на нефтяные промыслы. Совершенно жуткая история с погонями, стрельбой, трупами, бегством в Бразилию… Первым рецензентом был мой отец, Петр Александрович. Мы с Алешей полагались на его литературный вкус — отец до войны заведовал литературной частью Бакинского театра русской драмы.
Отец читал повесть, заслонясь ладонью от бьющего в глаза яркого светильника. Таким я запомнил отца на всю жизнь. Еще я помнил его с тощим вещевым мешком на плече, в потрепанной шинели. Он стоял внизу в начале дворовой лестницы. И мы с сестрой не без досады смотрели на малознакомого мужчину, возникшего в такое неподходящее время, — мы собирались на день рождения родственницы на улицу Карганова, опаздывали — и тут на тебе, явился. Его большие глаза, казалось, плавали где-то в толще воды. И он, словно в бреду, повторял наши имена… Сестра капризно звала маму из глубины квартиры, не понимая, что происходит. Когда отец ушел на фронт, ей было три года, а сейчас почти восемь. Да и я, двенадцатилетний эгоист, был весь во власти угощений, что ждали нас у родственницы. Мама — наряженная и красивая — выбежала на площадку. А он уже поднимался по лестнице, утирая щеки жестким сукном рукава, и воздух густел кислым запахом шинели. Мы с сестрой отрешенно отдавались поцелуям и ласкам отца, с надеждой поглядывая на мать. В ответ на робкие просьбы отца остаться дома, не ходить на день рождения мама твердо приказала нам отправляться, а она придет позже. В тот вечер она так и не появилась на улице Карганова…
Порой я задаюсь вопросом: какая самая горестная часть моей жизни? И неизменно отвечаю: мои отношения с отцом. Чувство вины, возникшее во мне после его кончины, с годами все острее саднит сердце. Каким же я был самонадеянным глупцом! И чем бы я не пожертвовал, чтобы на мгновение вернуть вечера, когда я, уверенный в своей правоте, ломал копья по самым пустяковым и никчемным вопросам, провоцируя его на спор. Отец не был членом партии, но, как говорила мама, — он марксист больше, чем Маркс и Энгельс вместе со своими женами…
Будучи молодым человеком, отец в конце двадцатых годов бежал из мертвого от голода Херсона в жаркий и сытый Баку, где и обосновался. Безудержный книгочей, он устроился библиотекарем в Дом культуры железнодорожников и вскоре познакомился с моей будущей матерью. Забавное стечение обстоятельств — мама тоже родом из Херсона, и в Баку ее привел тот же голод на Украине. В Херсоне мои родители не знали друг друга. Семейство отца принадлежало к довольно зажиточному слою — имело свой магазин готового платья в центре города. А мама росла в семье, торговавшей на рынке перекупленной рыбой. Готовое платье и рыба как-то не очень пересекались своими интересами…
Тихую работу библиотекаря нарушил арест отца в 1936 году. Его арестовали на празднике железнодорожников в Парке культуры, где в тот вечер проводили народное гулянье по сценарию, написанному моим отцом. После окончания гулянья мама ждала его на скамье в аллее. А подошел директор парка и сказал, чтобы не ждала, шла домой: отца арестовали. Вот так.
…Он вернулся через три дня, на рассвете. Босой, в майке и в чужих солдатских подштанниках — костюм реквизировали в пользу Наркомата внутренних дел. Редчайший случай возвращения из внутренней тюрьмы Наркомата.
Он шел, придерживая рукой подштанники, и ленивые бакинские собаки провожали его одобрительными взглядами. Он пересек двор, переступая через тела спящих соседей — в душные летние ночи многие спали прямо на асфальте улиц и дворов, — и, не выдержав, зарыдал. Соседи всполошились, обступили его, утешая. Спекулянтка Марьям говорила громким голосом: «Видали?! Выпустили! Советская власть напрасно не посадит!» Соседи с готовностью кивали головой — конечно, напрасно не посадит — и смущенно поглядывали на жиличку со второго этажа, артистку Еву-ханум Оленскую. Кроме того что Ева-ханум была первой женщиной на азербайджанской сцене, да и русской по национальности, она еще была сестрой жены врага народа, бывшего наркома земледелия Везирова, которого посадили в тюрьму вместе с женой и двумя сыновьями (вероятно, чтобы сохранить семью)… Ева-ханум смотрела на моего отца, и слезы текли по лицу, кожа которого была тронута волчанкой — следствие долгого употребления грима, как считали доктора…
Помянув Еву-ханум, я вспомнил другую историю.
1954 год. Судили вождя азербайджанских коммунистов тех лет Мир-Джафара Багирова. В свое время я учился в одном классе с его сыном, Дженом. Надо отметить, что Джен был весьма способный ученик и пятерки получал без всяких скидок на должность отца — фигуры зловещей, державшей в ужасе весь Азербайджан. По утрам, идя в школу, я всегда встречал Мир-Джафара Багирова. Ровно в семь тридцать он направлялся из своего дома в здание ЦК. Шел не торопясь, по-хозяйски. Позади него плелся телохранитель, толстый усач-полковник с выпуклыми рачьими глазами, в руках он держал свернутую газету. В те времена начальники не боялись террористов, в те времена террористы боялись начальников… Однажды я набрался храбрости и поздоровался с вождем. Багиров улыбнулся и ответил, а полковник испугался, его бритые щеки посинели.
А спустя несколько лет я, студент четвертого курса, попал на суд — после ареста Берии взялись за его коллег-подручных. Багирова судили в Доме культуры имени Дзержинского, в театральном зале. И многие «представители общественности», в знак поощрения их заслуг, получали пригласительные билеты, как на спектакль. У моего дяди-хирурга в день суда была операция, и я воспользовался его пригласительным билетом.
Судебная коллегия в полном составе расположилась на сцене. Подсудимого поместили в оркестровую яму. Чтобы занять свое место, Багиров шел вдоль ямы, и все, кто сидел в зрительном зале, видели только макушку головы бывшего вождя азербайджанского народа. Это мало кого устраивало, народ в едином порыве вскакивал на ноги, чтобы увидеть побольше. Ситуация становилась странноватой — появляется подсудимый, а зал встает, как на партийном съезде. И никакие уговоры не помогали, хоть уговаривающие были в форме с малиновыми погонами, — не те времена. Тем временем Багиров занял свое место и, обернувшись к залу, бросил властное: «Альяшес!»[4] Зрители покорно расселись. Это производило впечатление…
Свидетелей вызывали на сцену. При мне допрашивали свидетеля, в которого, как он утверждал, Багиров собственноручно стрелял прямо в своем кабинете. За провал какой-то хозяйственной затеи. И ранил в плечо. На что сидящий рядом со мной какой-то гражданин внятно проговорил: «Жаль, что Багиров промахнулся. Я бы этого дашбашника[5] сам бы убил с удовольствием». Вторым давал показания Дарик, племянник артистки Евы-ханум, сын наркома Везирова.[6] Сорокалетний мужчина, прошедший ГУЛАГ, только сейчас, в этом зале, узнал подноготную отношений между старыми друзьями: Багировым и его отцом. Багиров с презрением отозвался о своем товарище по партии и по жизни как о мягкотелом оппортунисте, вполне достойном своей участи…
И тут Дарик спрыгнул в оркестровую яму, бросился к Багирову. Не знаю, успел ли он вломить бывшему первому секретарю Компартии республики, но охрана, придя в себя, уже оттаскивала Дарика в сторону.
Вечером, на дворовом сходняке, поступок Дарика был детально проанализирован всем контингентом дома 51 по улице Островского. Вывод напрашивался один — Дарику надо было взять с собой нож, дабы соблюсти закон мести. Особенно выражала недовольство оплошностью свидетеля наша участковая проститутка Севиль. Ее основная оппонентка — спекулянтка Марьям оправдывала промашку Дарика тем, что его мать была русская, не понимающая справедливости мусульманских законов. Кстати, в полном соответствии с этими законами наша достопримечательность — участковая проститутка Севиль — была через несколько лет забита до смерти каким-то правоверным, узревшим в ее образе жизни явное отступление от заповедей Корана…
Но вернусь к своему отцу, Петру Александровичу. К истории его неправдоподобно короткого ГУЛАГа. К истории его искреннего уверования в то, что справедливость всегда торжествует, что и явилось камнем преткновения в наших отношениях.
Итак, укороченный ГУЛАГ. Отец как библиотекарь должен был собрать, переписать и сдать имеющиеся в библиотеке книги, авторами которых являлись враги народа — Бухарин, Троцкий, Рыков и прочая «нечисть». Отец исправно все сделал, к тому же он, как и большинство населения, искренне верил в святость партийных установок, хотя и не был членом партии. Собрав труды отступников в несколько стопок, отец, согласно инструкции, заказал спецтранспорт. Библиотек в городе было много, и спецтранспорт не успевал. А тут нагрянула комиссия. Кроме невывезенных книг врагов народа, комиссия обнаружила и писания их пособников — Достоевского, Есенина, Мережковского… Словом, налицо явная идеологическая диверсия. Комиссия сообщила куда надо, и отца арестовали. На празднике железнодорожников, в Парке культуры, ночью. Что наверняка считалось особым шиком… К счастью, следователь обнаружил заявку отца на вызов спецтранспорта. Тогда, в тридцать шестом году, вероятно, еще существовала какая-то служебная обязательность — отца выпустили, посадив на его место нерасторопного экспедитора. Они даже столкнулись в кабинете следователя. Экспедитор, тихий татарин, занял еще теплый табурет.
Встретились «подельники» случайно, на бакинском бульваре, спустя много-много лет. Незадачливый экспедитор рассказал отцу о своих «университетах» в Мордовии. Как бы спроецировал судьбину моего отца, что поджидала его в ту летнюю ночь тридцать шестого года…
Вскоре после этих событий отец перешел на работу в Театр русской драмы на должность заведующего литературной частью, где и продержался до июня сорок первого года.
Надо отметить, что Баку в те времена представлял особое сообщество людей. Не знаю, был ли еще в стране такой интернациональный город, в котором возникла бы единая для всех новая городская национальность — бакинец. Это уже после войны появились вирусы шовинизма, давшего толчок серьезной болезни общества, социальному раку. По стране расползался национализм. Катализатором его служил принцип «старшего брата», брошенный усатым вождем. Сталин точно знал, чем разделить страну, чтобы властвовать всласть. И то, корни интернационализма в Баку были столь сильны, что в начале 1953 года, когда народ содрогнулся от «преступлений врачей-убийц, задумавших извести всех руководителей государства», когда по всей стране возникали митинги с требованием изолировать евреев от общества, — в моем белом городе сохранялось дружелюбие и теплота. Я же помню это время, я был студентом второго курса геолого-разведочного факультета, взрослым человеком я был, все понимал.
Подобно больному, который знает диагноз и вглядывается в лица докторов, надеясь уловить искру надежды, я вглядывался в лица людей, что окружали меня, а воспаленная кожа любое прикосновение принимала как боль. Но все было, как всегда, никакой фальши — друзья оставались друзьями, недруги — недругами, толпа — толпой. Никаких пережимов, все, как всегда. Тем не менее антисемитизм уже пробуждался во всей своей красе — государственный, тяжелый, близорукий. Появились ограничения, нормы, за которыми строго следили люди из первых (!) отделов. Правда, в Баку антисемитизм был каким-то «мягким», не воинствующим, в силу особых, неформальных отношений между людьми. А жизнь ухудшалась, радужные горизонты, которыми заслоняли годы войны, все отодвигались и отодвигались. Порох же надо держать сухим. Лучший порох, историей доказано, — национализм и особенно антисемитизм. Верняк!
А пока 1941 год. Отец, не дожидаясь повестки, добровольцем собрался на фронт. Вернулся он в сорок пятом с осколком в легких, полученным на Малой Земле под Новороссийском и залеченным в каком-то госпитале.
Но вернулся не в театр. Из материальных соображений отец поступил на сажевый завод на должность слесаря по газу. Такая вот судьба…
Через два дня на третий отец вставал в пять утра и ехал на завод, где командовал дюжиной газовых задвижек, регулирующих подачу сырья для производства сажи, основы резиновой промышленности. Через сутки он возвращался. Усталый, потухший, с крупицами сажи, въевшейся в поры его белой, нежной кожи. Платили ему немногим больше, чем в театре: едва хватало на неделю сносной жизни. И мама по-прежнему волокла нелегкий семейный воз, работая кассиром в магазине. Отец пытался подрабатывать, брал подряд у цеховиков на сборку фибровых чемоданов. И дня два из нашей квартиры раздавалось робкое постукивание молотка. Соседи терпели, соседи понимали. Что делать, собачья жизнь, если такой человек, как Петр Александрович, должен крутиться, чтобы заработать копейку. А спекулянтка Марьям шептала после особо громкого стука молотка: «Вай мэ! Лучше бы он для себя чемодан сделал, уехал в Израиль!» А было это в конце сорок восьмого года. После признания Советским Союзом государства Израиль. А признав, выпустили несколько десятков семейств желающих — наиболее дальновидных и отчаянно смелых; некоторые из них сбились с пути и вместо Ближнего Востока попали на Дальний Северо-Восток, пополнив контингент исправительно-трудовых лагерей. Но тут уж кому как повезло…
Появление на карте мира крохотного государства евреев осложнило жизнь и моему отцу. Особенно воспряла бабушка Мария Абрамовна, женщина мудрая, многоопытная. Вопрос ребром она пока не ставила, но сеть плести начала, подготавливая почву. «Это разве виноград? — говорила бабушка, возвращаясь с рынка. — Вот в Израиле виноград так виноград!» — «Ничего подобного, — наивно возмущался отец. — Лучше азербайджанского винограда „шаны“ нет нигде!» — «О чем ты с ним разговариваешь?! — вступала мама, которая обычно была на стороне бабушки. — Что он пробовал в жизни слаще морковки?!»
Отец стихал, на два фронта ему воевать было сложно. И тут еще начинал тявкать я, открывая третий фронт. Я пользовался случаем, чтобы «срезать» отца и мелко отомстить ему. За то, что семья считала каждый грош, за то, что отец приходил с работы черный и жалкий, за то, что с фронта он не привез никаких трофеев, даже губной гармошки. Ничего. Кроме нескольких медалей и осколка в легком. Я еще не понимал, что ранение мой добрый, мой дорогой папа получил на Малой Земле, воюя санинструктором в батальоне знаменитого героя Цезаря Куникова, а потом, после госпиталя, продолжал воевать в рядах 14-й армии, которую так прославил в своих воспоминаниях о Малой Земле бывший генсек Леонид Брежнев. Мне было пятнадцать лет, я многого не понимал, хотя в таком возрасте пора бы и понимать. Представляю, какой болью в сердце отца отзывалась моя волчья, злая обида. Мой родной, любимый человек, прости меня за то, за что я сам себя простить не могу!
Итак, отец читал детективную повесть «Янтарная рыбка», заслонясь ладонью от бьющей в глаза яркой лампы. А пятнадцатилетние сочинители — я и Алеша Айсберг — слонялись по квартире, разговаривали шепотом и, не выдержав напряжения, ушли на бульвар прошвырнуться. Чинно, с достоинством, как подобает нормальным писателям…
Немало знаменитостей бродило до нас по аллеям бакинского Приморского бульвара. Маяковский! Мой отец видел Маяковского и, более того, хранил его записку на имя директора Клуба железнодорожников, написанную поэтом по просьбе моего отца, старосты кружка молодых пролетарских писателей: «Пропустите восемь штук ребят на вечер поэта. Денег у них нет и не будет. Маяковский». Записка долго хранилась, потом куда-то исчезла. Отцу повезло и на встречу с Есениным. В дальнейшем Есенин вспоминал о своем времяпровождении в Баку, но упомянул одного лишь Шагина, руководителя местного Союза пролетарских писателей, хотя отец и Шагин были неразлучны при встрече с поэтом, да и вообще по жизни — литературному гусарству в молодости. Отец очень переживал, читая эти строки. «Мы гуляли вместе, — огорченно говорил он. — Митька Шагин даже чуть отставал. И переспрашивал меня: что сказал Есенин? А в духане, у Девичьей башни, так вообще сразу напился и отпал». — «Вот этим-то он Есенина и приворожил, — объясняла мама. — Алкаш алкаша видит издалека».
Кто еще утюжил подошвами теплый асфальт Приморского бульвара? Знаменитый Михаил Жаров, киногерой сороковых—пятидесятых, бывший актер Бакинского театра русской драмы. Или Фаина Георгиевна Раневская, артистка того же театра в конце двадцатых, до переезда в Москву… Кое-кого я видел сам, к примеру Александра Фадеева. Знаменитость выступала в Академии наук на юбилее азербайджанского классика Низами. Молодое, почти юное, розовощекое лицо знаменитости контрастировало с совершенно седой шевелюрой. Из доклада знаменитости однозначно следовало, что именно Низами был предтечей коммунизма. Зал сочувственно аплодировал. И я вместе со всеми… Еще по бульвару шастал сухонький старикан в чесучевом костюме и белых сандалиях. Говорили, что это не то брат, не то дядя самого Ландау. Того самого Льва Ландау, бакинца, нобелевского лауреата по физике. Впрочем, и сам Нобель грелся под жарким апшеронским солнцем. До сих пор на фронтоне одного красавца дома бурым кирпичом выложена надпись: «Братья Нобель»…
Теплый вечерний ветер гнал с моря солоноватый запах нефти. Ветер перебирал узкие листья олеандров, трогал пунцовые тюрбаны цветов и морщил звезды, щедро разбросанные над Приморским бульваром. Где-то вдали, в сизой сутеми моря, громоздилась Бухта Ильича, искусственный полуостров, «дедушка» знаменитых рукотворных морских островов Нефтяные Камни. Бухту Ильича соорудили по проекту слепого инженера-нефтяника Павла Николаевича Потоцкого. Он ходил по стройке с мальчиком-поводырем и руководил строительством. Умер Павел Николаевич в 1932-м, за год до моего рождения. И похоронили Потоцкого на морском промысле, у основания первой морской буровой… Вообще-то первую в мире нефтяную скважину пробурили именно в Баку, в 1848 году. А до этого рыли колодцы и черпали нефть ведрами, отправляя в бурдюках и бочках по Волге в Россию. Рыть было где: ткни в землю палку — ударит фонтан. Правда, так было во времена венецианца Марко Поло. Он писал: «До сотни судов можно зараз нагрузить тем маслом. Есть его нельзя, а можно жечь. И мазать им верблюдов, у которых чесотка и короста». И первые нефтяные короли появились именно в Баку: Тагиев, Ротшильд, те же братья Нобель. И первые нефтяные авантюристы. Известна была история, как один такой предприимчивый человек купил землю в надежде на будущий нефтяной фонтан. Но сколько он ни копал, нефти нет. Было и такое, хоть и редко. Не повезло бедняге. Как государству Израиль: вся земля вокруг пропитана нефтью, а на территории Израиля — шиш с маслом. Так вот, наш невезучий предприниматель ночью подвозит к выкопанной яме бочку с мазутом. И выливает. А утром распускает слух, что нефть нашлась. И тут же, не мешкая, продает эту яму за большие деньги, а сам ударяется в бега.
История послужила нам с Алешей основой детективно-авантюрной повести «Янтарная рыбка», приговора над которой мы и ждали, слоняясь по городу… Алеша нервничал. «Слушай, — говорил мой соавтор, — почему ты считаешь, что твой отец разбирается в настоящей литературе? Если он гулял по бульвару с Маяковским и Есениным, это еще ничего не значит. Мы же не какие-нибудь там поэты!» Я вздохнул и еще раз напомнил своему соавтору-подельнику, что мой отец в литературе — человек не случайный. Что он сочинил целую картину к знаменитой пьесе «Человек с ружьем» классика советской драматургии Николая Погодина.
А дело было так. Режиссер театра Грипич в своих творческих поисках ощутил нехватку связующего звена в пьесе Погодина и, робея перед именитым драматургом, предложил своему завлиту дописать недостающую сцену. Что отец и сделал. И отправился к Погодину в Кисловодск — там классик набирался сил перед новым классическим броском. Погодин ознакомился с написанным, угостил отца арбузом и включил эту сцену в канонический текст своей пьесы. «Понял?! — сказал я своему подельнику Алеше Айсбергу. — Погодин не дурак, он не стал бы допускать в свой текст плохо написанную картину. И угощать отца арбузом. Люди подумают: ай да Погодин, что он такое там написал?!»
Мы вернулись домой. Отец пил чай вприкуску. И из блюдца. Кстати, эта привычка передалась мне, я нередко ловлю себя на том, что наливаю чай в блюдце. Кроме того, я очень похож на отца внешне, и с годами все больше и больше, даже сам ощущаю, как ни странно…
Мы вернулись домой и сели на тахту в ожидании приговора, искоса поглядывая на большую общую тетрадь в синей дерматиновой обложке, что лежала на краю стола.
Несколько раз из кухни с нетерпением во взоре выглядывала мама. Отец продолжал пить чай. Блюдце за блюдцем.
— Палач! — не выдержала мама. — Открой рот, скажи детям слово.
Отец отодвинул блюдце, перевернул стакан вверх дном и положил на него огрызок желтоватого сахара — сахар варили из сахарного песка из-за острого дефицита рафинада.
— Так, — проговорил отец. — Я не говорю об орфографических ошибках, их гораздо больше, чем слов…
Я передернул плечами. Начисто повесть переписывал я, а с орфографией у меня были некоторые проблемы. Утешало то, что многие знаменитые писатели тоже были не в ладах с орфографией…
— Второе, — продолжал отец. — Кто из вас написал эпизод, в котором герой… как его звали?
— Товарищ Мамедов, — подсказал я.
— Кстати, это уже говорит о вашем вкусе: «товарищ Мамедов»!
— Правильно назвали, — не выдержала мама. — Хотела бы я посмотреть, кто бы взялся напечатать повесть, героем которой был бы товарищ Рабинович!
— При чем тут Рабинович?! — вскричал отец. — Есть более благозвучные для читателя фамилии, — и, помолчав, продолжил: — Хорошо… кто написал сцену, в которой товарищ Мамедов узнаёт, что его сосед видел, как пустую яму наполняют мазутом?
Мы молчали. Непонятно, куда клонит отец, и наш авторский союз виделся нам крепостью, занявшей оборону.
— А кто написал эпизод, в котором советский контрразведчик в Бразилии выходит на след шпиона? И почему в Бразилии растет тутовник?
В комнате стояла долгая тишина ожидания, изредка прерываемая вздохом мамы: «Палач!»
— В Бразилии все растет, — веско вставил я.
— Но почему наш апшеронский тутовник? — не отвязывался отец. — Других деревьев нет? Конечно, из всех деревьев вы знаете только тутовник. Весь двор загажен раздавленным тутом… Так вот, должен вам сказать, что я с интересом прочел повесть, — продолжал отец, не обращая внимания на вздох облегчения и восторга, что донесся со стороны тахты. — Но почему я читал повесть с интересом? Меня не оставляло изумление от мысли, что два здоровых молодых человека могут сотворить с безответным листом бумаги… Впрочем, тот из вас, кто написал эпизод с ямой и мазутом, еще может на что-то надеяться. А тот, кто послал героя в Бразилию, должен бежать куда угодно, едва завидев письменный стол. Мой совет!
Первый эпизод, с ямой и мазутом, написал Алеша Айсберг, второй, бразильский, написал я…
В начале записок я решил оттолкнуться от временного порога ответственной взрослой жизни мужа и отца, от 1958 года. К тому же отдаленные годы детства и юности в памяти потускнели. Но сейчас мне кажется, что важны не столько конкретные факты, связанные с давними событиями, сколько сегодняшнее отношение к тем событиям. Жизнь, как это ни кощунственно, оценивается потерями, что подобно дорожным столбам размечают жизненный путь, придают смысл существованию. Неполно прожил человек, если ему не о чем тосковать, некого вспоминать, который забывает о потерях. В той далекой жизни у меня было два друга — Изя Арнопольский и Рома Эйдельман. Оба моих друга ушли из жизни. Изя тяжело болел, а Рома погиб в автокатастрофе. Во взрослой нашей жизни друзья возникают реже, чем в детстве. В детстве труднее скрыть свой характер, свои поступки — детство импульсивно, простодушно. С годами же нас нередко направляет расчет и корысть, что заставляет строить отношения хитростью и притворством. Это исключает искренность — основу истинной дружбы. Возможно, поэтому так трепетны отношения, что сложились в детстве и юности.
Нас было трое, и мы дружили. Готовили вместе уроки, репетировали концертные выступления на школьных вечерах: Изя и Рома пели, разыгрывали забавные школьные ситуации, я аккомпанировал на рояле (бабушка все-таки своего добилась). Школьники города нас знали. На одном из школьных вечеров нам приглянулись две девочки. Мы их поделили между собой, благо у Изи подружка уже была. Я, ветреный шалопай, отнесся к этому знакомству без особой пылкости, а Рома — всерьез: он удивительно серьезно ко всему относился. Рома пронес эту любовь через всю свою недолгую жизнь — цельная натура. Мастер спорта по волейболу, душа любой компании. И впрямь Бог призывает к себе лучших. Инженер-нефтяник, полковник, Рома стал крупным специалистом по ликвидации пожаров на нефтяных скважинах. Люди его профессии — элита пожарного дела, требующего и личного мужества, и точных знаний. Пожар на нефтяной скважине сродни извержению вулкана. Случается, скважины горят годами, нанося непоправимый экологический вред и огромные материальные потери. Поэтому такие специалисты, каким был мой друг, за рубежом ходят в миллионерах и весьма известны. Рома не был миллионером, но был известен. В тот роковой день его вызвали на гашение пожара в Туркмению, в Небит-Даг. Он ехал со своими помощниками в вездеходе. Какие в пустыне дороги? Как на воде. Неожиданно появляется бетономешалка и врезается в вездеход, точно в то место, где сидел Рома. Мы с Изей осиротели. А через несколько лет ушел и Изя, балагур, затейник и, кстати, управляющий крупным нефтепромысловым хозяйством в Белоруссии…
Прекрасные две жизни. Я же ищу сюжеты в каких-то чужих судьбах. Почему бы мне не описать жизнь близких людей? Не получится. Для того чтобы написать правдиво, убедительно, мне кажется, надо не все знать о том, о ком пишешь. Тогда и появляется чудодейственный манок, следуя за которым ты вовлекаешь и читателя. И в мировой литературе не часто встретишь произведение, в основе которого без всяких прикрас и домыслов, без всяких придуманных ситуаций лежит судьба конкретного человека. За исключением документальных произведений. Да и те нет-нет да и соскальзывают в капкан завлекательности.
Известна история о том, как Бальзак, услышав разговор мужа и жены, идущих с какой-то вечеринки, жадно внимал их беседе на бытовые, рыночные, семейные темы, даже стал свидетелем их ссоры и примирения. Он как бы воплотился в третье действующее лицо уличной встречи. Но когда попытался перенести на бумагу все «как есть», получилось скучно. И Бальзак создавал мир по своим законам, не менее убедительным, чем подсмотренные в жизни. Этим фотография отличается от художественного полотна. Фотография — факт, полотно — фантазия. Если полотно сливается с фотографией, становится неинтересно. Важно сохранить между ними промежуток, глоток, вмещающий как бы «вкус вещи», тот внутренний подтекст, который не сможет проявить никакая самая превосходная фотография…
Мне сегодня кажется, что то, далекое уже время юности и детства было без забот. Но тогда, в той жизни, забот хватало, и предостаточно. Особенность лишь в том, что тогда я не был в ответе за другие жизни, а по мере наслоения годов стал. Ответственность за другую жизнь — огромная психологическая нагрузка. Отношение к ней разное. Одни принимают ее с мазохистским упоением, идут на жертвы, другие разрубают этот узел разводами, отречением и даже самоубийством.
Вероятно, со стороны восхищала и удивляла степень жертвенности, которую приносили мои родители, сохраняя семейный союз, чтобы уберечь меня и сестру. Жили они между собой неладно: сказывалось и отсутствие материального достатка, и противоположность характеров, и, отчасти, разный интеллектуальный уровень. Но это только со стороны. Ибо, убежден, несмотря на бытовые дрязги, они любили друг друга. И через пятнадцать лет после кончины отца мама вспоминала его так, словно между ними никогда не пробегала черная кошка. Перед своей смертью, в забытьи, она повторяла его имя…
Учился я в школе неважно. И был одинаково «силен» что по точным предметам, что по гуманитарным, хотя к последним имел большее предрасположение. Однако образование получил техническое, и так бывает. В определенной степени из равнодушия к судьбе, в этом суть достаточно ленивых по натуре людей. Чем объяснить эту некоторую леность? Как ни странно, я объясняю… температурой тела. Моя нормальная температура ниже обычной на один градус. Эдакое перманентное состояние анабиоза. Явление необъяснимое, переданное мне по наследству от матери, а та получила от бабушки, женщины отнюдь не ленивой, а энергичной, властной. Выходит, что некоторая леность распространяется лишь на особей мужского пола. Однако в том, что касалось сугубо мужского отличия, лености не замечалось, наоборот, чрезмерное любопытство. Впрочем, подобное любопытство отмечалось у многих моих приятелей, несмотря на бдительность родителей и общественное мнение, — природа ломилась в распахнутые двери. В этом жанре у нас были свои звезды первой величины. Например, Алик Рубштейн по прозвищу Рубчик. Алик отличался неуемной мужской энергией, несмотря на свое тщедушие, даже по меркам нашей не очень сытой юности. Его напарник по любовным утехам Чингиз Ахундов — высокий, нескладный, с покатыми плечами и широким женским задом, по прозвищу Жопа — составлял с Аликом законченный портрет сексуального бандита. Обычно они выходили вечером на Парапет, бакинцы знают этот сквер в центре города, имевший славу гнездилища разврата. Особой известностью на Парапете пользовалась хромая Лиля — кондуктор трамвая, особа неопределенного возраста, круглолицая, мелкоглазая, с узкими губами, чувственность которым она придавала ядовито-красной помадой. Лиля собирала стайку юнцов и водила к себе «на хату». Припозднившийся прохожий с изумлением наблюдал эту странную процессию — впереди, выдрыгивая хромую ногу, шкандыбала Лиля, а за ней, смиренно зажав в руках пять рублей — известная такса по тем временам, — следовали «на дело» сопливые любовники во главе с Рубчиком и Жопой. Поодаль, приседая от хохота, шествовали «свидетели» из тех, у кого не хватало отваги выйти на «тропу любви» или не было пятерки. Алика довольно часто били. Сам видел, как его в кустах тузили две проститутки, и олеандры одобрительно аплодировали в такт своими пунцовыми ладошками. Как я понял из обрывочных вскриков, одна из ночных бабочек по милости Алика залетела в вендиспансер и требовала компенсацию за причиненный производственный ущерб. Алик отрицал свою причастность и выставлял встречный иск— за потерю переднего зуба и расквашенный нос. Что и говорить, издавна любовь шла под руку с коварством.
Спорадически, нерегулярно, приурочиваясь к какому-нибудь событию, в основном это были школьные, а затем и студенческие вечера, во мне пробуждалась муза. Будило музу мое неуемное честолюбие и, отчасти, шалопайство. О, студенческие вечера! Традиционный осенне-весенний парад, в котором каждый факультет пытался перещеголять друг друга. Особенно ярились энергетики, выдумщики и острословы, их факультет считался элитарным — троечникам стипендию не давали. Не то что на нефтепромысловом или на моем, геологическом. Дни выдачи стипендии помечались красным цветом в календаре. Запах денег пьянил, пробуждал сознание независимости, одного из самых обманчивых заблуждений.
Впервые деньги я заработал в возрасте четырнадцати лет. Моя неукротимая бабушка купила мне аккордеон. Немецкий, трофейный. В то время многие возвращались с войны, нагруженные всяким трофейным барахлом. Везли целые состояния, набивая добром товарные вагоны. Военный комендант нашего района — его жена дружила с моей мамой — всю войну отсиживался в тыловом Баку. Когда война закончилась, он отправился в Берлин и вывез оттуда дворец какого-то немецкого барона. Подчистую. Даже паркет привез…
Бабушка купила у него аккордеон. Маленький, перламутровый, двухоктавный «Маэстрошпиль». Три летних месяца — утром и вечером — звуками гимна я сопровождал подъем и спуск флага в пионерском лагере, затерянном среди виноградников Апшеронского полуострова. Несколько десятков заспанных мальчишек и девчонок с красными галстуками на тощих шеях славили Великий Советский Союз, наблюдая, как ленивая бурая тряпка нехотя ползет по кривой мачте. Играл я и песни, и «Лезгинку» с «Барыней». И даже, кто бы мог подумать, мелодии из популярного фильма «Джорж из Динки-джаза». У девочек-пионерок плавали глаза, я это видел и ярился еще больше, растягивая меха своего перламутрового искусителя до предела объятия тощих мальчишеских рук. Это были звездные минуты моего отрочества…
Музыкальные мои «кунштюки» оценивались в четыреста рублей. Дабы полнее воспользоваться итогами Второй мировой войны, бабушка потратила мои деньги на покупку другой военной добычи. Мне купили трофейный костюм. Настоящий мужской костюм, благо я был мальчик рослый. Первый в моей жизни костюм из толстого серого сукна с острыми лацканами и брюками неимоверной ширины — моды времен прихода Гитлера к власти и, кстати, года моего рождения…
Так что деньги — штука полезная. И помеченный в календаре день выдачи стипендии встречался с ликованием. А однажды — только подумать! — я стоял на грани получения повышенной стипендии. После первого семестра! Дело было так. Не знаю почему — то ли благодаря нахальству, что источали глаза, то ли по уверенности телодвижений, — но меня назначили старостой группы. И профессор Беленький на экзамене по химии влепил мне пятерку. Возможно, я и впрямь сносно отвечал, а возможно, подыграла моя должность — профессор был человек осмотрительный, прошел школу тридцатых—сороковых годов, он помнил, что в начальство выдвигают людей значительных. Словом, я оказался отличником. В деканате радостно лопотали, что я — кандидат на повышенную стипендию! Каков же был конфуз, когда следующий экзамен по начертательной геометрии я едва вытянул на трояк. Профессор Пузыревский лишен был осмотрительности и оценивал знания по номиналу… А вскоре меня лишили и должности старосты. Из-за пустяка! Я застукал одно Важное Лицо факультета с одной из студенток на диване в его кабинете. Время было позднее, и я после репетиции решил отнести в кабинет Важного Лица казенный аккордеон. Если бы они заперли дверь кабинета изнутри, я бы так и остался старостой. Представляю свой идиотский вид с аккордеоном при виде Важного Лица, потерявшего бдительность под натиском любовного экстаза.
— Ты кто?! — прорычало Лицо (а точнее, зад), сползая в сутемь подле дивана.
Я представился. И, как мне кажется, достаточно галантно. Тональность моего голоса обещала хранить тайну.
— Вон! — крикнуло Лицо (а возможно, зад). — Надо стучаться!
Я выскочил из кабинета уже бывшим старостой, понимая, что желание хвастануть увиденным может обернуться для меня и статусом бывшего студента. Человек чести, я поклялся унести тайну в могилу, но не выдержал искушения, доверив ее этим запискам. Впрочем, возможно, отстранению меня от должности старосты послужил какой-нибудь другой общественный проступок, я был достаточно живой молодой человек, несмотря на пониженную температуру тела…
Так или иначе, но деньги уже разворошили мое сознание. Величина стипендии могла дать полное удовлетворение касательно запаха денег, но отнюдь не вещественного их воплощения. Попытка же написать что-либо в газету оборачивалась гонораром, которого едва хватало на трамвайные расходы в редакцию.
Но лед тронулся — робкое весеннее солнышко уже припустило слабую слезу из-под мартовской наледи — я начал посещать литературный кружок при газете «Вышка». Руководил кружком поэт Оратовский. Там я познакомился с поэтессой Инной Лиснянской. Знай, какой она будет пользоваться известностью, приглядывался бы внимательнее. Много лет спустя в Переделкино, в Доме творчества, я вновь встретил Инну, жену знаменитого Семена Липкина. Приятно было вспомнить бакинскую молодость! В литкружок ходил и Максуд Ибрагимбеков — талантливый прозаик, книги которого вновь возвращают меня в далекие годы юности, в мой белый город. Он был старшим братом Рустама Ибрагимбекова, знаменитого сценариста, писателя и драматурга. «Белое солнце пустыни» — и все! Не надо больше вспоминать фильмы по сценариям Рустама! В кружке я познакомился и с Эдиком Тополем, студентом филфака университета.
…В тот вечер я опоздал, а когда пришел — Эдик читал рассказ. Запомнилась мне внешность Эдика, хоть и был он каким-то маленьким, невзрачным: жесткие, слегка курчавые пепельные волосы смешным кустом торчали над бледным невысоким лбом, лицо, засиженное веснушками, сужалось к подбородку и освещалось неулыбчивыми острыми глазами. Рассказ был хорош, и все его дружно хвалили. Строился он на диалоге. Неспроста Тополя тянуло в кинодраматургию. В дальнейшем мы не раз встречались на семинаре сценаристов в Болшево, под Москвой. И были в добрых отношениях…
Много лет спустя Тополь позвонил мне в Ленинград из Москвы с просьбой занять денег, ему не хватало средств на оформление отъезда в эмиграцию. Решил, что я человек состоятельный, недавно опубликовал роман. Но я сидел в долгах… В Америке он нашел себя, работая в жанре авантюрно-политического романа. Сказывался навык киносценариста, сюжет он выстраивал увлекательно, хотя и «вешал лапшу».
Нормальная студенческая жизнь начинается после первого курса — позади нервотрепка вступительных экзаменов, обживание казенных институтских коридоров, тебя уже многие знают, и ты знаешь многих. Да и студенческая форма геологов — темно-синяя, с погончиками, золоченым галуном, увенчанная фуражкой с гербом — символ профессионального братства, — именно к концу второго семестра оказывается тебе в самую пору что в талии, что в плечах. В теперешнее время не встретишь на улицах молодых людей в студенческой форме — а тогда, в пятидесятые годы, их было предостаточно.
После первого курса я наградил себя поездкой к деду со стороны отца. Дед Саша проживал в Ленинграде, точнее в Зеленогорске, со своей старшей дочерью, моей теткой Марией Александровной, и внуком, моим двоюродным братом Мишей. Поездкой к деду я награждал себя не в первый раз. Я видел деда, будучи шестилетним мальчиком. Тогда дед с семейством жил в Детском Селе, куда переехал, спасаясь от того же злосчастного голода в Херсоне. И мы с мамой гостили у них летом тридцать девятого года. Помню зеленый двор в окружении больших деревянных домов на Московской улице. Однажды я расковырял палочкой какую-то щель в фундаменте дома, и меня укусила оса.
На крик сбежались люди, и сосед, высокий и сильный, схватив меня в охапку, побежал оказывать помощь. Став взрослым, я узнал некоторые подробности, предшествующие его благородному порыву. Моя мама — красивая моя мама — пользовалась безусловным успехом у мужчин. Во власть ее чар попал и сосед, живущий в одном из домов, замыкающих наш двор. Каждый выход мамы со мной на прогулку знаменовал и появление соседа, который оказывал юной моей маме всяческие знаки внимания. Чем же мог обольщать человек, занимающийся литературным трудом? Известно чем — плодами своего труда. Он оставлял ей свои книги, читал куски своих рукописей, делая вид, что всерьез заинтересован ее суждением. Сосед и меня баловал всякими вкусностями, особенно я любил хрустящие вафельно-шоколадные конфеты «Мишка на Севере». В этом и был его тактический просчет — я, вожделея угощения, докучал соседу своим присутствием, не оставляя и минуты для уединения с моей мамой. Тем самым наверняка вызывая в нем тихую ненависть… Надежда на укус осы не оправдалась — едва получив первую помощь, я выполз во двор и вновь присоединился к их компании в ожидании вкусной награды за свои муки. Тем соседом был не кто иной, как знаменитый писатель Алексей Толстой… Многие годы спустя я получил в подарок книгу воспоминаний известного композитора Дмитрия Алексеевича Толстого, сына Алексея Толстого, с дарственной надписью: «Дорогому Илюше Штемлеру от коллеги», где Митя описывает годы жизни в Детском (Царском) Селе. Я рассказал ему о наивной истории, связанной с укусом осы. Мы посмеялись…
В годы блокады дед Саша, бабушка Лиза и обе тетки с братцем Мишаней эвакуировались в Барнаул. По дороге, в теплушке, бабушка Лиза умерла. После войны дед с тетками вернулся в Ленинград. Одна из теток — Маша — получила работу в Зеленогорском банке и жилье — первый этаж большого деревянного дома. Куда я и приехал погостить после окончания первого курса института.
Дед Саша — человек торговый, как-никак фамильное дело в Херсоне: магазин готового платья, что и определило его дальнейшую трудовую деятельность. На рынке Зеленогорска он заведовал крохотной лавчонкой по продаже хозяйственных товаров. Дед был мал ростом, уютен, с круглым румяным улыбчивым лицом и редкими рыжеватыми волосами, спадающими челкой на бледный лоб. На поясном шнурке штанов висел огромный ключ, которым дед отпирал ржавый амбарный замок на дверях лавчонки. Все свободное от работы время он проводил на ногах, стоя у черного круга бумажной тарелки настенного громкоговорителя и чуть оттопырив пальцами ухо. Время от времени дед вздыхал и бухтел сквозь тонкие губы: «Ох! Как они его испугались! Рыбак из Мурманска сказал: „Руки прочь от Кореи!“ Рыбак сказал! И американский президент наделал в штаны! Ах, ох! Прачка заявила, и американцы описались. Ах, ох!» И долго еще дед подмигивал мне короткими белесыми ресничками: мол, как тебе это нравится? Они нас держат за дураков, но мы-то с тобой все понимаем, нас не проведешь. Потом он принимал традиционные пятьдесят граммов водки и, довольный собой, садился обедать.
В Зеленогорске меня, старшего внука, окружали ласка и забота. Как это было давно! С тех пор все ушли в вечность. Все! И дед, и две тетки с мужьями, и мой единственный двоюродный брат Миша, весельчак, футболист, рыбак и выпивоха, он умер от рака. Скончались и две его дочери, совсем еще девочки. Из всего большого рода по линии отца остались только я и моя сестра Софья. Тем острее память запечатлела светлые дни моего первого отпускного лета. Старый деревянный дом хранил северную тайну — запах замшелого дерева и грибов, тишину близкого леса, соломенные сколки утреннего солнца, что узором пробивались сквозь лапки елей на стену и около восьми утра дотягивались с ласками до портрета бабушки Лизы в простенке между камином и дверью.
Как-то к дому подъехал автомобиль с финскими номерными знаками. Водитель обошел вокруг, заглянул в сырые слепые сени, провел пальцем по брусчатке, понюхал грязно-зеленый след и, вздохнув, уехал. А дед Саша печально смотрел ему вслед, точно винился за то, что его страна когда-то затеяла «справедливую освободительную войну» против маленькой Финляндии, за то, что старинный финский городок Териоки переименовали в Зеленогорск, за то, что в доме исконного владельца живет оккупант, мой добрый дед Саша…
— Ты еще здесь?! — с напускной строгостью произнес дед.
Я пожал плечами, сел на велосипед и отправился за молоком и хлебом — мой утренний ритуальный маршрут.
А вечером я отправлялся на танцы — вокруг распихано множество домов отдыха и санаториев — курортная зона. Веселились вечерами и на дачах, кажется, весь Ленинград на лето перемещался на Карельский перешеек. На одной такой тусовке мне приглянулась девушка по имени Лина, зеленоглазая, веснушчатая, с рыжим букетом волос на голове. Мог ли я предположить, что это знакомство дважды во многом определит мою жизнь? Началось с того, что Лина объявила о своей верности какому-то молодому человеку, но, желая утешить, предложила дать телефон своей подруги, та сейчас в Ленинграде, готовится к поступлению в Театральный институт, а живет на улице Жуковского, в центре города. Меня предложение вполне устраивало — моя тетя, младшая папина сестра, жила на улице Жуковского. Отправляясь из Зеленогорска в Ленинград, я обычно ночевал у нее. Так что географически «наколка» Лины была просто идеальна. Как подчас экономия на транспортных расходах может определить все течение жизни и показать большую дулю. Или наоборот. Кому как повезет…
Оказавшись у тетки, я позвонил по оставленному Линой номеру и вскоре вышел на улицу. В подъезде соседнего дома стояла девочка. «Интересно, дотянется она мне до пояса?» — мелькнуло у меня в голове. Подавляя первую реакцию дезертирства, я приблизился к своей судьбе. Темные брови необычного изгиба точно оседлали чуть продолговатые карие глаза. Слегка припухлые красивой формы губы под изящным и каким-то аккуратным носиком. Обильные черные волосы, взбитые над смугловатым выпуклым лбом.
Вблизи она как бы немного подросла и оказалась вровень с моей грудью.
— Лена!
Я принял в свою ладонь маленькую кисть ее руки с суховатыми пальцами. Так я впервые увидел человека, во многом определившего всю мою жизнь…
Сверху раздался женский голос с призывом возвращаться домой, заниматься, поступление в институт — дело нешуточное.
Лена отмахнулась. Вскинув глаза, я увидел довольно грузную даму, стоявшую на балконе. Дама смотрела на меня с явным неодобрением.
Несколько вечеров мы гуляли с Леной по этому необыкновенному городу. Я острил, рассказывал студенческие байки про своих преподавателей — они и впрямь были забавны, словом, всячески козырял, подобно Тому Сойеру перед Бекки Тэчер. Временами мне казалось, что след в след за нами торопится дама, что свисала с балкона, — мама Лены. Когда это чувство меня оставляло, я вдыхал полной грудью влажный воздух летнего вечера. И долгие годы моей последующей женатой жизни я делил это чувство вольного сиротства с состоянием консервной банки. Но об этом позже.
…Второй раз рыжая Лина повлияла на мою судьбу тем, что познакомила мою дочь Ирину с ее будущим мужем Сашей. У рыжей, видно, была нелегкая рука.
Но и об этом как-нибудь позже…
Жизнь делится на отрезки. Шесть лет от рождения до школы, десять в школе (у меня на год больше, в девятом классе я переучивался — не сдал экзамен по азербайджанскому языку, хотя язык этот знал не хуже преподавателя по фамилии Дильбази. Невзлюбил Дильбази меня. Он говорил: «Штемлер — это плохо»). Далее пять лет в институте. Остальные годы до шестидесяти — работа. Пенсия. Ну а потом кому сколько отмерено до знакомства со специализированным учреждением городских бытовых предприятий, где отбирают паспорт и выдают свидетельство о вечном поселении. Конечно, есть отклонения от схемы: кто мухлюет со школой или институтом, кто с работой, кто пораньше торопится в спецучреждение. Но блоки, в принципе, четкие…
В 1956 году, миновав три первых этапа, я приступил к четвертому — после института меня направили на работу в Сталинград, в контору «Нижневолгонефтегеофизика». Началась вольготная жизнь молодого специалиста «с хорошей, но маленькой зарплатой» и койкой в общежитии. Что может быть соблазнительнее для молодого человека, чем оказаться предоставленным сам себе? Прекрасная пора! Правда, я столкнулся с некоторыми неожиданностями. Во-первых, я понял, что как инженер я ровным счетом ничего не значу. И все пять институтских лет оказались развлечением, а не копилкой знаний. Знания, конечно, поднакопились, но не те. Система получения знаний, методика, имела явные прорехи. Но судьба милостива — дается трехгодичная индульгенция. Целых три года молодой специалист может «следить» на работе без всякого угрызения совести, по закону. Одни — подобно моим сердечным друзьям Юле и Вите Мануковым — обживали всерьез сталинградскую землю: получили квартиру, родили мальчика Гену и полезли вверх по служебной лестнице, другие — подобно мне — никак не могли расстаться со сладким дурманом студенческой пятилетки. И пытались перенести былую вольницу на испытательные три года. Этому способствовала и специфика работы. Я числился инженером сейсмической партии. Но, в сущности, выполнял обязанности младшего техника, в распоряжении которого было десятка два рабочих. Они расставляли по профилю сейсмографы до взрыва и собирали их после. Стоило учиться пять лет, штудируя высокие премудрости…
Начальником сейсмопартии был Кулькин, человек угрюмый, недоверчивый, обремененный семьей. Во мне он видел конкурента, защищенного вузовским дипломом (сам он окончил техникум), поэтому не очень горел желанием допускать меня к аппаратуре. Это было мне на руку — не очень хотелось показывать, что я полный профан, что вся эта сейсмостанция со своими осциллографами, датчиками и прочей дребеденью для меня тайна за семью печатями. Как вскрыть эти печати, я не очень представлял и, в который раз поминая и методику преподавания прикладной геофизики в институте, и жалкое оборудование учебных классов, надеялся, что все образуется, придет само собой: пошустрю во время зимнего камерального периода в лаборатории, подтянусь и раскушу.
Весной степь упоительна: и для зрения — безбрежная зелень, и для слуха — пение разных пичуг. Резкий, насыщенный травами воздух наполнял тело силой и здоровьем. Обычно партия размещалась в деревне, при парном молоке, при фруктах и бахчах. Правда, деревня деревне рознь. Одни жили прилично, сытно, другие — тоска, несусветная бедность и беспомощность. В рабочие нанимались, как правило, девчонки, парней подбирала армия. Утром грузовик увозил рабочих в поле, где они растаскивали по профилю «косу» с подвешенными к ней сейсмографами. Я следил за точностью проводки «косы», грамотно ли врыты в землю сейсмографы, проверял электрические контакты, отвечал за технику безопасности во время взрыва. Девчонки прятались в укрытие, докучая мне вопросами. Я объяснял, что в различных породах, в зависимости от физических данных, скорость прохождения сейсмических волн разная и углы отражения волн от границ пород разные. На основании чего строятся карты и выясняются породы, близкие по своей плотности к тем, где может скапливаться нефть…
Девчонки охали и строили мне глазки. Я — им… Так наряду с обменом научной информацией шел обмен другой информацией, куда более приятной мне, двадцатитрехлетнему оболтусу. Былая институтская вольница раскачивалась во мне, увеличивая к вечеру свою амплитуду. И тихие деревенские ночи под боевыми сталинградскими звездами бархатного летнего неба, под шорох камышей, что росли вдоль робкой речушки Медведицы близ села Молодель, наполняли меня соком молодости.
Особенно мне по сердцу пришлась длинноногая красавица Мария со строгими учительскими глазами и узкой кистью белых недеревенских рук. Она была девица образованная и в приливе нежности говорила: «Библейский ты мой!» — этой фразой Мария и запомнилась мне. Но в начале наших отношений Мария проявила некоторую строгость и высокую нравственную чистоту: она требовала доказательств моего статуса холостяка — с женатиками Мария не хотела водиться — она требовала паспорт. Пришлось выполнить девичий каприз. В слабом свечении звезд Мария проштудировала документ и сказала с каким-то сомнением в голосе: «Вроде все в порядке». — «Конечно, в порядке!» — склочно поддержал я с нотками оскорбленного достоинства, не зная, куда девать этот вдруг оказавшийся совершенно негабаритным документ.
В середине полевого сезона наши встречи оборвались — вернулся из армии жених Марии, а ко мне приехала другая Мария, моя бабушка Мария Абрамовна Заславская, в девичестве Лазаревич. Бабушка не выдержала разлуки с внуком и, озабоченная моим бытием, ворвалась в сталинградскую степь подобно славному полководцу Фрунзе, только не на коне, а на тракторе из местного сельпо. Ворвалась под вечер, когда коровы расходились по своим адресам, поднимая тяжелую пыль. Из последних писем я подозревал, что налет неотвратим, но время не было оговорено, дабы застать меня врасплох, во всем обличье греха. Благодаря жениху Марии-первой, бабушка узрела внука лишь в некоторой меланхолии, но во вполне пристойном виде…
Вся вторая половина полевого сезона прошла под знаком моей бабушки. А хилая хата, комнату в которой я снимал, оказалась домом чревоугодия. Бабушка умела и любила готовить. Бессемейные мои коллеги носили ей продукты и получали кушанья, которые тут же съедались за общим столом, с усердием и весельем. А конец сезона был отмечен фаршированной рыбой, запеченной в духовке, — фирменным блюдом моей бабушки…
Будет несправедливо, если в этих записках я более подробно не расскажу об этом человеке, который оставил значительный след в моей жизни. Я и заметки эти печатаю на пишущей машинке «Олимпия-прогресс», что купила бабушка мне в подарок у своего соседа-механика Степы. Машинка с металлическим корпусом, портативная, служащая мне без малого сорок лет. Безмолвная «повитуха», принимающая появление на свет всех моих литературных детишек…
Бабушку знали в городе, особенно пожившие уже люди, старые бакинцы. Во время войны она работала в керосиновой лавке в центре города, на улице Басина, и я часто ей помогал — наклеивал купоны из месячной керосиновой карточки на газетный лист, для отчета. До сих пор при слове «война» мои ноздри ощущают терпкий запах керосина, а в памяти всплывают лица людей из очереди. С бидонами в руках. Кроме того, она торговала всякой ерундой на рынке, чтобы поддержать семью. Возила в Куйбышев каспийскую селедку, а из Куйбышева, с какого-то завода, привозила на продажу алюминиевый ширпотреб: вилки, ножи, посуду. В то время многие спекулировали, в то время буханка хлеба с рук стоила половину иной зарплаты. И я спекулировал (о нотах я уже рассказывал, теперь о хлебе). Мне было девять лет, и втайне от бабушки и мамы меня «нанимала» тебя Бетя, наша родственница, продавщица хлебного магазина. Она вручала мне несколько буханок из «сэкономленного» хлеба, и я, пользуясь внешней незначительностью, выносил их с черного хода. Буханки я относил инвалидам войны, тети-Бетиным агентам, для дальнейшей реализации. За это я получал свой гонорар в виде ломтя тяжелого, рыжего хлеба крупного кукурузного замеса. Узнав об этом, бабушка учинила тете скандал. И они долго не разговаривали, как тетя к ней ни подлизывалась…
Рассказать о том, как бабушка с четырьмя детьми переехала в голодные годы из Херсона в Баку, — это еще ничего не рассказать. О том, как она выгребала мусор из подвала — три машины мусора — и разместилась в этом подвале с детьми. И поднимала детей, затем и внуков, так и не научившись разбираться в часовом времени — читала газеты, писала, считала отлично и быстро, а вот часы ей не покорялись. Загадка! Когда я спрашивал ее, который час, бабушка смущалась, как девочка, и задавала встречный вопрос: «Нет, ты мне скажи, который час, а я проверю», — хитрила моя родная. Она, конечно, понимала язык часов, но… выговорить это почему-то не могла.
Я расскажу о звездном часе своей бабушки. Я расскажу о том, почему она пользовалась таким авторитетом.
Бабушка вела прямую переписку со всеми членами Политбюро. И даже с самим вождем народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Обычно она вела свое эпистолярное хозяйство вечерами, после трудового дня, нагруженная новой информацией. Бабушка подсаживалась к столу, извлекала заветную тетрадь в косую линейку, ставила перед собой чернильницу-непроливайку, доставала ученическую ручку с тупорылым пером «рондо» и приступала к своему «черному делу». Крупным почерком ученицы начальных классов она выводила: «Дорогой Иосиф Висаронович (звучало как Иосиф Аронович, что, несомненно, придавало письму особую родственную доверительность), пишет Вам Мария Абрамовна, мать погибшего на фронте лейтенанта Женички Заславского. Я живу в подвале из мусора, а начальник жилотдела Борщев, вдвоем с женой, живут в четырех комнатах, а в пятой держат собаку. Где справедливость?!» Письмо отсылалось в Москву… И Молотову. И Микояну. И Кагановичу… Последнему она добавляла доверительную фразу «Шолом!», дабы намекнуть на особые связи. Что там мелкая сошка Борщев?! Бабушка смело обличала жилищные условия и Председателя Верховного Совета Теймура Кулиева, и прочих республиканских вождей, сведения о которых поставляла бабушке ее керосиновая агентура…
Письма уходили в Москву с регулярностью ежедневной газеты. И, как говорится, вода долбит камень… Однажды к дому 130 по Первомайской улице с грохотом и выстрелами из двойной выхлопной трубы подкатил могучий американский мотоцикл «Харлей-Дэвидсон» с коляской, покрытой брезентом. Кряжистый полковник в кожаных штанах-галифе тяжело слез с широкого сиденья мотоцикла и проследовал во двор. На его вопрос, где тут проживает гражданка Заславская, соседи, млея от страха, указали на зеленую дверь, ведущую в подвал.
— Мария Абрамовна! — воскликнул полковник в галифе. — Лично к вам я ничего не имею. Но вы поставили на край существования наше родное республиканское правительство. Когда будет конец?!
— Когда я выберусь из этой мусорной свалки, — смело ответила бабушка.
— Я приехал на мотоцикле «Харлей-Дэвидсон» с двумя выхлопными трубами. Вы сейчас сядете в коляску, и мы поедем выбирать вам квартиру. У меня три адреса.
— Я хочу жить рядом с Ривой, моей дочерью, — бескомпромиссно заявила бабушка. — На улице имени писателя Островского.
— Но это старый район, там нет свободной квартиры, — вздохнул полковник и хлопнул ладонями по «ушам» своих галифе.
— Я подожду.
— И будете писать?
— Каждый день, — ответила бабушка.
Полковник развернул себя, как тяжелый шкаф, и направился к воротам двора.
— Мне и телефон нужен! — крикнула бабушка в его широкую спину.
Телефон ей поставили. Это был единственный телефон на весь дом, с длинным шнуром. Бабушка выносила его во двор и ставила на табурет, чтобы пользовались соседи. Это и был звездный час моей бабушки.
Квартиры она так и не дождалась: район, где мы жили с мамой и папой, был одним из старых районов города и не подлежал застройке.
К тому же иссяк источник информации — Борщев и другие бабушкины «контрагенты» проходили по «делу Багирова» и были сурово наказаны.
Бабушка умерла в 1966-м, в год выхода моего первого романа «Гроссмейстерский балл» отдельной книгой. И мама положила книгу с дарственной надписью в ее гроб.
Незадолго до кончины бабушка, в возрасте восьмидесяти лет, приезжала в Ленинград посмотреть, как я живу семейной жизнью. Внимательно все осмотрев, она прожила три дня и уехала, ни с кем не простившись. Вскоре я получил от нее письмо, но это уже другой рассказ…
Сталинград — длинный город, он тянется вдоль Волги чуть ли не на восемьдесят километров. От завода им. Петрова на севере до Тракторного на юге. В зимние холодные вечера это расстояние увеличивается — очень уж долго плетется автобус от завода Петрова, где я жил в общежитии, до конечной остановки у гостиницы «Сталинград».
Гостиница находилась в самом центре города, напротив Драматического театра. В те годы театром руководил режиссер Покровский — красивый, неприступный мужчина. Увидев его, я оробел и показал свою первую пьесу «Звезды незакатные» завлиту театра Шейнину, как вообще и подобает быть. Шейнин был живой, общительный человек, невысокого роста, полный, активно лысеющий. Пьесу о злоключениях геолога в Сибири, о его самоотверженной работе и любовных увлечениях я написал довольно быстро. Во всяком случае, несколько быстрее, чем ее читал завлит театра. Прочитав, Шейнин пригласил меня на разговор. Он сказал: «Начнем с фамилии главного героя. Стрекалов! Что это за фамилия? Стрекалов. Не фамилия, а фановая труба. Ну бог с ним, пойдем дальше…» Но я его уже не слушал — в кабинет вошла жена завлита, женщина необыкновенно располагающей внешности. Что могло связывать зануду-завлита, который, я был убежден, совершенно не понял пьесу, с этой волнующей воображение женщиной в темном тяжелом платье, плотно облегающем статную фигуру? Что общего между его лысиной и ее роскошными волнистыми волосами?! В то же время мне хотелось, чтобы он продолжал нудеть, разбирая пьесу, но при условии, что жена побудет в кабинете.
— Не обращайте внимания на его критику, — проворковала она. — Шейнин сегодня не в духе, он ходил вносить квартплату. Мне пьеса нравится, вы молодец.
Я был окрылен. Я покинул театр, словно получил твердое заверение в постановке своей пьесы. Я пересек улицу и зашел в ресторан при гостинице «Сталинград». Заказал два бутерброда с красной икрой и сладкий чай. Почему я запомнил это меню? У меня появилась привычка: приезжая в центр города, я непременно заходил в ресторан и заказывал бутерброд с икрой и чай. Стоило это около рубля… В дальнейшем я подружился с Шейниным и был допущен в дом, что несколько остужало пыл — неловко волочиться за женой человека, который распахнул двери своего дома. Да и жена в домашней обстановке показалась мне иной, потускнело очарование первой встречи. Халат честнее проявлял фигуру, чем хитрое темное платье с тайными подстежками, шлепанцы с потертым мыском тоже не красили. К тому же и Шейнин дома оказался более привлекательным человеком, чем на службе…
— Понимаете, Израиль, — говорил дружески Шейнин, — пьеса ваша и впрямь неплохая. Но ей не пройти рогатки местного Управления культуры. Во-первых, потому что неплохая, довольно смелая и неожиданная. Во-вторых… с чего начинается пьеса? С фамилии автора. А с чего начинается фамилия автора? С его имени. И если ваша фамилия как-то ничего не определяет, слава богу, таких фамилий на Руси было много, цари носили подобную неметчину, но имя?! Простите меня: Израиль — это не имя. Это красная тряпка для быков из Управления культуры… Поезжайте в Москву. Сейчас появился новый театр «Современник». Ребята они горячие, молодые, небитые. Возможно, вам повезет с вашей пьесой.
И я поехал в Москву. Взял недолгий отпуск в счет переработки во время летнего полевого сезона и поехал.
В Москве, в Спиридоньевском переулке, в доме № 9, жила наша родственница с папиной стороны, на нее и был расчет — не останавливаться же в гостинице с моими деньгами.
Щуплая старушка-привратница в непривычном «молотовском» пенсне пристально вглядывалась в меня.
— Успокойтесь, мадам, — галантно проговорил я. — Разбоем здесь не пахнет. Мне нужна ваша жиличка по фамилии Штемлер. Я ее родственник, внук ее двоюродного дяди Александра Петровича.
— Интересный фокус, — молодо произнесла старушенция в пенсне. — Я и есть Штемлер, мой мальчик. А Минна, которую вы спрашиваете, — моя дочь. Так чей же ты внук?
Ободренный, я принялся излагать свою родословную.
— Ах, вы, значит, внук Шапсы Пинхусовича, что живет сейчас в Ленинграде?
— Да, мой дед Александр Петрович, — аккуратно поправил я.
— Для меня он по-прежнему Шапса-капиталист. Он торговал готовым платьем в Херсоне, — упрямилась старушенция. — А паспорт у вас есть? Я должна показать участковому. — Вид паспорта со знакомой фамилией привратницу приободрил. — Минна вернется к вечеру, она работает на почте. Вот ключи. Наша квартира в конце коридора, в подвале. А я на дежурстве, у меня здесь пост.
«Хороша охранница. Любой жулик может положить ее в карман», — с облегчением подумал я, сжимая ключи. Квартира оказалась двумя сырыми подвальными клетками, потолок которых являл сложное переплетение фановых и водопроводных труб. Что делать, спасибо и на этом. Оставив чемодан, я отправился по делам.
Прошел мимо словно брошенного неподалеку от Спиридоньевского переулка затертого с виду театрика. Театр на Малой Бронной. Я еще не знал, что спустя много лет он станет знаменитым московским театром, в котором будет работать сам Анатолий Эфрос, театром, в репертуаре которого появятся и две мои пьесы. Но это произойдет в конце шестидесятых, а сейчас на дворе вторая половина пятидесятых…
Театр-студия «Современник» разместился в проезде Художественного театра, рядом со знаменитым МХАТом. Я поднялся на второй этаж и оказался в просторном помещении, заполненном молодыми людьми примерно моего возраста. Они явно кого-то поджидали. Вкусно пахло едой — на первом этаже здания находилась столовая, и все кухонные пары проникали в это помещение.
Надо было действовать, и я остановил пробегавшего мимо молодого человека, круглолицего, с вихрами непричесанных волос.
— Простите, я приехал из Сталинграда, привез пьесу, — не без гордости проговорил я, глядя в совершенно мальчишеские, даже детские глаза.
— Не ко мне! — выкрикнул он высоким голосом. — Это к Ефремову или к Сергачеву, он у нас читает пьесы. Он или Галя. А я Табаков. Я тоже иногда читаю пьесы… — Он не договорил и остановил полную девушку с родинкой у тяжелого носа: — Галя, вот принесли еще одну пьесу.
Галя Волчек, а это была она, смерила меня взглядом. Ее темные брови удивленно изогнулись над большими, глубокими карими глазами.
— Ну давайте, — нехотя проговорила она. — А что Сергачев? — с надеждой спросила она у Табакова.
— Кто у нас завлит?! — неожиданно закричал Табаков. — Непонятно, кто же у нас завлит? Может, Кваша? Или Круглый?
— Завлит пока Сергачев, а я, как тебе известно… — Галя махнула рукой и бросила через плечо: — Приходите через десять дней. Такой бардак, кто что делает — непонятно.
— Я в отпуске, — робко вставил я. — Надо возвращаться в экспедицию.






