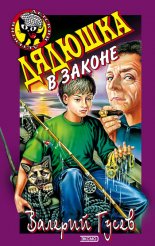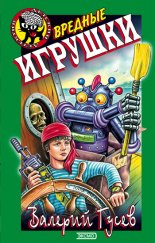Мандариновый год Щербакова Галина

* * *
Скандал возник неожиданно и, по мнению Анны Антоновны, на пустом месте. Еще секунду назад Алексей Николаевич громкими глотками пил чай, а Анна Антоновна в который раз подумала, какая это у него неделикатная манера. Что бы придержать глоток на секунду во рту, а не шмякать его прямо в желудок? Но, подумав об этом, сказала она о другом, о том, о чем вечером не договорили.
…Два больших паласа на пол обойдется дешевле, чем перестилать паркетом. Ей обещала одна родительница: «Какой хотите, Анна Антоновна, любого цвета и на любой основе». Она ее переспросила: «А размером три на пять не сложно?». «Для вас, Анна Антоновна, ничего не сложно, – ответила родительница. – Вы моей дуре за так даете образование». Анна Антоновна для виду запротестовала, а внутренне согласилась с этим. Действительно, дает образование дуре. Девчонка в девятом классе делает по пятнадцать ошибок в сочинении, и все в простых словах. И никогда не научится
писать грамотно, все знают. Анна Антоновна ее ручкой исправляет ей ошибки, чтоб не опозориться в случае чего. Поэтому, если мамаша может и хочет – пусть расстарается, пусть расшибется хотя бы в ковер. Действительно, где это еще за так, за здорово живешь дают среднее образование?
Сказала она это Алексею с юмором, вот, мол, какая теперь жизнь, а он почему-то стал кричать и обвинять ее в том, что всю жизнь она все норовит сделать абы как. Сколько бы это ни стоило, а надо сделать, как надо. Такая квартира, а пол дощатый, как в избе. Ну неужели она это сама не понимает, неужели не ясно, что никакой палас не спрячет эти доски и все будут видеть: палас на досках, палас на досках, палас на досках! Он так начал орать, что у него на вороте рубашки оторвалась пуговица. Так и ушел с оторванной. Анна Антоновна нагнулась, нашла пуговицу и положила на подоконник рядом с коробочкой с нитками. Вечером надо будет пришить. Нагибалась, искала пуговицу и все думала: как его не пугает перспектива ремонта? Это же все, все, все надо будет подымать с места. Это же разорение на долгий срок, а он ведь даже маленьких перестановок не терпит.
Поведение мужа было настолько непонятным, что Анна Антоновна всю дорогу в школу только об этом и думала.
…Они переехали в эту квартиру три года назад. Что это была за квартира! Три счетчика под потолком, стены такие черные, что она ногтем пыталась выскоблить белую основу и не смогла: стены были черные насквозь. Так вот тогда его, Алексея, надо было убеждать делать капитальный ремонт. Он был согласен на простую побелку и вымытые полы. Она сама, без него все сделала, а полы перестилать не стала. Остановилась. Решила: это уже лишнее. Достаточно хорошо, тщательно покрасить. И он согласился, а сейчас орал так, что кадыком оторвал пуговицу.
Анна Антоновна решила: так просто она ему этот крик не спустит. Он еще попросит у нее прощения, еще поклянчит. Она пришьет ему сегодня пуговицу и скажет: «Ты совсем обхамел. Иди-ка спать в кабинет…» Анна Антоновна представила себе этот разговор и улыбнулась. Такого у них еще не было.
Сделали они ему кабинет в самой хорошей комнате. Купили стенку, софу с двумя креслами, соорудили бар; он вывесил на стенку свою драгоценную коллекцию – ножи, сабли, шашки, кортик. Дурацкое пристрастие, хорошо, что у них дочь, а не сын. Но на стенке все это железо выглядело даже красиво, если не задумываться, зачем нормальному человеку оно вообще нужно. Так вот, ни разу Алексей не спал на этой самой софе в кабинете. А сегодня она пришьет ему пуговицу и выставит из спальни. За двадцать лет первый раз. Пусть поразмышляет под своими пиками о перестилке пола. Идея так понравилась Анне Антоновне, что она почти успокоилась, и все-таки время от времени в течение всего дня у нее вдруг сжималось сердце от предчувствия чего-то непонятного и неприятного. Это же надо так раскричаться, что оторвать горлом пуговицу.
***
Алексей Николаевич ехал в метро с раскрытой шеей. Знал, что это некрасиво, неопрятно, но даже не пытался как-то сблизить концы ворота, чтоб стало незаметней. Наоборот, крутил шеей, раскрывался, ему даже хотелось, чтоб все видели, что у него оторвана пуговица и как висит нитка и проглядывает голубая майка. Чем он хуже сейчас выглядит, тем он ближе к своему внутреннему состоянию. Как она ему говорила про этот палас! Разводила руками – три на пять, три на пять! И халат ее от поднятых рук подскакивал выше колен, и он видел ее ноги, почти полностью от широкой разлапистой ступни до белых рыхлых бедер, неприличных от полноты, скрытности и еще чего-то… Есть же, в конце концов, у некоторых женщин ноги, которым идет любой разрез на юбке, любая поза и любая длина. А у Анны все, что скрыто за постоянной одеждой, надо прятать. Развела руки – три на пять! три на пять! – и он вышел из себя, не сдержался. Пуговица вот отлетела. Алексей Николаевич старался не уходить от темы: жена – пуговица – ковер – ноги; он топтался в себе на этом офлажкованном месте, ему важно было закрепить конфликт именно на этих местах. Вика тут ни при чем! Но его хватило всего на три пролета, чтобы не втягивать ее в этот конфликт. Из теоремы дано: Вики нет. Требуется доказать: сегодняшняя стычка была неизбежна и без нее ничего не вышло.
Ворвавшись в мысли, она, Вика, лишила Алексея Николаевича уверенного утреннего гнева. Вот ведь парадоксальная ситуация – ситуация наоборот… Но что делать, если именно Вика не определяла все до резкости, как, например, оторванная пуговица, а делала все расплывчатым и нечетким. Такое уж у нее было свойство: все очевидное делать невероятным. Дело в том, что идея этого проклятого паркета целиком и полностью все-таки принадлежала ей. Лично он пол трогать бы не стал.
…У них это началось два года тому назад. Банально началось. В доме отдыха. Он тогда только похоронил мать, был пришиблен смертью. Именно пришиблен, а не потрясен или убит, потому что считал: мать умерла глупо, если не сказать, нарочно. Могла и должна была жить. Не было у нее ничего смертельного. Неловко сказано, если человек все-таки умер, но это тоже парадоксальная правда. Мать умерла, потому что не хотела переезжать со старой квартиры. Они жили вчетвером в крохотной «двухкомнатке» со всеобщим объединением – ванной с уборной, кухни с комнатой, комнаты с комнатой. Есть такие квартиры в первых пятиэтажках Черемушек. Заходишь в пятачок коридора и все вокруг свое видишь сразу. Мать получила эту квартиру в одном из первых домов первых расселений. Ликованию не было предела. В общем понятно – выезжали из семи метров, «семи квадратов» говорил отец. Ему было тогда двадцать лет. Великолепно устроились. Он с бабушкой – в большой проходной, отец с матерью – в маленькой. Потом стал приходить в дом с Анной, и вскоре умер отец.
Они поменялись с матерью местами, он женился, Анна забеременела, и тут умерла бабушка, а родилась Ленка. Мать говорила: «Заколдованная квартира. В ней могут жить только четыре человека». Вспомнить ту квартиру страшно. Вспомнить! Все на расстоянии вытянутой руки. Мать говорила: «Зажрался? А семь квадратов помнишь?» Конечно, помнил. Но то было совсем другое время – время всеобщей бедности. Тогда просто никто не жил иначе. Нет, наверное, кто-то жил, но это был другой круг. И Анна пришла из перенаселённой квартиры, и у его друзей было так же. И все одновременно стали тогда улучшаться, имелось в виду улучшать жилищные условия. Но ведь нельзя же было вечно благословлять эту двухкомнатную каморку с этой невообразимой ее слышимостью, с этой способностью консервировать навечно все запахи. Как он мечтал уехать из нее, как хотел получить квартиру в старом доме с высокими потолками и большой прихожей. И тут освободилась именно такая. Ему сказали: делай все быстро и запасись всеми справками. Он в три дня собрал все и принес. Справку, что мать строила метрополитен. Что отец воевал и умер, в сущности, от ран. Что у Анны в юности был туберкулез. Что он член Союза журналистов. Что у Ленки аллергия. А мать сказала: «Не поеду. Это моя квартира. Хочешь, съезжай». Но кто б ему дал трехкомнатную на троих? Ведь вся тонкость была именно в матери. В том, что она строила метрополитен. Дом был наполовину издательский, а наполовину метростроевский, и так получилось кстати, кем была мать в молодости. Как они ее уговаривали! Анна даже падала в обморок. Он до сих пор не знает, на самом деле или нарочно. Мать пожила в новой квартире десять месяцев и умерла здоровой. Сердце – норма, давление – норма, желудок, печенка, селезенка – в порядке. Умерла от спазма. Тогда сразу ему казалось, что она сделала ему назло. Напряглась, сжала сосуд и, остановив поток крови, ждала, как замирает сердце. Глупо, конечно! Так не бывает, но он так чувствовал.
Вика вытащила его из этого состояния. Вика…
– Так мучиться, – сказала она ему, – и разбирать смерть по деталям может только человек, обреченный на бессмертие. Но вам-то, Леша, это ведь не грозит? Ведь вы же смертный. И попробуйте доживите еще до ее возраста.
Боже, как пришлись ему эти слова! Действительно, он ведь тоже умрет, значит, сравняется с матерью, значит, глупо травить себе душу, и он засмеялся и благодарно посмотрел на Вику. И увидел то, что не видел раньше. Тонкую длинную талию, гладкие, не стыдные ноги, узкое лицо, которое на работе казалось ему то ли лисьим, то ли птичьим, а тут обернулось аристократичностью, что ли? Так оно все изящно стекало к подбородку, что хотелось провести ладонью по щеке, по шее, чтоб почувствовать, как это она вся сделана – треугольно, а плавно, крепко, а изящно. Он до сих пор любит ее гладить. Иногда пальцем ведет от виска до ступни, удивляясь ощущению, что вот-вот она, Вика, кончится, а она бесконечна, ведь от ступни вполне можно возвращаться к виску и будет то же впечатление слабости и силы, убывания и нарастания.
Сначала она его вернула к жизни. И все. Вы не бессмертны, сказала, и он стал счастливым, что именно таков.
Потом она ему объяснила его самого. Какой он. Скромняга. Трудяга. Симпатяга. Он никогда не думал о себе так. Он считал себя ленивым, у него даже был тезис: добросовестность хороша в меру. Он так шутил, а внутренне на самом деле не понимал энтузиазма, а энтузиастов-общественников вообще терпеть не мог, считал, хуже породы нет. Но, понятно, это только про себя. Вслух это не скажешь. Открыто говорил только в том случае, если можно было сказать вот так: «А свою непосредственную работу ты сделал как следует?» Когда ему исполнилось сорок лет, сослуживцы выпустили в его честь газету и поверху написали вот эти именно слова. Вика же сказала: «Брось скромничать. На тебе все держится в печатном цехе». Нет, не так. «На вас держится». Тогда они были еще на «вы». Он помнит, как был смущен и обрадован ее словами. «Нам в корректорской все видно, – сказала она. – Вы все у нас как под стеклом». Это была очень приятная информация. Потом как-то вернувшись от нее, он на одной из планерок сказал о работе линотипистов словами Вики. Директор издательства попросил: «А ну повторите, Алексей Николаевич! Очень точно вы сейчас сказали. Слышали, товарищи?»
С Викой все было хорошо. Умно. Никаких бабьих разговоров, никаких стонов и жалоб! Даже через то, что он никогда не изменял жене и боялся, что может оказаться не очень грамотным мужчиной, она провела его блистательно. И он понял, что не боги обжигают там какие-то горшки, что стоило ему только показать, подтолкнуть, и все у него пошло-поехало как надо. И был тогда момент, что он счел возможным и нужным поделиться новым знанием и умением с Анной, а она засмеялась и сказала: «Да ну тебя!» И ему это понравилось, показалось целомудренным: так и должна была себя вести Анна, полная женщина, учительница, мать девочки-подростка. А он тоже поступил честно, поделился чем мог, не захотели взять – это дело хозяйское. Это только все определило. Вика – это Вика, а жена – это жена. Никогда в голову ему не приходило, что эти фигуры можно поменять местами. До последнего отпуска. Они снова договорились с Викой ехать в один дом отдыха. И все было хорошо, но в последнюю минуту, когда у него на руках были уже и путевка и билеты, ее задержали. Думалось – ну дней на пять, на неделю. А оказалось, что приехала она, когда ему оставалось три дня. И вот этот двадцать один день, что он ее ждал, вывернул всего его наизнанку. Ничего он не мог с собой поделать, кроме как ждать Вику. Он ходил по пляжу и ждал, заплывал в море и ждал, ел – ждал, спал – ждал, разговаривал – ждал. И тут он понял: не может он звонить Анне в этом своем состоянии ожидания. Все могло сочетаться с этим, преферанс, к примеру, или там танцы под «Белфаст» («Та-та! Та-та! Та-та – тата, тата-тата – тира-рам-пам-пам…»). Анна не сочеталась, а ее письма вызывали омерзение: «Помидоры не дешевеют… Хорошо бы тебе привезти ящичек. Бери зеленые, они дойдут, если в поезде. Если самолетом – бурые». Эти «бурые – самолетом» его доконали совсем. Потом проанализировал – и удивился. Он же возил помидоры и поездом, и самолетом, и виноград возил, и синенькие, дыни возил… Да мало ли что? А теперь. «Бурые – самолетом» – и он весь заходится от гнева на Анну. Вот тогда-то пришла и расположилась у него в голове мысль о разводе. Он ее косноязыко в первую же секунду высказал Вике, выхватывая у нее из рук чемодан. «Пора кончать с этими бурыми самолетами, – сказал он. – У меня от ожидания тебя парша какая-то на теле… Нам что – сто лет?» Она посмотрела на него и ничего не сказала, но и не спросила, что, мол, за бред ты несешь? Три дня и три ночи он переводил на русский язык это свое предложение. Вика молчала, была сосредоточенна и сказала, что у нее тоже будет двадцать один день подумать. И он ляпнул, что не оставит ее здесь, что у него уже был двадцать один, больше он не вынесет, надо все решать сразу, не маленькие, хоть
и не старики, конечно. Она засмеялась и уцепилась за это: не маленькие, но и не старики, а люди возраста ума – от тридцати пяти до пятидесяти, поэтому и надо все по уму, а не спонтанно. Он схватил ее в охапку: «Скажи только одно – ты "за" или "против"». – «Конечно, "за", – ответила она. – Я буду думать, как это сделать лучше…»
Она вернулась, и они решили: пока чуть-чуть повременить из соображений политических. У Вики кончался кандидатский стаж. Никто теперь из-за разводов собак не вешает, но у нее другая история. Выходит на пенсию начальница из корректорского цеха. Для Вики это счастливый случай. У нее кончится срок, старуха уйдет на пенсию и лучшей кандидатуры, чем она, им не найти. Если же… Если же они начнут форсировать свои отношения, то ее могут не назначить, так как он начальник близкого по работе цеха, прямые контакты все время и мало ли что могут сказать по этому поводу. В их отношениях три-четыре месяца роли не сыграют, подождать можно, зато потом все будет проще. И даже если ей потом деликатно предложат уйти, то уходить она будет с должности начальника цеха, а не просто корректором. В наше время такими вещами не пренебрегают.
Опять же… Этот срок им нужен для того, чтобы все как следует решить с Анной. Чтоб без истерики, нервов, чтоб как интеллигентные люди, чтоб как можно меньше было потерь, хотя они, конечно, неизбежны. «Какие потери?» – глупо спросил Алексей Николаевич. «Она, между прочим, на минуточку теряет мужа, а ты квартиру, – сказала Вика. – И еще до конца не знаю, что в нашей жизни дороже».
Он споткнулся на слове «квартира» и полетел кувырком. Ну что он – идиот? Что он, закипая гневом от фразы «бурые – самолетом», не представлял себе логического продолжения тех изменений, которые хотел и готов был начать? Он гнал от себя мысли о материальном, вещном, он воображал себе чушь: нежное и трепетное, что клубилось у него в сердце, став легальным и законным, само по себе воплотится в некую реальность, как то: их дом с Викой, их квартира. Чушь!
Вика сидит, вытянув ноги, и спрашивает у него совершенно естественно: «Лешенька, где мы будем жить? Тебе ведь недавно дали квартиру, больше ведь не дадут… Значит, у меня… Господи! Вообразить себе не могу рожу Федорова, когда он узнает, что я привела мужа в квартиру, выстроенную им… Матильда! – скажет он– Я так и знал… Ты будешь помнить меня до гробовой доски». Алексей Николаевич замотал тогда головой: «Этого еще не хватало, чтоб ты его помнила».
Поэтому вариант, который предложила Вика, показался наиболее приемлемым, точным и справедливым по отношению ко всем.
В кооперативную квартиру Вики – две комнаты, большая кухня, кафель, чешская сантехника, моющиеся обои, Сокольники под окнами – переезжают Анна Антоновна и Ленка. Она же, Вика, переезжает к нему. Анна и Ленка фактически получают две трети их квартиры. Если бы он хотел квартиру разменять, они не получили бы большего. Он остается в своей квартире и никогда ни с чем не будет обращаться в издательство. Федоров заткнется, для него Анна – чужой человек, и язык тут не почешешь. Она, Вика, теряет свою квартирную самостоятельность, вещь по нашим временам бесценную, но совсем без потерь не обойтись. Единственное, что она хочет, – пусть они до всего перестелят в квартире пол. В ее квартире потрясающий дубовый паркет, вообще она отдает Анне не квартиру, а конфетку. Федоров ее отделал – будь здоров, ничего серийного, все по индивидуальному проекту: защелки, выключатели, подоконники, краны, форточки. Все сделал сам, вытер руки тряпкой и ушел. «Прости, Гертруда, так хорошо, что даже противно». Четыре года давит на Вику федоровское старание. Если бы можно было все поменять. Но она же не идиотка, она бережет все эти кафели-мафели, потому что знает… лучше ей никто не сделает.
А для Анны вся эта красота будет анонимной, она в глаза не видела Федорова, ей за здорово живешь достанется уникальная, можно сказать, жилплощадь. Так что паркет в их бездарной трехкомнатной квартире – не цена. Так что перестилайте полы, Алексей Николаевич, у вас на это пара-тройка месяцев есть! Он тогда задохнулся от благодарности судьбе за Вику. Боже, как все точно, правильно, разумно! Никакой кровопотери, стерильный вариант. В конце концов Анна должна быть довольна. Он даже представил себе, как повезет жену и дочь в Викину квартиру и будет показывать разные федоровские придумки. Он даже подумал об этом человеке, которого смутно помнил по его работе в редакции, с некоторой философской нежностью: скажите пожалуйста, как бывает в жизни! Никогда не знаешь доподлинно, чьими руками воспользуешься. А сам Федоров мог ли вообразить в своей квартире Анну? Какие пироги печет жизнь!
…Поднимаясь по дребезжащей железной лесенке в свою клетушку, Алексей Николаевич решил: перейдет сегодня спать в кабинет, а когда Анна потребует объяснений, скажет ей все.
– Рановато, – сказала Вика. – Ну, погоди чуток. Черт с ним, с паркетом, в конце концов, но остальные вещи – серьезные.
– Видеть ее не могу! – Алексей Николаевич потрогал узелок на воротнике. – Перестелет пол, как миленькая. Палас ей захотелось! Ни черта не понимает! Ни черта!
– Перестань! – сказала Вика. – Скандалов не хочу!
В этот день Анна Антоновна была дежурной по школе и в учительскую почти не заходила. Толклась все перемены то в коридоре, то на лестнице, то в раздевалке, привычно кого-то одергивала, не реагируя при этом ни одним нервным волоконцем. Школа Анну Антоновну не раздражала, проблем с учениками у нее не было, она была в ней спокойна, выдержанна; ее ставили в пример как образец спокойствия и выдержки, не подозревая, что такое поведение ей ничего не стоит.
Ей легко думалось в школе о своем. И теперь она думала о конфликте с мужем, о его крике, анализировала весь разговор и так, и эдак.
Ничего в нем не было такого, чтоб горлом рвать пуговицы. И вообще это не было похоже на Алексея. Никогда хозяйственные заботы не занимали его больше чем на пять минут. Он ведь у нее типичный современный мужик, из тех, кто пробки чинить не умеет, гвозди забивает криво, а от капающих кранов у них в ванной растеклось приличное ржавое пятно. И такой мужик хочет перестилать пол! Хочет муку на много дней и недель? Невероятно! Наверное, видел у кого-то, а может, кто-то хвастал паркетным полом, вот он и заерзал. Но одно ясно: ее план перегнать его сегодня в кабинет – глупый план. Как ей могло прийти это в голову? Разве можно создавать подобные прецеденты? Что бы и как бы ни было – у них общая постель. И пока она общая – все мелочи. Никаких отделений. Она не будет с ним особенно разговаривать, но он ляжет на подушку рядом, как ложился всю жизнь. Она даже испугалась этих своих утренних мыслей, испугалась той своей какой-то глупой радости, что именно так – отделением – она его накажет. Какая дура! А вдруг ему понравится спать одному под своими палашами и пиками? И станет он убегать к себе от каждого недоразумения. Э, нет! Анна Антоновна благословила свое дежурство, которое дало ей возможность собраться как следует с мыслями, – в учительской чесали бы языки.
Ужин прошел почти спокойно. Капризничала Ленка, не хотела есть жареную рыбу, они оба на нее прикрикнули, но рыбу дочь так и не стала есть, пила чай со сгущенкой и напоказ страдала от вида рыбных костей. Потом Анна Антоновна мыла посуду и замачивала на завтра горох, постирала посудные полотенца и взялась за иголку и нитку. Пуговица так и лежала на подоконнике. Анна Антоновна поддела ее иголкой и так с пуговицей на иголке, пошла за мужниной рубашкой.
Он стелил себе в кабинете. Очень это у него неловко получалось.
Он сообразил взять слишком большую простынь, и она у него свисала к самому полу. А наволочку, наоборот, взял самую маленькую и едва втиснул в нее диванную свою подушку. И одеяло взял, на котором она гладит большие вещи – шторы там или скатерти. Эта беспомощность, неумелость особенно почему-то испугала Анну Антоновну. Получись у мужа все ловко, аккуратно, можно было бы и заорать, и затопать на него ногами, а тут так все нескладно, так все дурно, что приходит мысль: а не серьезные ли у него намерения?
– Что это ты? – спросила она у него и не узнала свой голос, тонкий и какой-то треснутый. Она даже кашлянула, потому что говорить любила своим голосом, а этот был чужой, заемный. Алексей же Николаевич ждал истерики и крика, ждал, что на него будут топать ногами, и именно на это придумал убийственную фразу – фразу наповал:
«Аннушка, посмотри на себя в зеркало. С таким лицом не в постель ложатся, а вступают в рукопашную». Очень он гордился этой своей фразой про рукопашную. Анна же не заорала, а заговорила не своим голосом и вообще пришла с иголкой, на которой болталась пуговица от его рубашки. Надо было срочно придумать другие слова, а в голову лезла чушь. И он сказал эту чушь.