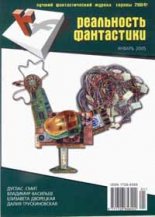Коксинель Рубина Дина

Из Рима во Франкфурт, куда пригласили меня на книжную ярмарку, я летела через Мюнхен, попутной дугой на маленьком сигарном самолете, на борту которого умещалось всего человек двадцать пять.
Как обычно, одними губами прошелестела дорожную молитву – на сей раз внимательно, истово, не пропуская ни буквы, стараясь и даже выслуживаясь, так как не была уверена, что Он присмотрит за этим моим самолетом. Одно из наказаний моей жизни: я, чьей стихией по гороскопу является Земля, вынуждена то и дело уноситься всем существом в такие непредставимые выси, куда даже мысленно боюсь перенестись. Я вообще боюсь всего, что не на земле. А тут еще такая утлая посудина, с такими случайными попутчиками на борту.
Летая израильским «Эль-Алем», я надеюсь на заступничество оглушающей меня оравы детей, нескольких ветхих стариков и обязательных в нашем пейзаже бодро-беременных женщин… На этот раз я не была уверена, что Его Главный диспетчер небесных путей станет стараться ради нескольких явных на вид чиновников и бизнесменов. О себе вообще не говорю. Ради меня Ему стараться совсем уж не стоило.
Впрочем, самолет летел низко, мне же, как человеку опорному, главное – видеть Твердь. Я сидела у окна и с неослабным тщанием дозорного собирала взглядом и держала, и вела за самолетом нитяную сеть дорог, ворс лесов и гребешок акведука, воткнутый в щетинку ущелья…
…Упитанные голуби с перламутровыми выдвижными шейками деловито прогуливались по брусчатке знаменитой площади. Вокруг звучал немецкий, на привыкание к которому у меня в Германии уходит обычно два-три дня. Мягкий, полнозвучный, рокочущий немецкий – то остроконечный и шпилевый, то оплетающий язык серпантином, то убегающий в перспективу, то закругленный и вьющийся, как локон, – целый рой порхающих бабочек в гортани! – великолепно оркестрованный язык, который, в силу некоторых семейных обстоятельств, мне трудно слышать.
Мне вообще трудно вообразить кого-то еще из моего поколения, кто ужас истребления своего народа без конца примерял бы на личную, вполне благополучную биографию. Это тем более странно, что я не напрягаюсь ни на йоту и даже не особо задумываюсь. Более того, этой темой я специально не занималась никогда, просто это живет во мне, как, я слышала, живут какие-то особые микробы в печени.
Например, гуляем с приятельницей по кельнскому «Кауфхофу», ищем мне приличный пиджак для выступлений.
– Вот, – говорит она, щупая материю. – Смотри, какой элегантный, полосочка такая деликатная…
– Нет… – отвечаю я, бросив рассеянный взгляд на вешалку с пиджаком. – Это лагерная роба, и это в моей жизни уже было.
– Когда?! – мгновенно оторопев, спрашивает она.
И я так же рассеянно отвечаю:
– В середине прошлого века…
…День выкатился ясный, с уклоном в осень, но еще летний, что называется – благодатный, и это золотое щедрое благо отблескивало в иссиня-черной брусчатке площади, вспыхивало в перламутровых шейках гуляющих голубей, играло в веерном каскадце фонтана, посвященного какой-то исторической дате, томилось в банках, баночках, бочонках янтарного меда, в красных и желтых брусах и колобках сыров и прочей пахучей снеди на рыночных лотках, промеж которых мы часа два гуляли с друзьями.
Я рано устала; то ли утренний полет утомил, то ли Германия навалилась разом, сытно и ярмарочно урча, то ли заново поразило – как неуклонно и надежно затягивает ислам своим белым платком удавку на шее Европы, но я вдруг устала… И поскольку вечером должна была выступать в русском литературном клубе, в конце концов взмолилась вернуться домой. У меня оставалось немного времени – отдохнуть перед выступлением.
– Погоди, – сказала подруга. – Успеешь домой. Вот сейчас только завернем за угол и пройдем одним роскошным парком…
На мои возражения, что роскошных парков, эка невидаль, и в Москве хватает, и в Израиле… она возразила с ликующе-таинственным видом: «Нет, такого парка ты, ручаюсь, еще не видела…»
И минут через пять мы уже входили в литые, изысканной резьбы ворота Английского парка, от которых катилась вглубь широкая дубовая аллея, действительно величавой красоты.
Минут десять мы шли по ней; в просветах между старыми стволами дубов, лип и акаций раскрывались поляны с купольными павильонами, открытыми беседками, яркими клумбами, и в разные стороны разбегались бесчисленные боковые аллеи – с легкими, резными на вид скамьями, откинувшими свои изогнутые шалью чугунные воротники.
Много росло здесь кизиловых кустов, и моя подруга рассказывала по пути, что немцы считают кизил несъедобным, а когда жена писателя Козицкого собирала кизил на варенье, какая-то сердобольная немка подошла и сунула ей в руку марку…
Завернув в одну из аллей, мы прошли по ней метров триста, повернули еще, и еще раз, и вышли, видимо, туда, куда стремились мои друзья. Они остановились, пропуская меня вперед.
Передо мной разверзлась…
Нет, сначала так: огромную поляну перерезал по диагонали широкий ручей, по берегам которого… (несколько коротких мгновений в торжественном молчании моих Вергилиев я нащупывала по карманам очки, наконец нашла и надела), – по берегам которого лежали на зеленой травке белые тюлени. Словом, это было лежбище нудистов, ничего особенного.
– Ну, полюбуйся, – со смешком процедил муж моей подруги, – вот так они и загорают. Причем течение в ручье сильное, однажды человека отнесло километра на два, он выкарабкался на берег и к своей одежде возвратился в переполненном трамвае. Ну, пойдем…
Мне предлагалось пройти напрямик, к противоположным воротам парка. Но я медлила…
Эта поляна с бледными дряблыми телами произвела на меня потустороннее впечатление. Словно передо мной широким полукругом расположились актеры, отдыхающие от сцен Дантова «Ада». Какая-то девица, вскочив, подала мяч сцепленными замком руками и с криком: «Гюнтер, Гюнтер!..» – побежала куда-то в сторону, тряся на ходу подбитыми ватой ягодицами…
Сразу же моя память явила сельскую баню в киргизском селе на озере Иссык-Куль, куда в детстве нас с сестрой вывозили на летние месяцы; мою ненависть к шайкам, горячей воде, плотному пару, жемчужным скользким телам голых женщин. Но главное – мою ненависть к публичности голого тела.
И это странно. Ведь я – дочь художника, выросшая в семье, где в шкафах стояло множество альбомов с репродукциями картин великих мастеров, писавших обнаженную натуру. И они легко открывались на любой странице. Никогда тема обнаженности не была в семье запрещенной или стыдной.
Откуда же это тошнотворное пуританство в моей крови, странное, особо крепкое устройство внутренних тормозов, вроде того, как на конвейере по производству автомобилей некий умелец от бога срабатывает одну из деталей, тормозное устройство; и вот проходят годы, машина дряхлеет, ржавеет корпус, барахлит мотор… А хозяин, поглаживая баранку, удовлетворенно замечает: «Но тормоза – железные!»
Однако в юности, лет семнадцати, я получила путаное и сдавленное объяснение моему необъяснимому, очевидно, врожденному, шоку от зрелища толпы голых людей. Помню: утро, на нашей террасе завтракает приехавшая накануне ночью дальняя родственница с Украины; ее вскрик при виде меня, еще заспанной, с гривой спутанных волос: «Готеню, вылитая Фира!» – и слезы на маминых глазах…
Это был первый и единственный раз, когда глухо и невнятно была проговорена история – вековечная очередная история! – о семнадцатилетней девушке, чьей-то вековечной очередной племяннице, дочери, сестре, расстрелянной под Полтавой (какая разница – где!) вместе с голыми соплеменниками. Правда, предварительно, когда их всех гнали к яме, она пыталась бежать. Но не успела… Боже, как я устала от своих собственных историй, от историй собственной семьи, которые всплывают в моей памяти в Германии с какой-то безжалостной, ослепительной вещественной обыденностью!
Мы шли, мои спутники подшучивали над загорающими нудистами, рассуждая: вот, мол, эти искренне полагают, что занимают высшую ступень человеческой духовности…
Пройдя до середины тропинки, я огляделась. Небольшая группа на расстеленных матерчатых ковриках увлеченно резалась в карты… Кто-то валялся с книжкой, кто-то, вполне в традициях рубенсовских полотен, раскинул самобранку на траве… Четверо толстяков играли в волейбол, и один из них, тряся животом и грудями, все время убегал за мячом в кусты… Я пригляделась и обнаружила несколько молодых, хорошо сложенных тел, а одна женская фигура, с великолепными плечами и грудью, с прекрасной линией бедер выглядела просто сошедшей с полотна Боттичелли… Ни один взгляд не останавливался на этом божественном теле. Да и сама она, греясь на последнем летнем солнышке, с панамой на голове, в темных очках, рассеянно перелистывала страницы книжки…
Что стряслось со всеми этими людьми, смятенно думала я, почему от них отвернулся Эрос, могучий и грозный Эрос, сметающий все преграды на пути и требующий лишь одного: хотя бы лоскутка, хотя б лишь дымки на замкнутых страстью, на вздыбленных страстью чреслах?!
Я вдруг вспомнила рассказ моего мужа, подростком покинувшего семью и поступившего в Симферопольское художественное училище. Начинающие художники, как известно, штудируют бесконечные рисунки с натуры. На первом курсе это предметы, а начиная с третьего – натура живая. И вот когда первокурсники бились над очередной постановкой – натюрморт с вазой и веером на вишневой драпировке со сложными складками, – вдруг рывком отворилась дверь, стремительно вошла женщина в халате и, бросив на ходу: «Привет, мальчики!», скрылась за деревянной резной ширмой, расставленной за подиумом. Борис, сидевший со своим мольбертом сбоку, увидел, как ловко, катящими движениями ладоней, она сворачивала бублик чулка с высокой белой ноги. Кровь бросилась ему в голову, тело ослабело… И кто-то из мальчиков вдруг истошно крикнул: «Тетя, это не здесь!!!»
Она выглянула из-за ширмы простодушным лицом, спросила: «А это что, не третий курс?» и, запахнув халат, выскользнула в коридор.
Через два года, когда за плечами студентов остался уже курс по анатомии, она позировала им обнаженной, и ребята спокойно и внимательно вглядывались в контуры женского тела, уверенной рукой растушевывая тени на листе.
…Я шла по тропинке меж голыми людьми, размышляла о природе эротики и чувствовала себя безобразно, омерзительно одетой.
Вспоминала уроки физкультуры, потрескивание шерстяного форменного платья, стянутого через голову в раздевалке, – о, какая мука совершать все это среди беспечных и любопытных соучениц, как искоса сравниваешь себя с девочками! – судорожное (скорей, скорей, чтоб никто не увидел синих, перешитых из маминого халатика, штанишек!) облачение в спортивный, обтягивающий грудь костюм. Ах, боже ты мой, – выпирают лямки бюстгальтера! Как скрыть эту проклятую грудь, когда прыгаешь через козла?!
Неужели эти люди, думала я, лениво развалившие ноги с застиранным исподом ляжек, с тускло-седой растительностью в укрытии сокровенной тайны, отпустившие на произвол бледно-пупырчатые мешочки грудей, – неужели они не чувствуют, какая грозная слепящая энергетика идет от обнаженного тела; неужели не понимают, что одежду мы надеваем именно потому, что не знаем – что делать с этой свободой, с этой прамощью райских кущ, с этим грозным господним проклятьем отнятого бессмертия? А вовсе не потому, что холодно или неприлично.
Через пять минут, оказавшись за оградой парка, я уже вновь шла меж мусульманских женщин в белых платках и длинных, до пят, серых платьях…