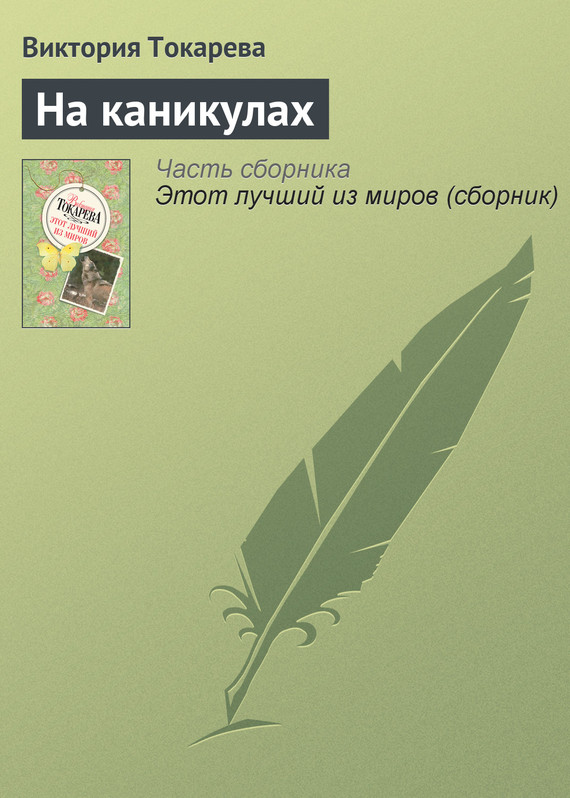Блудное художество Трускиновская Далия

Письмо от начальника парижской полиции Габриэля де Сартина было получено Архаровым очень некстати – Саша Коробов отсутствовал четыре дня, Клаварош, как и прочие архаровцы, был беспредельно занят. Почты скопилось столько, что дай Бог управиться с петербуржскими письмами – французские подождут. Апрель – а не на все мартовские послания отвечено.
То, что для всей Москвы было ожиданием великолепного праздника в честь победы над Турцией, для полицейских обернулось тяжким трудом. Еще зимой, в конце января, государыня Екатерина Алексеевна прибыла в Москву и поселилась в нарочно для того построенном деревянном дворце – сразу за Колымажный двором, кстати, по соседству с Архаровым. Дворец предполагался недолговечным – сразу же после отъезда царицы его собирались снести, оставив лишь то главное здание в голицынских владениях, кое, собственно, и облепили деревянными хоромами.
Здание это было для Архарова истинной карой Божьей. Поскольку он как обер-полицмейстер обязан был давать разрешение на все крупные строительные действия, то грядущий визит государыни, о коем стало известно еще осенью, сразу его озадачил: где селить все понаехавшее с ней общество? Ожидался «весь двор» – не в Кремле же его размещать, в трухлявых старинных покоях? Архитектор Баженов, еще до чумы получивший высочайшее приказание чуть ли не весь Кремль перестроить, год назад прекратил всякую деятельность. Екатерининский дворец на месте сгоревшего Головинского за Яузой, понятное дело, достроить не успели. Он был заложен почти два года назад на старых фундаментах летнего Анненгофского дворца по чертежам князя Макулова. Князь размахнулся – выдумал длиннейший фасад в пятьдесят окон, необъятный парадный зал, множество маленьких покоев, но стройка не ладилась. С опозданием выяснилось, что старые фундаменты нехороши, кирпич поставлен такой, что, не дожив до употребления, портится прямо в стоящих на сырой земле «клетках».
Кремль государыня всегда считала плохо приспособленным для обычной жизни, и потому еще с осени приняла предложение князя Голицына остановиться в его доме.
Тут-то и началась суета. Архитектор Казаков взялся преображать голицынский дом в новоявленный Пречистенский дворец. За основу взял голицынский дом на углу Волхонки и Малого Знаменского переулка, там надлежало быть покоям государыни, к нему надумал присоединить старый дом Лопухиных и, прихватив под свое сооружение еще земли из владений князей Долгоруких, их дом на Волхонке. Мысль была разумная – все меньше придется строить, однако объединить три дома в один – немалая морока, и Архаров, глянув на привезенный ему план, только охнул. Саша, стоявший за спиной, нагнулся, хмыкнул и произнес два малопонятных слова: «Тезеев лабиринт». Но если спрашивать секретаря о всех известных ему диковинных словах – то и служить будет некогда.
Хитроумное здание было готово как раз к суду над Пугачевым, и Архаров мрачно сказал князю Волконскому:
– Помяните мое слово, ваше сиятельство, высушить не успеют. Ему бы все лето стоять, сохнуть, а государыне вот-вот въезжать.
Из чего следовало: столько лет позволяя или же запрещая москвичам строиться, обер-полицмейстер кое-каких знаний нахватался. Очевидно, следовало сразу наложить запрет на сие недоразумение, но архитектор божился, что действует по указу государыни. Ну, коли ее величеству угодно быть гостьей господина Голицына – что тут возразишь?
И Архаров оказался прав. Дворец оказался тесен, печки плохо его отапливали, люди мерзли, государыня изъявила свое неудовольствие. К тому же, от Колымажного двора и конюшен шла известная вонь – государыня, при всей своей любви к лошадям, нюхать сие амбре круглосуточно не желала. Наконец, прилаживая деревянные хоромы к каменным, Казаков перестарался по части переходов и коридоров – были они длинными, пересекались неожиданным образом, и в первый же день государыня едва ль не два часа не могла допроситься дороги в свой кабинет. За февраль кое-как обжились, светская жизнь била ключом – какое неудовольствие, когда каждую неделю маскарад, на каждом маскараде по три тысячи человек гостей – а там, глядишь, и Великий пост – время являть смирение, а там уж и долгожданный апрель!
Занятый куда более важными материями, чем французские грамоты, Архаров, когда Саша вернулся и прибыл после обеда прямо на Лубянку, велел не столько перевести длиннейшее послание парижанина, сколько изложить внятно своими словами – и покороче!
– Коли сделать экстракт – вот что выходит, – и Саша, заглядывая в большой лист плотной бумаги, довольно мелко исписанный, заговорил казенным голосом: – С изъявлением почтения и восхищения… и прочая, и прочая… вот тут он уже дело говорит. Некая высокопоставленная особа приобрела очень дорогой столовый сервиз – золотой, с ручками из красной яшмы… на две дюжины персон… Однако сервиз при перевозке был похищен. Следы ведут в Россию. Он, Сартин, имеет основание беспокоиться, что такая дорогая и неповторимая… тонкой работы посуда… посуда будет приобретена для подарка нашей государыне кем-то из московских аристократов…
– Так и выразился? – уточнил Архаров.
– Примерно так. А сервиз знаменитый во Франции… погодите… нет, с чего он вдруг стал знаменитым, не сказано… Коли будет преподнесен государыне, возникнет реприманд… получится, что она приняла ворованное… Воля ваша, Николай Петрович, либо я чего-то тут не понял, либо Сартин, экивоками изъясняясь, что-то важное упустил.
– Золотой сервиз с красными яшмовыми ручками, – повторил Архаров. – Я такого нигде не встречал. Любопытная затея. Хорош, должно быть, коли золото как следует отполировано.
– Что прикажете отвечать?
– А то и отвечай – премного благодарны, желательно поболее узнать про тот сервиз, количество предметов, общий вес, кому ранее принадлежал… Да, и какие следы ведут в Россию! Не забудь приписать про почтение и восхищение. Диковинно…
Архаров задумался.
Прежде всего, его смутило, что Сартин сразу адресовался к нему в Москву. Следы сервиза ведут в Россию – пускай, французу виднее. Но почему в Москву, а не в Санкт-Петербург? И насчет аристократов неувязка – есть человек, который смог бы приобрести этот сервиз и подарить государыне, так он – один такой. Что занятно – на ее же деньги… Вряд ли другие соберутся делать столь дорогие подарки. Скорее уж сервиз будет предложен кем-то из известных посредников для продажи государыне… и, опять же, посредники главным образом в Петербурге обретаются, вряд ли потащились следом за двором в Москву…
Тут Архарову пришло на ум, что Сартин, возможно, точно такое же письмо отправил и в Санкт-Петербург.
– Переведи письменно, отнеси в канцелярию, пусть снимут две… нет, три копии, – сказал он Саше. – Увидишь Костемарова – гони ко мне. И Скеса, и Хохлова.
Этими архаровцами обер-полицмейстер дорожил еще и потому, что они не порывали связи с тем потаенным миром, который снабжал работой полицейскую канцелярию. Всякое случалось – порой проще и разумнее было выкупить краденое, чтобы не упустить его вовсе. А несколько раз осведомители предупреждали о готовящейся краже.
Демку где-то носила нелегкая, пришли Михей Хохлов и Яшка-Скес, поклонились, встали смиренно, принялись ждать приказаний. Та еще была парочка – плотный краснощекий Михей, голубые глазищи навыкате, нос репкой, и бледный рыжий Яшка-Скес, сейчас, как ни странно, чисто выбритый и оттого совсем бы похожий на болезненного подростка, кабы не широкие плечи.
Оба по происхождению своему были из шуров. Михей умел вскрывать замки, грабил дома, как-то и на церковь сдуру посягнул – да попался. Яшку воспитали для более тонкой работы – он на спор в толпе чистенько срезал у щеголей дорогие кружевные манжеты и золотые пуговицы.
Если Тимофей Арсеньев отрекся от прошлого раз и навсегда, если Федька Савин, угодивший в застенок за пьяную драку, вообще не имел прошлого, то Демка, Михей и Яшка, наоборот, за него держались. Архаров видел – они служат в полицейской конторе не от горячей любви к законности и порядку, а просто иного выхода им судьба не дала, опять же – круговая порука, связавшая всех бывших мортусов.
Глядя на них, Архаров медлил. Он решал, кто из них ему нужнее в Москве. Выходило, что Скес.
– Михей, поедешь в столицу. Пойдешь к вашей братии, к шурам. Разведаешь – не слышно ли чего насчет золотого сервиза с красными ручками. Украден в Париже. Может, где объявился, может, кому предлагали – вещицы там приметные. Сейчас ступай домой, собирайся в дорогу, через час придешь за подорожной и за деньгами. А ты, Яша, расспроси про то же здешних шуров. Сейчас же и беги в «Негасимку»… стой!.. Загляни к Марфе, может, его по частям продавать решили, так не предлагал ли ей кто. Да только верши! Она кубасья пельмистая, не остремайся.
Рыжий Скес кивнул.
Поскольку больше Архаров им ничего не сказал, то оба, поклонясь, вышли.
– Везет тебе, Михей Васильевич, в столицу поедешь, – с некоторой завистью поздравил Скес.
– Да чего там столица, она теперь вся к нам перебралась. Ломай теперь голову – как к тамошним шурам подойти…
– Так веселее ехать будет, пока доедешь – как раз придумаешь, – утешил Скес.
– Да уж…
Ехать было – коли не скакать во весь опор, как фельдъегеря, – дней шесть или семь.
Конечно же, Архаров мог просто написать в столичную полицейскую контору, Михей прекрасно это знал, так не раз раньше делалось. Видать, он почуял в деле о краже сервиза что-то столь значительное, что не захотел отдавать его столичной полиции, а решил все ниточки собрать в своих руках. Как бы оно ни было – спорить с обер-полицмейстером не стали.
Михей тут же смылся с Лубянки, а Яшка, прежде чем идти через Зарядье в «Негасимку», поискал Устина.
После того, как бывший дьячок изъявил желание служить, да не в канцелярии, а быть архаровцем, с ним произошло немало недоразумений. Кончились они тем, что за Устином стал присматривать Скес. Они были почти ровесники, Скес годом моложе, но уж такие разные – нарочно не подберешь. Устин, открытая душа, был вечно озабочен всякими высокими материями, долго и мучительно разбирался со своими внутренними сложностями, и рассказывал про то всякому, кто пожелал бы слушать. Яшка-Скес вырос в обстановке, отрицающей высокие материи, а что у него делалось внутри – никому не докладывал, занимал себе свою ступеньку на полицейской лестнице, да и ладно. Возможно, Устин показался ему неразумным младенцем, который без опеки пропадет. А, может, в обществе бывшего дьячка вечно настороженный молодой шур мог несколько расслабиться, не ожидая подвоха, кто его разберет – иной раз такие пустые глаза у него на роже, что не по себе делается, невольно охватывает беспокойство – в своем ли он уме…
Устин в общем был доволен переменой в своей жизни. Хотя и канцелярские труды имели свою прелесть. Сиди себе да возись с бумажками – в тепле, в приятном, коли не считать старика Дементьева, обществе, никакой беготни, даже коли лень брести в трактир, можно попросить казенной каши в подвале у Фили-Чкаря. Но, с другой стороны, копиисты, подканцеляристы и канцеляристы являлись в присутствие в пять часов утра и сидели до двух часов дня. Затем, пообедав и вздремнув, они возвращались к своим столам и трудились до десяти часов вечера. Такой распорядок делал посещение храма Божия весьма затруднительным – кто же станет служить литургию нарочно для Устина в обеденное время?
Став настоящим архаровцем, он первым делом обнаружил неожиданную прореху в кошельке – подметки так и горели. Но, бегая по Москве, он всегда мог забежать в церковь, даже так рассчитать, чтобы надолго. Тем более, что Устин в Рязанском подворье имел свое постоянное занятие – как человек, хорошо знающий церковную жизнь, он заведовал осведомителями, приближенными к храмам, и вовремя извещал о всех крестных ходах. Это было, на архаровский взгляд, довольно обременительной обязанностью для полиции – присматривать, чтобы во время крестного ходя не было поблизости шума и безобразий, чтобы оказались на его пути закрыты все лавки, кроме торгующих провиантом. Кроме того, Устин охотно исполнял еще одну полицейскую обязанность – следить за порядком в самих храмах. Тут он объединял служебное с душеспасительным. Тимофей выучил его ухваткам, позволяющим быстро извлечь на паперть пьяного крикуна, а Ваня Носатый преподал хитрый тычок в грудь, лишающий человека чувств, – но это уж на самый крайний случай.
Яшка-Скес перехватил Устина при выходе из канцелярии, где тот писал донесение. Оказалось, им по пути – Устин собирался во Всехсвятский храм, что у Варварских ворот. Пошли вместе.
Весна была во всем – даже лица москвичей посветлели. Архаровцы наслаждались теплом и солнцем – за зиму им осточертели тяжелые кафтаны и епанчи, смазные сапоги такой ширины, чтобы способно было намотать потолще портянки, а также рукавицы, сильно осложняющие всякую погоню и драку.
– Вот и Пасха скоро, – сказал Устин, жмурясь на солнышко. – Я на следующей неделе исповедаюсь, причащусь, буду каждый день в храм отпрашиваться…
– Так тебя и пустили.
– На Страстную отпустят. Хорошо как Евангелие слушать… вроде и знаешь в нем каждое словечко, а слушаешь – и так страшно делается… а то бы вместе сходили?
Яшкина отстраненность от божественных дел Устина смущала и беспокоила. Будь его воля – он бы все население Рязанского подворья утром и вечером в храм водил, потому что полицейские – народ грешный и о душе заботятся непозволительно мало. А именно Скес был ему теперь дороже прочих, потому что несколько раз выслушал горестную повесть о неудачной проповеди в доме Дуньки-Фаншеты и удержался от обычных в полицейской конторе соленых шуток.
Правда, глаза у бывшего шура при этом ровно ничего не выражали, как если бы он дремал, но сие могло означать и известный навык придавать лицу сонный вид, в то время как шустрые пальцы делают свою работу.
– Как кончится это столпотворение – так и сходим, – лениво пообещал Яшка.
– А ты знаешь ли, что значит – столпотворение?
И Устин, премного довольный, принялся растолковывать то место из Священного Писания, где жители Вавилона придумали строить башню до небес.
Он говорил вдохновенно, руками показывая высоту башни и вавилонскую суету вокруг нее, не обращая внимания на прохожих, которые уступали им дорогу по трем причинам зараз: буйный вид оратора, малоприятная рожа Скеса, а главное – репутация, которая влеклась за всеми архаровцами, как чересчур длинная епанча. Москва знала, что при наведении порядка эти господа церемоний не соблюдают и к галатонности не склонны.
– Ну так то ж оно и есть, – сказал Скес. – И смешение языков тут же. И вон дворец Пречистенский – чистое столпотворение. А на Ходынском лугу – тут и к бабке не ходи: столпов по всем кочкам понатыкано.
Ходынский луг был огромным пространством у Камер-Коллежского вала, весьма неровным, с оврагами и косогорами. Его большей частью занимали пахотные поля ямщиков Тверской слободы, хотя князь Волконский сильно желал устроить там место для летних военных лагерей. Именно неровность почвы и была удобна для устройства там народных увеселений в честь победы над турками – на горках могли стоять всевозможные храмы Славы, увитые лавровыми гирляндами, триумфальные ворота и прочие принадлежности торжества.
Торжество намечалось на десятое июля, и господин Баженов, сообразно личным указаниям государыни, строил на лугу нечто, в Европе до сих пор невиданное и неслыханное.
Он изображал на местности театр военных действий между Россией и Турцией, причем российские постройки имели то кремлевские зубцы, то купола-луковицы, турецкие же были снабжены минаретами. Низина была Черным морем, дорога – река Танаис, сиречь Дон, другая дорога – река Борисфен, сиречь Днепр. Там, где Дон впадал в Черное море, Баженов с Казаковым строили огромное здание столовой, которое уже носило название «Азов», в устье же Днепра ставили театр, именуемый «Кинбурн», таким образом географические подробности соблюдались почти безупречно. Холм посередке меж ними был Крымском полуостров, с городами Керчью и Еникале. Посреди «моря» велено было ставить лодки и корабли, показывающие как бы морское сражение.
Все сие великолепие заранее уже внушало архаровцам великую неприязнь. Народные увеселения и гуляния – как раз такое место, где собираются шуры и мазурики всех мастей. Государыню, понятно, никто не обидит – а вот наутро после главного фейерверка и потянутся к Рязанскому подворью с «явочными» посланцы сильно огорченных господ: у которого золотую табакерку вытащили, у которого – кошелек, пока хозяин, разинув рот, любовался на огненные колеса и вензеля в небе.
У Всехсвятского храма Яшка-Скес простился с Устином и пошел к Марфе в Зарядье.
Он знал ее с детства – и был как-то нещадно дран за ухо при попытке, сблагостив ей краденые часы, у нее же стянуть со стола серебряную ложку. Теперь, когда сам он уже почти четыре года прослужил в полиции, а она не раз оказывала Архарову помощь в делах, оба про ту ложку вслух не вспоминали. Однако неприязнь осталась.
Пройдя через небольшой двор, Яшка заглянул в окно – догадаться, дома ли хозяйка, и увидел Марфин затылок, охваченный по-простому повязанным платком – узлом на лоб. Окно было приоткрыто, и он прекрасно слышал, что происходит в комнате.
Марфа была занята делом – перед ней за большим кухонным столом сидела зареванная молодая особа, судя по дородству – купчиха, а сводня колдовала над чашкой.
– Гляди, дура, вот я белок взбиваю… – и веничком из ободранных прутьев она шустро вздымала пену, – и туда, в белок, лимонный сок лью, и туда же, да ты гляди, французской водки две ложки. Все это между собой перемешается… руки отведи!..
Яшка из любопытства вытянул шею и увидел красную физиономию гостьи.
– Вот салфетка, утрись! – командовала Марфа. – А теперь запрокинься, вот так…
И она стала мазать лицо снадобьем из чашки, приговаривая:
– И кто ж тебя, дурочку, по солнцепеку-то гонял? Нет чтобы в тенечке посидеть! Непременно тебе было под солнце подставиться. Этот вешний загар – самый опасный! Терпи! Дня за два твой загар сойдет, как не бывало, опять будешь беленькая. И запомни – средство еще от лишая хорошо.
Яшка присел на завалинку и подставил лицо под солнечные лучи. Он бы и не против был немного оживить физиономию румянцем, но кожа как была белой – так белой и оставалась, на зависть иному щеголю, который изводит на деревенскую свою краснощекую образину фунт пудры, придавая ей томную бледность.
Наконец ему надоело слушать Марфину речь о тайнах женской красоты.
– Марфа Ивановна! – позвал он. – Тут тебе кавалер некоторый кланяется!
Марфа выглянула в окошко.
– Ах, это ты, Скес? Погоди, сейчас выйду.
Яшка не был столь подозрителен, как Архаров, и в нежелании Марфы пускать себя в дом углядел разве только то давнее воспоминание о серебряной ложке. Однако до сей поры она Скеса в дом впускала – и ничего… что же у нее там за сокровища, кроме обгорелой купчихи?..
Пока Марфа накидывала шаль и выходила на крыльцо, Яшка заглянул в окошко уже основательнее.
Купчиха, укутанная в пудромантель, сидела зажмурившись и запрокинувшись, чтобы снадобье не стекло с личика. А на столе, где могли бы лежать на виду сокровища, Яшка увидел ряд грязных кофейных чашек и блюдец, как будто Марфа угощала кофеем роту гвардейцев.
Сводня имела множество недостатков, но вот одно достоинство известно было всем соседям: она не терпела беспорядка и грязной посуды. Мало того, что чашки с блюдцами стояли немытые, – так еще Марфа не постыдилась явить свое неряшество гостье. А ведь купчиха непременно разнесет, что старая сводня принимала ее в неприбранной кухне.
Стало быть, этой дуре Марфа не стесняется показывать грязную посуду, а полицейскому – не желает?
Следующий Яшкин вопрос был: да на кого ж это она извела столько кофея?
Дверь скрипнула, и Яшка-Скес стоял у крыльца раньше, чем она отворилась окончательно.
– С чем пожаловал? – спросила Марфа.
– Господин Архаров спросить велел, не слыхала ли чего…
И Яшка изложил историю о похищенном французском сервизе.
– Сам золотой, ручки красные? – переспросила Марфа. – С этим – не ко мне, это графьям и князьям предлагать станут.
– Господин Архаров велел спросить – я и спрашиваю. Ты во многие дома вхожа, глядишь, чего разведаешь, – уважительно сказал Яшка. – Кваском не угостишь ли?
Квасу ему не хотелось, а хотелось понять, что за кофепитие устроила Марфа и куда подевались ее многочисленные гости. Вряд ли немытая посуда стояла тут со вчерашнего вечера.
– Наташка! – крикнула Марфа, обернувшись. – Квасу ковш неси!
Девчонка вышла из сеней – и тут-то невозмутимая Яшкина рожа наконец ожила, рот приоткрылся.
Он не видел Наташку почитай что всю зиму – а она за это время так расцвела и похорошела, что любо-дорого посмотреть. Светлые волосы, гладенько зачесанные, отливали золотом. Густые ресницы на солнышке тоже были золотистыми, а уж глазищи… апрельское небо, да и только…
Было ей, по Яшкиному разумению, лет пятнадцать, однако детство Наташкино в Марфиных хоромах и не могло затянуться надолго: несомненно, старая сводня уже присматривала, кому повыгоднее продать эту юную красоту.
Выпив ковшик кваса и поблагодарив хозяек, Скес пошел прочь, размышляя, что дело он вроде сделал, а про кофейное угощение надобно будет спросить Клавароша. Может, там что-то вовсе невинное. Если же Марфа ему ничего не сказала – тогда доложить господину Архарову.
В полицейскую контору Яшка прибыл очень вовремя…
Минут за десять до его появления дверь архаровского кабинета приоткрылась.
– Что там еще? – спросил обер-полицмейстер. Он как раз был занят тяжким трудом – подписывал бумаги, которые подкладывал ему одну за другой старший канцелярист Патрикеев. И ждал его еще документ, отчитываться за который предстояло самой государыне. Это был буквально на днях завершенный «План, прожектированный Москве-городу и предместьям». Еще осенью из Санкт-Петербурга пришло указание Екатерины Алексеевны – убрать валы и стены Белого города, пустое место разровнять и для красоты обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Сейчас на столе уже лежало изображение большого бульвара с аллеями в два ряда деревьев, прерываемыми площадями у ворот Белого города. Площадей было девять – столько же, сколько упраздняемых ворот. Архарову хотелось посидеть над планом с карандашом в руке, поискать ошибок и прямых глупостей.
Не сразу, но появился Клашка Иванов. Какой-то не в меру смущенный.
– К вашей милости, коли изволите…
Обер-полицмейстер понял – стряслось нечто непредвиденное.
– А ну, заходи, да дверь, дурень, прикрой.
Клашка быстро исполнил приказ, но видно было, что ему сильно не по себе.
– Кого там бес принес?
– Сказался подрядчиком, ваша милость, и с женой…
– Ну так в чем загвоздка? В канцелярию его, пусть ему составят «явочную»… да что ты в пол уставился? Копейку, что ли, ты тут потерял?
– Они вашу милость хотят видеть.
– А для чего им моя милость? – Архаров уж начинал сердиться. – Можешь ты внятно сказать?
– Они с жалобой пришли.
– На кого?
– На архаровцев.
Обер-полицмейстер задумался. Жалоб на подчиненных он слышал немало и старался в них особо не вникать. Однако хоть изредка следовало делать видимость, что к буянам принимаются строгие меры.
– Ну, проси.
Вошли не двое, как он полагал, а трое: мужчина в годах, его рыдающая супруга и девка дет двадцати, красная, как вареный рак, и с таким огромным брюхом, что обер-полицмейстер даже головой покачал. Всякое в этом кабинете случалось, но вот скоропостижных родов еще не было.
– Вашей милости архаровцы дочку мою обидели! – сразу приступил к делу мужчина. – Девка молодая, дура! Допустила, чтобы ей юбку задрали! Спрашивали – кто?! Молчит, дура!
– Прелестно, – сказал на это Архаров. – Может, кто-то другой потрудился во славу Божию?
– Архаровец, кто же еще! Соседи видали да нам сказали.
– Архаровец, стало быть…
– Простите, ваша милость… а только так оно и есть!.. Мы Курепкины, нас вся Якиманка знает! Сраму-то – ведром не вычерпать…
– А что ж, твоя девка не припомнит, с кем была? – резонно спросил обер-полицмейстер. – Ну-ка, сударыня, отвечай! Кто таков, как звать? Не бойся, тут тебя никто не обидит.
– Да я… – отвечала зареванная девка. – Да я раз только… раз один с ним… была!..
– До что ж ты у нас за дура! – в отчаянии воскликнул отец. – Ваша милость, девка молодая, ваш молодчик ее уговорил!
– Так сразу и уговорил? – Архаров глядел на девку с некоторым сомнением. – И не назвался?
– Да соврал, поди! Чтоб потом не сыскали! А дура моя молчит! Ваша милость, век буду Бога молить! Пусть он, подлец, покроет грех!
Архаров собирался было спокойно ответить, что грешили-то оба, но тут девкина мать бросилась на колени перед столом и заголосила, как на похоронах.
Это обер-полицмейстеру сильно не понравилось. Он встал и, обойдя вопленицу, подошел к возмущенному отцу.
– Рот ей заткни как-нибудь, – приказал он. – Не то всех отсюда в тычки выставлю.
Подрядчик, или кем уж он был, нагнулся над женой, встряхнул ее за плечи, взял под мышки и с некоторым трудом поставил на ноги. Одновременно он нашептал бабе в ухо чего-то такого, от чего она и впрямь замолчала.
– Коли это мои виноваты, я сей же час докопаюсь, – пообещал Архаров. – Клашка!
Обер-полицмейстер знал, что за дверью кабинета уже собралось целое общество, и Клашка в том числе.
Архаровец вошел, был взят за плечо цепкой обер-полицмейстерской рукой и развернут рожей к пострадавшей от Амура девке.
– Говори – этот?
Девка помотала головой.
Архаров хмыкнул – коли Клашка ни в чем не виновен, чего ж у него унылый вид, словно живот схватило? Была в этом деле некая неправильность, некая загадка. А он, встречаясь с загадками, любил найти самое диковинное решение.
– Пошли все на двор, – распорядился обер-полицмейстер. – Клашка, собрать всех, и из подвала тоже. И Шварца. И канцелярию. Всех – на двор, и построить в одну шеренгу.
Очень быстро приказ был выполнен. Как нарочно, в конторе и на дворе Рязанского подворья было довольно много архаровцев, подоспел и Яшка-Скес, и шеренга вышла длинная. Архаров вышел, оглядел свое воинство и повернулся к жалобщикам. Он хотел приказать им, чтобы глядели внимательно и указали виновника пальцем. Но вдруг ему в голову пришло именно то, что превращало сию унылую процедуру в целое выдающееся событие.
– Ну что, орлы? Как девок еть – так вы тут, а как под венец – так в кусты? – спросил он. – Пусть тот, кто сие непотребство учинил, тут же из шеренги выйдет.
Архаровцы молчали, не двигались.
– Вдругорядь повторяю – кто девке брюхо набил, тот пусть выйдет из шеренги сам! Не дожидаясь, покуда розыск учиню! – грозно, пожалуй, даже избыточно грозно произнес обер-полицмейстер.
– Так, так, – прошептал стоящий слева от него подрядчик Курепкин.
И тут свершилось!
Не шепот – легчайшее подобие шепота полетело по шеренге. И вышел, сделав два огромных шага, Ваня Носатый.
– Прелестно, – сказал Архаров. – Немудрено, что ваша девка застеснялась… Ну что ж, других грехов за моим служителем нет, и коли вы не прочь…
– Да побойся Бога! – закричал подрядчик, а кому, Архарову или Ване, было непонятно. – Да чтоб с такой гадкой харей?!. Да быть того не может!
Того, что случилось далее, Архаров никак не ожидал. Из шеренги вышел Шварц.
Он встал прямо перед обер-полицмейстером, изобразив на своей физиономии, в обычное время довольно скучной, окончательную отрешенность от мирских хлопот.
Не успели подрядчик с супругой недоуменно переглянуться, два шага вперед сделал Вакула.
Этот монах-расстрига из прошлой жизни взял в нынешнюю лишь огромную бороду, столь пространную, что только в две растопыренные ладони и мог ее огладить.
– Я что ж, ваша милость? – спросил он Архарова мощным басом и сам же ответил: – Как начальство, так и я. Филя, а ты что же?
Четвертым вышел повар Филя-Чкарь, также из мортусов, седой и с хорошо видными знаками на лице.
Пятым выскочил Захар Иванов, еле удерживая хохот.
Шестым – степенный Тимофей Арсеньев.
Седьмым – Федька Савин, а далее уж было не понять, кто за кем.
От всей шеренги остались только Никишка и старик Дементьев.
Маленький Никишка толком не понял, что тут творится, понял лишь, что от старших что-то важное требуется. Обнаружив себя на краю несуществующей шеренги совсем одного, он забежал впереди всех и встал перед Архаровым очень довольный, что выполнил приказание.
Старик же Дементьев плюнул и без обер-полицмейстерского позволения пошел прочь.
– Ну, братец, выходит, все разом твою девку обидели, – сказал Архаров обалдевшему подрядчику. – Лучше бы ты за ней смотрел – и не было бы срама. Ступай-ка ты подобру-поздорову, да и с девкой своей вместе. Недосуг нам с ней разбираться…
Когда незадачливые посетители убрались со двора, обер-полицмейстер, проводив их взглядом, повернулся – и увидел шеренгу своих архаровцев.
– Ну, что встали? Делать нечего? Пошли вон, пока на дробь не напросились! – прикрикнул он на свое воинство.
И точно – каждый сам знал, где ему быть, у Пречистенского дворца ли нести службу, в Коломенское ли ехать, где для государыни приводили в порядок старинные апартаменты, с десятскими ли в обход города…
Минуты не прошло – на дворе стояли только Архаров и Шварц.
– Ну, Карл Иванович, потешил! – сказал Архаров. – Уж от кого, от кого, но от тебя не ожидал.
– Обвинение было высказано всем архаровцам, – ответил немец, – а поскольку я уж который год являюсь оным, то и полагал, что ко мне оно тоже относится. Поскольку мы, архаровцы, связаны круговой порукой, то я счел себя вправе ответить один за всех, зная, что мне ваше неудовольствие менее, чем прочим, угрожает.
– И выходил бы тогда первый.
– Я не мог предвидеть, что Ваня опередит меня.
– Вот дуралей, – сказал, имея в виду Ваню Носатого, Архаров. – А коли бы вы все меня не насмешили? Он бы за всех и отдувался.
– Ваша милость, Николай Петрович, а он бы с той девкой охотно под венец пошел. Девка с прибылью, так и он не купидон.
– Ну да, ну да… Честную ему не отдадут, а эту… – пробормотал Архаров. – Прелестно… Жених нашелся на мою голову…
Слово «жених» почему-то вызвало из памяти лицо и речь княгини Волконской.
– И его расчет по-своему верен, – продолжал немец. – Через неделю у нас Пасха, затем в течении Светлой седмицы не венчают. А девка уже на сносях. И широкой зимней одеждой она свое состоянии прикрывать не может. Когда бы родители были несколько умнее, они бы нешуточно подумали над Ваниным предложением.
– Больно им нужен безносый зять…
– Безносый, зато венчанный. А так они имеют повреждение репутации и внука от неизвестного отца.
– Отчего ж неизвестного? Внук у них наш, архаровский… Странно, а я на Клашку было погрешил… Скажи, Карл Иванович, молодцам – сейчас докапываться недосуг, а пусть бы тот, кто потрудился, сам бы и прикрыл грех как-нибудь втихомолку. Вдругорядь спасать не стану.
Архаров действительно был стеснен во времени. На вечер он наметил малоприятное занятие – а точнее, его ввергла в хлопоты княгиня Волконская:
– Государыня после Пасхи примется визиты наносить, ну как и к тебе нагрянет, Николай Петрович? Неужто тут ее принимать?
– Не нагрянет, – отвечал обер-полицмейстер. – Я ей не по нраву пришелся.
Он это знал доподлинно. И по лицу прочитал, и путем несложных расчетов вывел. Архаров своим полковничьим званием и должностью был обязан Григорию Орлову, а он утратил былой фавор, да и все братья Орловы оказались вдруг не у дел, кроме разве что Алехана. Зато резво шел в гору другой Григорий – одноглазый богатырь, имевший не менее причуд, чем его предшественник, но не в пример более бойкий умом и сообразительностью. Вряд ли хвалит государыне тех, кому покровительствовали Орловы, а наоборот – вернее всего!
– А ты, Николай Петрович, государыни не знаешь. Она ниже своего достоинства ставит пренебрежение теми, кто ей честно служит, да не по душе пришелся. Нарочно возьмет и приедет – ради справедливости. И что? В кабинет свой ее приведешь, что ли? Тебе не для того жалование большое платят, чтобы ты дом свой содержал бедно!
Архаров покивал – служил он честно.
Чуть ли не в первые дни после приезда государыни стряслась беда – в храме Варвары-великомученицы, что на улице Варварке, были в одну ночь похищены едва ли не все утвари, сосуды и оклады. Екатерина Алексеевна сильно огорчилась – тут, собственно, и произошла первая встреча царицы с московским обер-полицмейстером. Он получил приказание непременно сыскать воров и уверил государыню, что все будет исполнено. Демка тут же был отряжен к ведомым шурам – Архаров уже довольно знал свое ремесло, чтобы определить след не случайного пьяницы, вломившегося в храм и похватавшего, что под руку подвернулось, но человека бывалого и знавшего, что тут самое ценное. Но едва ль не на следующий день десятские доставили в полицейскую контору какого-то жалкого отставного солдата, признавшегося в сем преступлении.
Его привели в кабинет, он рухнул на колени, и обер-полицмейстер, едва глянув в лицо, сказал сердито:
– Врешь. Не походишь ты на вора.
– Грешен, бес попутал, – был ответ.
В кабинет привели десятских, которые его взяли, и они побожились, что следы на свежевыпавшем снегу, замеченные у храма наутро после кражи, доподлинно принадлежат солдату.
Архаров велел доставить хозяина, у которого жил солдат, снимая какой-то темный чуланчик. Хозяин прибыл перепуганный, но вредить жильцу не пожелал. Сказал, что солдат – нрава тихого, ежедневно ходит к заутрене и к ранней обедне. То бишь, удаляется из дому затемно, и никто тому не удивляется. И в ночь покражи – соответственно.
А тут еще и следы – его…
– Кого ты боишься? – прямо спросил солдата Архаров.
Ответа не получил.
– Ты видел, кто в церковь вломился?
И тут ответа не было.
– Хорошо, растолкуй мне, как ты в храм забрался, чем замок открыл.
Солдат словно бы не слышал.
Обер-полицмейстер бился с ним часа два, не меньше. Наконец приказал архаровцам взять этого дурака – и идти туда, где он спрятал похищенное, коли не покажет – в подвал его, к Шварцу! Солдат, простоявший все время дознания на коленях, молча встал, поплелся, подгоняемый тычками, к двери – и тут Архаров обратил внимание, что старик прихрамывает.
Природное любопытство погнало его на двор, где он устроил целое представление: солдата водили по снегу скорой и медленной походкой, Сергей Ушаков, схожий с ним комплекцией, ходил рядом, затем все вместе сравнивали отпечатки хромых и здоровых ног. Сошлись на том, что хромизну определить можно – коли вглядеться внимательно. Десятские, поймавшие вора по следу, были снова вызваны к Архарову, вместе с ним вышли во двор, где Никишка охранял отпечатки, и тут же увидели свою ошибку.
Князь Волконский, немного беспокоясь за подчиненного, приехал в палаты Рязанского подворья вовремя – извозившийся в снегу обер-полицмейстер выпроваживал солдата, ругая его в хвост и в гриву.
– Страдалец сыскался! Господь его за грехи испытывает! Еще чего мне тут нагородишь? Михайла Никитич, что прикажешь с этим народом делать? Кабы не сразу ко мне привели – у Шварца бы ему уже всю спину ободрали.
– А с чего он на себя наклепал?
– А сдуру. Думал – коли повинится, его более допрашивать не станут. Это все черная душа с его злодейской репутацией. Полдня на дурня потратили. Хорошо, Шварц случайно рядом оказался – тут все и объявилось.
– До того народ твоего немца боится, что на каторгу готов идти – лишь бы не к нему в подвал? До государыни бы не дошло…
Архаров не придал этим словам внимания. Важнее было отыскать покражу. И пущенные по следу Тимофей с Демкой довольно скоро добрались до подлинного вора, имевшего, как на грех, весьма похожие по размеру и скосу каблуков сапоги.
Когда Архаров лично доложил о поимке вора и отыскании церковного имущества, государыня изволила поблагодарить за скорость и рвение. Он, не умея разговаривать со столь высокими особами, молча поклонился. И не вовремя глянул, выпрямляясь, в лицо царицы. Прекрасные синие глаза смотрели холодно – чем-то он все же не угодил, чем-то был неприятен. И уже ничего не значила любезность – государыня быстро глянула себе под ноги, словно подбирая с пола нужные слова, и Архаров увидел притворство так же ясно, как если бы играл роль размалеванный гаер в балагане.
О том, что Екатерина Алексеевна еще не пришла в себя толком после дороги, что ей плохо спалось в сыром дворце, что с утра она хотела поесть, да крошки в рот взять не смогла, что второй уж день переговаривалась с милым другом исключительно записочками, Архаров не знал – и по вечной своей подозрительности отнес недовольство женщины исключительно к своей персоне.
Так что визита государыни ждать не приходилось. Да и при мысли о перестановках в доме Архаров весьма недовольно хмыкал.
В конце концов, отставив всякую деликатность, княгиня Елизавета Васильевна сделала ему выговор: его хоромы сделались похожи на кремлевские кладовые, набитые рухлядью времен царя Алексея Михайловича. Особенно ей при последнем гостевании не понравилось старое бюро, понизу расписанное большими голыми нимфами. Потому еще в феврале велела вызвать на Пречистенку мебельщика, да и сама обещалась приехать, чтобы объяснить мебельщику положение дел.
Архаров сильно не хотел этой встречи и всячески ее оттягивал. Княгиня прислала записочку, в коей была приписка князя: стыдно-де кавалеру упрямиться перед дамой! Шутки шутками, а приходилось отложить все дела и заниматься меблировкой.
Тонкого артистического чутья Архаров не имел вовсе. Он даже был уверен, что обер-полицмейстеру оно по должности не полагается. Положить на кафтан галуна пошире – вот и красота, какой еще надобно?
Зато подходящего мебельщика Архаров знал – это был купец с Ильинки, кое-чем ему обязанный. Сие предполагало, что купец не станет набивать цену. Однако Архаров понимал, что ему постараются навязать вещей, в коих он сроду не нуждался. И потому он, отвечая на записочку, нижайше просил ее сиятельство помочь советом при обустройстве дома. Она дама светская, у нее в гостиной от новомодных столиков не протиснуться, и картины также ею подобраны, вот бы и научила уму-разуму, чем нотации читать.
Осталось только свести их сместе – да присмотреть, чтобы не слишком много денег ушло на эту блажь.
Княгиня именно этот вечер назначила для визита, и Архаров, не став разбираться с Клашкой, поехал на Пречистенку. По дороге заехал на Никольскую взять у модного московского кондитера Апре, недавно поселившегося там в доме генерал-майора Ржевского, разного рода десертов, бисквитов, конфектов и драже. Еще с утра он отправил Никодимку за марципанами – немец-булочник, коему протежировал Шварц, не ленился растирать миндаль с сахарной пудрой столь тонко, что изготовленные им овечки были чудо как хороши и сохраняли вид на блюде вплоть до попадания в рот едока. Марципаны были лакомством постным – их, поди, и сама государыня, свято соблюдавшая посты, сейчас ела.