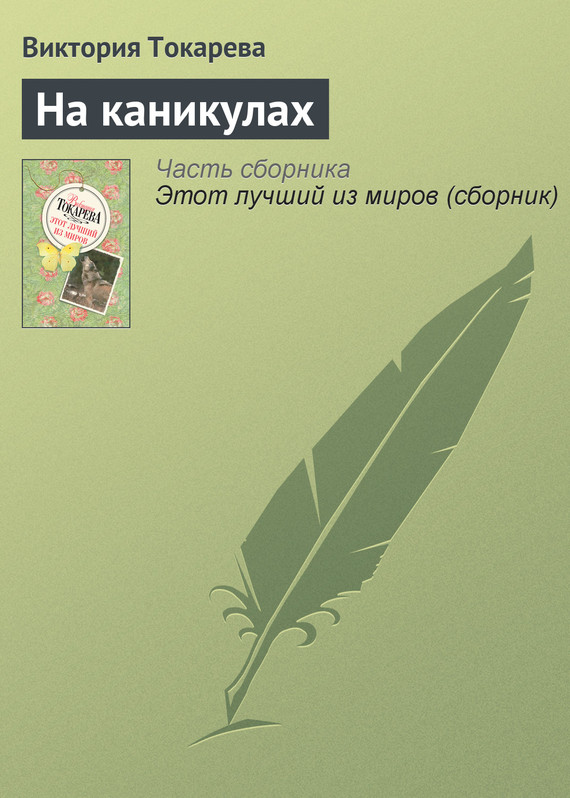Кот и крысы Трускиновская Далия

– Может, Матреной? – усомнился Архаров.
– Мар-то-на, – четко произнесла Дунька. – По-благородному.
– Ишь ты. А скажи, Дуня, как это вышло, что ты вся в жемчугах и парче оказалась? Вряд ли твой сожитель тебя в Зарядье сыскал.
Дунька рассмеялась.
– А я в горничные нанялась, – сообщила она. – Марфа, пошли ей Господи здоровья и хорошего жениха на старости лет, место нашла. У госпожи Тарантеевой, что на театре Венер представляет. Она мне сказала: ты тут со мной пропадешь, зазря истаскаешься, а ты ступай-ка туда, где большие деньги крутятся. А у моей хозяйки как раз молодой любовник завелся, музыкант! А у нее сожитель об этом проведал!..
Дуньке страшно хотелось рассказать всю свою историю, достойную французского романа, где были и спрятанные под кроватями мужчины, и не вовремя тявкающие постельные собачонки, и звонкие оплеухи, и поспешные переодевания, и ларчики с деньгами, и побеги из окон, и много иного. Но Архарову было довольно – суть он уже понял.
* * *
На следующий день Архаров встал довольно рано – Никодимка разбудил.
– К вашем милостям дамская особа!
– Какая такая особа? – первым делом он, понятно, вспомнил благодетельницу Дуньку. И подумал – надо же, не наигралась!
– Да Марфа! – уныло воскликнул Никодимка.
Архаров невольно улыбнулся – день начался неплохо, Марфа не с пустыми руками явилась.
Встретил ее по-свойски – в шлафроке.
– Ух, пока от Зарядья до тебя, сударь, добрела! Вели Никодимке кофею сварить. Погляжу, не забыл ли, чему я его, дармоеда, учила, – потребовала Марфа, войдя в кабинет. – Ну, одно тебе скажу – женить тебя пора! Жена в дому-то порядок наведет.
– Садись, Марфа Ивановна, в ногах правды нет, – предложил Архаров. – Я тебя не только кофеем попотчую – а чумные пироги помнишь?
Она рассмеялась.
Архаров вывалил на блюдо тех конфектов в нарядных бумажках, которые Левушка привез из Санкт-Петербурга. Они были недолговечны – желательно бы съесть поскорее. А когда ешь – поглядеть с изнанки бумажки, там непременно стишок.
Марфа, жуя, разобрала по складам свой:
- «Он был тотчас
- Пленен заразами твоих прелестных глаз».
– Нешто у меня, кроме глаз, больше ничего не осталось? – смеясь, спросила она. – Ты глянь, сколько округлости! А тебе, сударь, что досталось?
Архаров вынужден был прочитать нелепицу:
- «Коли душу погублю,
- То тебя я полюблю».
– Сечь таких шутников! – рассердилась Марфа. – Удумали – душу губить! Жить надо весело, да, но душу беречь… хотя ее скука пуще всякого соблазна губит… Никодимка, это у тебя кофей?! Пенку сам, что ли, слопал? Пеночка должна быть, сколько раз тебя учила, а сверху, над пузыриками, вроде масляной тоненькой пленочки!
Наконец дошло и до дела.
– Род Хворостининых на убыль пошел, и свелся он к немногим старикам, прямого потомства нет. Прасковья Хворостинина – вот тетка твоего Вельяминова. Хворостинина она по мужу, Вельяминова – в девичестве.
Все на ней сошлось, все к ней стеклось. Своих детей схоронила, есть внуки, но с внуками она в ссоре, и потому написала завещание на племянника Кирилу, а он ей даже не прямой племянник, а сын родного племянника. Коли и на этого озлится – опять все на внуков перепишет. Но Кирила ей угодил – красавчик, любезник, одет всегда как куколка! Лет ему восемнадцать, приписан к какому-то полку, но тетка дала кому надо денег – вот его в полк и не зовут.
– А многие ли про то знают?
– Да вся Москва!
Марфа еще кое-чего наговорила про Хворостининых, указала приметы недоросля – совпали, и замолкла. Никодимка догадался – сделал из бумаги фунтик, ссыпал туда оставшиеся конфекты. То есть, дал понять бывшей подруге: попила с барином кофею, пора и честь знать. Но Архаров еще кое-что вспомнил.
– Ты, Марфа, всю Москву знаешь. Со свахами, поди, дружишься.
– Я и сама сосватать не хворая! А что, надумал-таки жениться, сударь? Так та вдова-то…
– Надумал, да не я. Как там у вас, у свах, Москва на участки не поделена?
Это была шутка, однако Марфа задумалась.
– А оно бы и неплохо – поделить… Так где ты себе красавицу высмотрел?
– На Воздвиженке. Кто из свах вокруг дома Шестуновой петли вьет?
– А я-то понадеялась! – с притворной печалью воскликнула Марфа. – А у тебя и тут – сыск. Сглупила княжна – нужно было отдавать, пока честью девку брали. Уперлась – и ни в какую! А теперь – ищи-свищи!
Осведомленность Марфы Архарова не удивила – на то она и Марфа. Он и не подумал подозревать Федьку.
– К этой беглой воспитаннице сватались четверо. Один в Санкт-Петербурге, ему я сам напишу. А есть еще такие… – Архаров взял листы, исписанные Устином, и с грехом пополам отыскал нужное место. – Бухвостов, Голятовский, Репьев. Поузнавай, кто таковы, только по-хитрому.
– А я иначе не умею, – кротко сказала Марфа.
– Может, эта девка давно уже у кого-то из них блудным образом живет.
– Голятовский, Репьев, Бухвостов, – повторила Марфа. – А по именам как?
– Кабы знал – сказал бы.
– Коли чего разнюхаю – или сама приду, или девчонку пришлю.
– Приходи сама, – пригласил Архаров. – Да, вот еще что. Помнишь, при тебе девка была, Фаншета, оказалась Дунька?
– Как не помнить! – Марфа даже улыбнулась. – А ты, сударь, не позабыл, поди, как она тебе тогда угодила?
– Знаешь, кто ее подобрал?
– Как не знать? Господин Захаров. И поселил у Ильинских ворот. Там всякого спроси – скажут, где дом Черкашина. Так чего еще надобно-то? Ты сразу говори, пока я не увеялась. Ты не смотри на мои приятные округлости, я на ногу легка!
– Да знаю, заметил, – тут и Архаров невольно улыбнулся.
С этой неунывающей задирой, с этой восьмипудовой проказницей он чувствовал себя легко и без тревоги: она вроде и была женщиной, вроде и поглядывала порой зазывающе, однако простота отношений между ними, которую она установила сразу, ему почему-то нравилась.
Когда она ушла, Архаров осведомился о Левушке.
Сам он вернулся от Волконского не рано, а Левушка – еще позднее, уже когда убежала Дунька. Встретились за завтраком, причем завтракал один Левушка, Архарову хватило конфектов.
Архаров спросил, не нашлось ли той лавки, где недоросль Вельяминов пряжки для башмаков смотрел. Лавка нашлась.
– Только, Николаша, там я немного узнал. Тот мазурик, что увез недоросля, бывать-то частенько бывает, да знают о нем лишь имя, а кто таков – лишь догадываются.
– И что же за имя?
– Имя – Ларжильер. Вернее – де Ларжильер. Появился сразу после чумы. Как Ильинка оживилась, так и он откуда-то вылез.
– Каков покупатель?
– То-то и оно! – воскликнул Левушка. – Покупает мало! На это в первую голову жаловались! Сидит в лавке часами, тары-бары растабарывает, а купит – когда пудры баночку, когда пламперов пару…
– Чего пару?
– Не поверишь, Николаша, я их сам впервые увидел! Не французское, аглицкое изобретение. Никодимка! У меня в комнате, во вчерашнем кафтане, узелок в кармане лежит, нарочно купил показать, Спирька тебе даст, тащи сюда живо!
В узелке оказались две маленькие, с чуть приплюснутую сливу, подушечки из пробки, бязью, что ли, обтянуты, – Архаров и Левушка определить не смогли. Левушка, прополоскав рот кофеем, ловко засунул эти подушечки за щеки, отчего его физиономия сделалась – как у гравированной и грубо раскрашенной красотки на дешевом лубке. Архаров звонко расхохотался.
– И вот этой дрянью они очень даже бойко торгуют! – несколько изменившимся голосом продолжал Левушка. – Берут же престарелые щеголи и щеголихи, у кого недохватка зубов и щеки оттого провалились. А как сунут за щеку – то сразу и кожа гладкая, как у молодых, и никакого подозрения насчет коренных зубов!
– Выплевывай, – отсмеявшись, велел Архаров. – Не то проглотишь!
Потом вздохнул и насупился.
– Заварили вы с Федькой кашу… Что такое было в записке доктору? В той, которую хозяйке не в руки ему отдала, а в дверь засунула?
– Да что там могло быть? Что поручик Тучков наведывался по известному делу и просит, коли что, искать его на Пречистенке, в доме Архарова…
– Дурак, – тихо сказал Архаров. – Вот это его и погубило.
– Как погубило?
Левушка еще не знал о смерти доктора и о пожаре.
Архаров рассказал вкратце и завершил так:
– Кабы дело было только в амурах – обошлось бы без смертоубийства. Доктор о побеге что-то такое знал, что не с амурами, а с немалыми деньгами и именитыми людьми связано. Я и князю Волконскому сказал. Он не берется вразумить старую княжну, однако обещал ей написать и сделать внушение…
– Доктор непременно знал, кто девице помог бежать, – задумчиво произнес Левушка. – Однако диковинно, что из-за убийства дом подожгли. Должно быть, тот убийца – особа на Москве известная…
– Вот и я о том же толкую. Что это? Опять? – Архаров прислушался.
– Дождик, – глянув за окно, сказал Левушка.
– Дождик?! Ливень! Так и барабанит! Никодимка, чеши мне волосы, пора ехать должность исправлять. Ты со мной?
Левушка посмотрел на него с недоумением и обидой.
– А ты полагал, нет?
– Ну так собирайся. Как приедем – не забудь Устину или кому другому донесение продиктовать. Пусть и твои труды к делу подошьют.
На Лубянке они обнаружили Матвея Воробьева.
С запойным доктором произошла обычная история – Архаров предложил ему оставаться в Москве, и Матвей согласился, полагая, что, избавившись от петербургских собутыльников, он начнет новую жизнь. Но московские собутыльники завелись тут же и оказались ничуть не хуже.
Захар Иванов отыскал Матвея в непотребном состоянии. Но было не впервой – он знал, где лежит Матвеева укладка со всяким врачебным прикладом, и привез доктора на Лубянку таким, каким нашел, даже не пытаясь как-то протрезвить.
Шварц для таких случаев – что привезут человека не низкого звания, не шибко виновного, и нужно его несколько времени подержать, – имел особую каморку с прочным запором. В той каморке были топчан, покрытый тюфяком и одеялом, стол и стул, а окна не было вовсе. Зато у двери стояло судно, которое арестанты непонятно с чего принялись звать женским именем «параша». Туда и засунули Матвея, здраво рассудив, что до утра от голода не помрет, и жестоко оставив его без опохмелки.
Поэтому доктор, выпущенный на волю, был весьма сварлив.
– Что? В покойниках копаться?! Николашка, да ты сдурел!
– Нужно знать об этом подлеце поболее, – терпеливо повторял Архаров. – Ежели его гнусное рожество решили огнем попортить, и для того целого дома не пожалели, значит, человек на Москве видный, многим известен. И, сдается мне, известен под благообразным видом католического патера. А тут, извольте радоваться, прихвачен с ножом в руках над свеженьким трупом. Матвей, добром прошу! Не то… ты меня знаешь!
– Ты у нас известный архаровец! – согласился Матвей. – Опохмелиться дашь?
– Так ведь опохмелишься в зюзю – и никакого с тебя проку!
– Нет. Я свою пропорцию знаю.
– Оно по тебе и видно…
Архаров искренне надеялся, что переезд отвадит приятеля от запоев, и огорчался, видя неудачу затеи.
Сторговались на кружке пива, за которой был послан прибившийся к Лубянке мальчишка Макарка, употребляемый на побегушках. Платил ему Архаров из своего кармана. Сбегать поймать извозчика, отнести записку, притащить из лавчонки бумагу, перья или сургуч – тут он был незаменим, и Шварц даже как-то подарил ему пряник.
– В вознаграждение за добродетель, – сказал Шварц. – Коли преступление карается, то добродетель непременно должна быть вознаграждаема. Никто из вас не замечает Макаркиного старания – придется вознаградить мне.
И даже намечал обучить Макарку ремеслу.
Тут Архаров возмутился – не хотел делать из мальчишки кнутобойцу. Но оказалось, Шварц совсем не то имел в виду.
– Нам могут понадобиться люди для наружного наблюдения, – объяснил он. – Выследить кого Тимофея не пошлешь – его за версту видать. А мальчик незаметен и скор.
Этот самый Макарка доставил доктору пиво и две воблы. Приведя себя в чувство, доктор отправился в мертвецкую при съезжем дворе, а Архаров занялся иными делами.
Вскоре Матвей явился.
– Есть ли что? – спросил Архаров.
– Немного. Лет твоему покойнику за сорок, может, и все пятьдесят. Черной работой не занимался.
– Ежели по ногтям судить – был землекоп.
– А по ладоням – нет. Ладошки у него мягкие, без мозолей. И не бит никем ни разу, и зубы почти все целы… – тут Матвей протянул через стол нечто желтоватое и совершенно неизвестной Архарову формы.
– Кость ты из него, что ли, выломал?
Матвей расхохотался.
– Эту кость не с моими силенками выламывать! А разве всем Рязанским подворьем навалиться! Слоновая это кость, Николаша. И не мучайся – все равно не догадаешься. Накладные зубы.
– Что-о?!.
Архаров страх как не любил показывать свою неосведомленность и обычно сдерживал удивление. Но тут уж никак не мог, да и одно к одному слепилось – Левушкины пламперы с этим новоявленным изобретением.
– А что слышишь. Накладные волосья есть, накладные титьки и задницы есть, вот до зубов человечество додумалось. Я раньше про такие только слыхал, а вот сподобился и увидеть.
– А как же держатся?
– А вот, – Матвей надел костяное диво на палец. – Так вот насаживаются, схватывают и цепляются. Из чего делаем вывод – человек не простого звания. Для чего-то ему нужно было улыбкой блистать. А у щербатого что за улыбка?
– Впервые вижу, чтобы духовное лицо о своей улыбке беспокоилось… – недоумевая, сказал Архаров. – Хотя щербина – примета…
– И это еще не все…
Тут в дверь архаровского кабинета постучали, и тут же всунулась голова Устина.
– Ваша милость, тут со странным делом пришли.
Для случаев воровства и мелкого разбоя были у Архарова полицейские сыщики, к которым сразу и адресовались жалобщики. Хотя и сам он не брезговал докопаться, кто унес тюк белья у бедной вдовы. Делал это еще и затем, чтобы поучить людей своей методе – внимательному вглядыванию в лицо подозреваемого и подмечанию мелких примет вранья. Но никому, кроме него самого, такие штуки в полной мере не удавались.
«Странное дело» означало, что пришли не с кражей и не с чьим-то пьяным буйством.
– Зови. А ты, Матвей, погоди малость.
Вошел молодой мужчина, одетый скромно, без шпаги, поклонился, перекрестился на образ Николая-угодника.
Лицо простое, округлое, лицо человека трудящегося, не бездельника, взгляд настороженный, чего-то трудящийся человек боится.
И даже известно, чего боится. Увидел хмурую личность обер-полицмейстера, встретил его взгляд исподлобья, малоприятный взгляд – как оно и бывает, когда одна бровь нависает ниже другой, а одно веко чуть толще другого.
Устин вошел следом, готовый записывать все, что скажут. Архаров, довольный таким рвением, указал ему на столик сбоку, обычное место писаря. Устин сел и положил перед собой бумагу.
– Добрый день вашему сиятельству, – сказал мужчина неуверенно. И то – попав в кабинет на Лубянке, не сразу и придумаешь, с чего начать.
– Представьтесь, сударь, – почти любезно предложил ему Архаров.
– Я номера держу в Замоскворечье, в Кадашах, а прозваньем Черепанов Илья, – пытаясь соблюсти достоинство сообщил посетитель. – А прибыл сам к вашей милости, не человека за полицией послал, потому, что дело, сдается мне, шума не терпит… такое вот дело…
И показал глазами на Матвея.
– Это наш полицейский доктор, – объяснил Архаров. – Служит тут. Говорите, сударь.
Узнав о том, что он служит, да еще в полиции, Матвей невольно приоткрыл рот. И тут же захлопнул.
– Мы, Черепановы, держим номера еще с большого пожара.
Больших пожаров на Москве было не счесть, может статься, Черепанов имел в виду тридцать седьмой год, когда от упавшей перед образом свечки порядочно выгорели и Кремль, и Китай-город, и Белый город; может статься, сорок шестой – тогда и на Пречистенке двадцать два дома и три церкви сгорело.
– У нас всякая публика останавливается, и купцы, и духовное звание. А такого, чтобы титулованное лицо – врать не стану, еще не было.
– Что за лицо?
– Сказалось гвардии офицером… – как-то смущенно отвечал содержатель номеров. – Насчет прозвания они просили не беспокоиться…
– Стало быть, пустил ты человека, – сразу избавившись от уважительного тона, перебил Архаров, – беспаспортного, неведомо откуда, какого-то мазурика!..
И замолчал. По глазам Черепанова прочитал, что не до выговоров сейчас.
А тут и Матвей вступился.
– Да что ты, Николаша, буянишь? Вот как раз клевые мазы и шуры и ходят все с паспортами! С новешенькими! Мало ли паспортных бланков из Сенатской типографии крадут! Да мешками!
– Он точно гвардеец, – сказал Черепанов. – Денщик при нем, сейчас у меня сидит под замком, злой, то ревет, как теленок без мамки, то рычит, как цепной пес. А он сам, прости Господи, пулю себе в рот пустил. Затылок разнесло, личико…
Тут Черепанов сглотнул сбитый судорогой в горле ком, но легче ему не стало – лицо застрелившегося гвардейца, видать, как возникло перед глазами, так и не уходило…
– … личико почти цело… кровь в подушку ушла…
– Господи-Иисусе! – с неподдельным ужасом воскликнул Устин.
Архаров тяжко задумался.
Самоубийцы на Москве попадались редко. Народ все больше православный, что такое смертный грех – понимает. Чтобы гвардеец – и вдруг застрелился? Такого быть не должно. Однако Черепанов не врет – выстрел в рот имел место. Гвардеец – значит, узнав про беду, может встрепенуться высокопоставленная родня…
– Что же, поедем смотреть твоего грешника, – решил Архаров. – Но с чего ты взял, будто это дело надобно сохранять в тайне?
– А вел он себя диковинно. Прожил недели две – то не ночует, на рассвете явится, то кого-то у себя тайно принимает, так и смотрит, чтобы ни с кем тот человек не встретился. Сперва, как приехал, довольный был, веселый, в последние дни – будто заживо в аду оказался. Носился где-то, весь почернел. И от хорошей жизни такого не сотворишь, прости, Господи, его душу грешную…
– Хорошо, ступай, подожди там, я тебя в своей карете довезу, – подумав, решил Архаров. – Устин! Сыщи Федора. Скажи – со мной поедет!
Федька сыскался в обществе Левушки – сидели в уголке, обсуждали вчерашнее. Вдвоем и пришли к Архарову, который сцепился спорить с Матвеем: Архаров утверждал, что нет такой причины, от которой себя жизни можно лишить, не сотворил ее Бог, Матвей же почему-то взялся возражать: коли человек так болен, что уже сам себе в тягость, и ближние от него намучались, так ведь разумно будет их от себя освободить. Архаров назвал приятеля нехристем, тот еще как-то отругнулся, и оба были страшно довольны, что есть кому прервать такую милую беседу.
– Матвей Ильич! – закричал с порога Левушка. И тут же полез обниматься.
– Уймись, уймись, – попросил Архаров. – Не до нежностей.
– А что это у тебя, сударь мой? – спросил Матвей, тыча пальцем в металлический ободок миниатюры, что так и висела на Левушкиной шее. – Невестой обзавелся?
– Какая там невеста! Из дому сбежала, архаровцы ее ищут. А я думаю, давно она в Петербурге, может, уже и замуж выскочить успела, такие красавицы в девках не засиживаются, – Левушка потянул ленту, вытащил портрет и показал Матвею.
– Ну, я тебе как доктор скажу, коли мазилка не соврал… В девках-то, может, и не засиживаются, да и на земле не заживаются. Легочная болезнь у твоей красавицы. С того такая тощенькая да румяная. Первая же простуда ее надолго уложит.
Федька невольно прислушался.
Легочная болезнь… не к ночи будь помянута!..
Он вдруг затосковал. Не может умереть такая красавица! Не должна! Сам бы за нее костьми лег! И это было бы даже справедливо – он, Федька, уже много бед натворил, ему и пострадать полезно, а ей-то за что?..
Архарову, пока Матвей дулся, а Федька душой на тот свет вместо Вареньки Пуховой просился, доложили, что карета подана.
– А ты, Матвей, возьми-ка накладные зубы и поузнавай по докторам, чья работа, – попросил Архаров.
– Я тебе и сам скажу, что нездешняя. Разве в Петербурге такое мастерят. И то вряд ли.
– Поспрошай, поспрошай!
– Да куда я потащусь – такой? – пробовал было отнекаться Матвей.
– Куда? Сперва с нами поедешь, – решил Архаров. – Докопаться надо – точно ли этот грешник сам себе в рот выстрелил, может, злодеяние.
Левушка, кстати, не имел намерения ехать смотреть на самоубийцу. Федька – тот получил приказ вместе с начальством производить дознание. Левушка приказов не получал – он не был подчиненным Архарова. Да и Матвей до сего дня – тоже, а только иногда выполнял просьбы. Но как-то так образовалось, что в карету они вколотились целой компанией – на заднем сидении Архаров с Левушкой, на переднем Матвей с очень смущенным Черепановым, там же примостился Федька – дождь лил, как из ведра, и сажать его к Сеньке на козлы Архаров не пожелал – у Сеньки для таких случаев епанча чуть ли не просмоленная, выдержит всемирный потоп, а Федька – в одном мундирчике.
Поехали в Замоскворечье. Не езда – горе: дождь лил с утра, улицы поплыли, в иных местах колеса вязли чуть не по ступицу. Это было вечное московское недоразумение – и старожилы охотно показывали места, где прошлой осенью соседская свинья в луже утонула.
Номера оказались не так уж далеко, за Воскресенским храмом, поблизости от старого Кадашевского монетного двора, и Матвей пошутил: знал Черепанов, где селиться.
Черепанов повел наверх, в коридор, куда выходили двери, числом более десяти. У одной сидела на корточках девка, что-то шила.
– Поди, Анютка, – сказал Черепанов. – Вели хозяйке на стол накрыть.
Он большим ключом отпер дверь – и Архаров, войдя, даже не сразу увидел тело, оно лежало на постели и было загорожено стулом.
– Извольте, – сказал дрогнувшим голосом Черепанов.
– Это ты его уложил? – спросил Архаров.
– Он сам лег. Готовился, значит. Ваше сиятельство, я его не убивал…
– Знаю, что не убивал. Ну, с Божьей помощью…
Архаров шагнул к постели, отодвинул стул, на котором висел простой черный кафтан, нагнулся… и выпрямился.
– Тучков, – позвал он. – Или я совсем с ума сбрел, или…
Не успел он договорить, любознательный Левушка оказался рядом, посмотрел – и ахнул, и прикрыл рот ладонью, и откачнулся назад.
– Что за притча? – удивился Матвей, отстранил Левушку, глянул – и неожиданно для всех широко перекрестился.
– Господи, да что же это делается? – спросил он. – Я же с ним на той неделе штофчик распил…
– Ты знал, что он в Москве? Знал? И не сказал? – напустился на Матвея Архаров.
– Да в чем дело-то? Я-то тут при чем?
Тут Архаров понял, что Матвей действительно ни при чем, и повернулся к Федьке.
– Федя, это знаешь кто? Это ее императорского величества гвардии Измайловского полка поручик Фомин… Помнишь? Тогда, осенью…
– Записка, – вдруг сказал Левушка. – На столе. Можно, я возьму?..
Левушке случалось видеть и убитых, и умерших от чумы, и раненых его же собственной шпагой. Самоубийцу он видел впервые, и зрелище смерти, добровольно избранной, ему оказалось не под силу – он растерялся и очень хотел оказаться где-нибудь подальше. Хуже того – он испытал совершенно беспричинный страх. И ему было необходимо, чтобы Архаров что-то стал делать и заставил трудиться всех. Тогда на душе несколько полегчает – выполнение приказов очень этому способствует.
Он знал, что читать Архаров все равно заставит по привычке именно его, и попросил о приказе.
– Читай вслух, – сказал Архаров, подтащил стул к постели, сел и стал смотреть в лицо красавцу и доброму малому, истинному гвардейцу, Петру Фомину. Как будто просил: да объясни же ты, что стряслось?!.
– «Не могу длить свое постыдное существование. Обещаний, данных известным особам, не сдержал, а только вверг в беду. Не от пули, а от стыда умираю, иного пути для себя не вижу. Лишь смертью своей могу поправить дело. Молитесь за меня, коли хватит духа», – прочитал Левушка. – Господи, спаси и помилуй, что это на него нашло?.. И подпись… полностью, со званием…
– Потому я и знал, что гвардеец, – тихо сказал Черепанов. Матвей похлопал его по плечу: да никто тебя не винит, и правильно ты рассудил – в таких записочках про себя врать негоже…
Архаров, пристроив локти на широко расставленных коленях, нагнулся и смотрел в лицо мертвому. Лицо все еще ничего не сообщало. Однако он знал Фомина давно. Помнил его юным красавчиком еще в шестьдесят втором, когда измайловцы первыми поднялись возводить на трон государыню Екатерину. Помнил его в приснопамятном московском семьдесят первом. Помнил кое-что из его проказ – амурного толка были проказы, но случалось и кутить в одном благородном обществе. Помнил… да…
А вот кое-что вспомнилось кстати…
Архаров как-то, уходя, оставил честную компанию за картами, а было это уже крепко заполночь. Играли в фараон – тогда вся столица в него, обезумев, денно и нощно сражалась. Утром узнал – Фомин бился, как лев, и выиграл какие-то бешеные деньги, после чего его в полку недели две не видели и не слышали.
Игрок. И яростный.
Неужто и этот неведомо кому проигрался?
– Читай еще раз, – велел он Левушке.
Он хотел услышать знакомый фоминский голос. Он хотел, чтобы лихой гвардеец, добрый товарищ, СВОЙ, заговорил с того света Левушкиными устами и к написанным словам прибавил еще что-то…
Не получилось.
Все то же – «не от пули, а от стыда»…
Архаров умел брать себя в руки. Как Шварц учил? Обстоятельства – прежде всего. Обстоятельства узнавать сразу, пока обстановка не нарушена и люди что-то помнят. Его бы сюда…
– Кто обнаружил мертвое тело? – спросил Архаров тихо. – Да ты не бойся, сударь, отвечай. Мы его и без паспорта все знаем.
– Горничная… Он денщика с запиской отправил, тот – за дверь было, да дождь припустил, он остался в сенях, а там случилась наша Марьюшка. Дело молодое, остановились, амурничают, пока ливень потише станет. Тут грохнуло. Все забеспокоились, побежали смотреть. Она быстрее всех оказалась. Позвать?
– Не надо.
Архаров не любил допрашивать баб. Околесицы много, толку мало, а если еще и слезы…
– Денщик где? – спросил он.
– Заперли, сперва орал, теперь ревет белугой.
– Тащи сюда.
– Не дури, Николаша, – сказал Матвей. – Тут он еще пуще разревется. Пусть нас в другое помещение проводят.
– Твоя правда. Черепанов, отведи нас куда-нибудь.
– Моя хозяйка в горнице накрыла, чем Бог послал, не откажите.