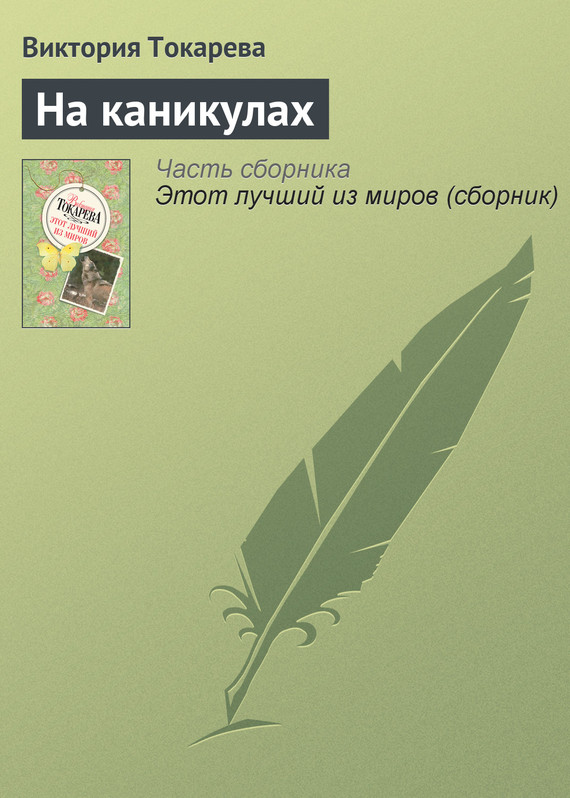Подметный манифест Трускиновская Далия

Опять же – глаза! У Маланьи Григорьевны они были светлые, ресницы с бровями также светлые, у Дуньки – темные, с длинными ресницами, и брови – ровненько дугой.
Но главное – годы. По Дунькиному разумению, актерке было тридцать три или тридцать четыре, возраст почтенный, иная мать, вовремя отдав замуж старшую дочь, в тридцать четыре уже и бабкой становится. Так как же изящный кавалер, которому на вид не более двадцати пяти лет, может не только быть любовником Маланьи Григорьевны, но и щедрым любовником, снявшим такой дом, подарившим ей платья и драгоценности? Разве ему более любить некого?
Задав себе этот вопрос, Дунька тут же нашла и ответ: он ведь немец, а кто их, немцев, разберет, как у них заведено? Вот помер булочник Шульман, и его вдова Матильда Петровна вышла замуж за пекаря Ганса, он же – Ванька-рыжий, под этим именем известный зарядским девкам. Так вдове было сорок, а Гансу – двадцать семь, и прекрасно живут! И печево у них хуже не стало, и ребеночка завели. Может им всем – бабу в годах подавай?
Опять же – ноги. Дуньга знала, что у молодых щеголей с тонким станом ноги порой встречаются прежалкие – словно две палки. И приходится как-то придавать им прелести, для чего созданы ватные накладки. Выходит, красавчик у нас – с изъяном?
Не имея в виду ничего плохого, не собираясь отбивать у бывшей хозяйки красавчика, а воистину невзначай Дунька стала, поглядывая в зеркало, поворачиваться к полупритворенной двери наиболее удачным для себя способом и красиво выставлять ножку – разворачивая ступню и гордясь высоким подъемом.
Красивый кавалер в соседнем помещении не уходил – глядел исподтишка и слушал стихотворные речи. Это было забавно – чего же он желает? И чуточку будоражило душу – ведь кавалер был молод и строен. Некстати вспомнился Архаров…
Вот уж кто не стал бы стоять за дверью, слушая сумароковские вирши! Плюнул бы да и ушел.
Архаров нравиться не мог. Именно поэтому он вызвал у Дуньки острую жалость. Она представила себе, каково ему живется – такому, ей сделалось не по себе, и непостижимым образом проснулась щедрость души. Бабья щедрость, понятно, однако другой Дуньке взять было неоткуда. К тому же, она просто не посмела бы быть неблагодарной – Богородица, которой Дунька постоянно ставила свечки, не простила бы ей этого греха. Вот все и увязалось в узелок, тугой такой узелок, ни ногтями, ни зубами не развязать…
А кавалер там, в глубине нарядной комнаты, был тонок, изящен, прельстителен и недоступен.
Не может быть, чтобы он только что ругался по-немецки. И того менее – чтобы его, красавчика, ругали.
Однако накладки… ох, как они портили дело, эти накладки! Каково ж ему, бедняжке, раздеваться-то, подумала Дунька, или он прямо в чулках забирется под одеяло?
– Ах, князь, к чему уж то, что я тебе мила? – заново повела речь о любви Маланья Григорьевна.
Завершив, она протянула руку к Дуньке, приглашая ее ответить.
Очевидно, в Дунькиной душе спала-таки актриса – и вот она проснулась!
Дунька сделала два шага – вроде бы к госпоже Тарантеевой, а на самом деле – так, чтобы встать лицом к полупритворенной двери, куда и послала слова благородного любовника:
- – Коль любишь, так скажи, исполнь мое желанье!
- Пускай останется хотя воспоминанье!
Маланья Григорьевна, прекрасно знавшая все эти актерские штучки, тут же раскусила проказу.
– Люблю… Доволен ли? Поди из глаз моих, – произнесла она, как бы в расстойстве чувств, однако весьма повелительно и адресуясь к той же двери. – Ах, душенька Фаншета, до чего же тут несносно сквозит!
И, подойдя к двери, тщательно ее закрыла.
Тут уж Дуньку совсем проняло любопытство. Не мог сей стройный кавалер быть любовником актерки! Вернее – любовником-то, может, и сделался в хмельную ночку, а вот покровителем – это уж заведомо нет! Хотя в немецких галантностях Дунька не разбиралась, но в сердце вскипело не понять что, замешанное не только, видать, на бабьем озорстве и упрямстве…
Мысленно призвав на помощь Марфу, Дунька довела до конца амурную сцену и, отвлекая внимание Маланьи Григорьевны, принялась расспрашивать, кто таковы Оснельда и Хорев, с чего бы им расставаться, коли любовь столь велика, и повенчаются ли они в конце концов.
Дунька и актерка уселись на длинное, о восьми гнутых ножках, канапе с мягкой спинкой, на которой были вытканы цветы и посередке, в обложенном тесьмой медальоне, вышита мелким крестиком амурная пара под развесистой яблоней, может статься, даже Адам и Ева, только Адам – в розовом французском кафтане, при шпажонке, а Ева в бюрюзовом фишбейном платье с отчаянным шнурованьем. И госпожа Тарантеева пожаловалась – в трагедии «Хорев» есть что играть, там и переходы чувств, и томление, и слабость, и гордость – все имеется. В той же трагедии, главную роль в коей ей предстоит вскорости исполнить, такого разнообразия нет – героиня, Ксения, любит жениха Георгия, предана отцу, дает возможный отпор другому жениху, непрошенному, и все это столь же одинаково, как если бы отдавала распоряжения дворовым девкам насчет соления огурцов и выбиваиия перин, одно умничанье без всякой страсти. Госпоже Тарантеевой же охота была сыграть именно затейливые выкрутасы любовной страсти.
Дунька стала осторожно допытываться, когда задумано открыть новый театр, да что еще затеяли сыграть, да нельзя ли все же поставить «Хорева», и обнаружила, что Маланья Григорьевна сама много не знает – коли не врет. Но при этом мало беспокоится о грядущем. То бишь, ведет себя как особа, уверенная в своем сожителе, – или же играет ролю такой особы безукоризненно и с подходящим случаю куражем.
Разговор затянулся, пробили часы – и Дунька схватилась за щеки. Ей уже давно следовало вернуться домой. Как ни хотелось взглянуть на господина, взявшего на себя заботу о Маланье Григорьевне.
Желая примчаться на Ильинку так, чтобы изумленный Гаврила Павлович только руками развел и окончательно уверовал в ее актерский карьер, она засуетилась, заахала, всячески показывая, как боится рассердить сожителя, напомнила кстати, что отправилась в гости без спросу. И добилась своего – умчалась прочь в кавалерском наряде, даже при шпаге! Госпожа Тарантеева едва успела собрать в узел ее зеленое нарядное платье. А уж во что обратились модные ленты – Дунька и подумать боялась.
Отъезжая, она кинула взгляд на окна – ну, где же ты, загадочный кавалер, хоть взглядом проводи! И дала себе слово, вернувшись, докопаться до правды – кто таков, немец ли, или иного племени, кем при Маланье Григорьевне состои, он ли или не он носит фальшивые икры! Театральная интрига ожила, стала притягательна наимоверно, и Дунька ощутила, что теперь-то живет истинной, полнокровной, галантной жизнью.
И метелица принеслась кстати – радостная метелица, такая, что душенька веселится, дыша взахлеб, и тут же кстати – бубенчик под дугой, лучше всякой музыки передающий ощущение полета.
Санки неслись по Сретенке, укутанная по уши Дунька безмерно радовалась встрече с покровителем – то-то порадуется, глядя на стройные крепкие ножки! без накладок! а уж кожа-то под чулочками – живой атлас!.. – и совершенно не ведала, что сзади катят другие санки, запряженные крупным вороным мерином, а в них сидит, по самый нос упрятавшись в воротник дорогой шубы, тот самый красавчик, что любовался на нее из-за двери.
И велит кучеру держаться подальше, чтобы не заметили, а сам все глядит, глядит вслед Дунькиным санкам, и черные его брови сдвинуты, и верхняя губа приподнята, словно бы от азарта погони – но мало приятного в белозубом оскале…
* * *
Терешку вывели из каморки, где он был заперт, даже не проверив, точно ли его руки связаны. Парнишка беззвучно поблагодарил Богородицу – за ночь он перетер веревку об острый угол стены, но сбрасывать ее не стал.
Поднявшись по лестнице, он увидел в коридоре родственника – но не дядьку Семена, а дядьку Григория. Тот стоял у стены, охраняемый двумя полицейскими. Дядька чуть повернул набыченную голову, взглядом смерил племянника. Их поставили рядом, и тут один их полицейских отошел.
– Там – двери, – прошептал дядька. Племянник кивнул. Побег был так же невозможен, как вознесение живьем на небеса, но, коли хорошенько помолиться Богородице – она поможет спастись в жестокой беде.
Вдруг где-то наверху раздался выстрел, крики, полицейский опрометью кинулся на шум – и тут-то Терешка показал себя! Скинув веревки, он дернул дядьку за рукав и побежал к дверям. Кто-то метнулся наперерез, но Терешка увернулся. Дядька топал следом – и они вдвоем выскочили на улицу, чуть не рухнув с крыльца.
– Стой! Стой! Имай мазуриков! – неслось вслед, но они уже бежали, задыхась от морозного воздуха и от счастья. Они мало что соображали – все душевные и телесные силы взял у них этот бег. У них только хватило ума тут же кинуться в переулок, но он был перегорожен большими санями, тогда они побежали к другому, и свернули, и снова свернули, и влетели в третий, загибавшийся крюком. Там они заскочили в какой-то пустой двор, пробежали насквозь, протиснулись за сарай – и тогда лишь остановились, сопя.
– Ну, милостив Бог, – еле выговорил дядька Григорий. – Уцелели… Свечу пудовую поставлю…
– Выбираться надобно поскорее, – сказал Терешка.
– Распутай-ка… – дядька, еле помещаясь в узкой щели, повернулся к племяннику спиной, и тот, опустившись на колено, зубами расслабил и распустил узел. Потом они перелезли через забор и с другого двора вышли на неизвестную улицу. Впрочем, для них в Москве все улицы были неизвестными.
– Куда теперь-то? – грубо спросил Терешка. Он был зол на дядьев, втравивших его в эту опасную затею.
– А Бог его знает, куда-нибудь подалее…
Они торопливо дошли до ближайшего храма – где бы хоть чуток отогреться. Морозец был не сильный, но чувствительный, они же выскочили с Лубянки, как сидели в подвале, – в одних зипунах, без тулупов.
А вот парнишка, тепло и ладно одетый, в тот храм, высившийся на холме, за ними не последовал, хотя шел сзади довольно долго. Он дождался старшего – по виду из пропившихся фабричных, обменялся с ним двумя-тремя словами и отошел в сторонку. Старший же, от коего за версту разило перегаром, чумазый, в драной бабьей шубе с полуоборванным рукавом, в картузе такого вида, будто им печную трубу прочищали, решительно вошел в храм, быстро крестясь и покачиваясь при этом, как оно и положено пьющему человеку.
Ждать парнишке пришлось недолго – вскоре вышли все трое, два деревенских в туго подпоясанных зипунах и фабричный, все вместе куда-то направились, причем фабричный пытался затянуть песню и даже пойти вприсядку. Деревенские наконец подхватили его с двух сторон под локотки и ускорили шаг. Все-таки было морозно. Но им, даже с такой обременительной ношей, шагалось легко – улица вела под гору.
Парнишка прошел следом шагов с полтысячи, потом повернул направо и побежал, что было мочи.
Годы его были таковы, что только бегать да бегать, и он довольно скоро оказался у дверей Рязанского подворья.
В здании полицейской конторы его уже ждали и тут же препроводили в кабинет обер-полицмейстера. Тот сидел за столом, рядом стоял Шварц.
– Что, Макарка? – спросил Архаров. – Докуда довел?
– До Владимирского храма, ваша милость. Там передал Демьяну Наумовичу. Он их в «Негасимку» повел, там они до ночи отсидятся.
– Хорошо. Карл Иванович, давай свой пряник.
Пряник был чинно вручен с известными словами о вознаграждаемой добродетели, и парнишку выставили из кабинета.
– Говорил я тебе, что они не скоро сознаются, – сказал Архаров Шварцу. – А эти беглецы нас вернее на шайку наведут и на то сельцо, как бишь его… Еремино.
– Сколько мне известно русское наречие, сельцо может носить и иное имя, – возразил Шварц. – В бумагах говорится – преступник сказался ереминским крестьянином, но он мог произвести сие слово от названия Ереминское, или же Ерема, или же Еремовка…
– Да Бог с ним, Карл Иванович. В ночь на Стромынку выедут конные драгуны, с ними Федька. Встреча у них с Костемаровым назначена за Яузой, у кумы.
Кумой он называл полушутя старуху, которая за небольшие деньги порой предоставляла половину своего домишки для нужд архаровцев.
– Не попытались бы они от Костемарова избавиться, – сказал Шварц. – Должность свою исполнит, из Москвы их выведет – и более он им не надобен.
– И попытаются, – согласился Архаров, – дело житейское. Да только Демка не лыком шит, у него с собой такой нож – быка завалить можно. Опять же, Федька будет поблизости, он с драгунами поедет, присмотрит за товарищем.
– Хорошо бы послать еще человека, который присмотрит за Федором, – заметил Шварц.
– Да я уж и сам думал, вдвоем Федька с Демкой могут не справиться… Клавароша разве? Он француза сильно уважает…
Позвали Клавароша.
Француз совершенно не желал вылезать из теплого здания и ехать непонятно куда с конными драгунами. Это у него прямо-таки на роже было написано. Тем более – неведомо, когда вернешься.
К тому же у Клавароша была милая особенность – он всегда очень заботился о своем здоровье. Этим его и держала Марфа, превосходная стряпуха. Правда, все ее разносолы дородности французу не прибавляли. Если бы так питался Архаров – пришлось бы в Рязанском подворье косяки выламывать, двери расширять. А Клаварош при любом гастрономическом буйстве оставался тощ и подвижен. Это несколько раздражало обер-полицмейстера, особенно в последнее время. Ну что ж тут поделать – у Архарова выдалась завистливая зима.
Потому он с особым удовольствием заявил, что Клаварошу будет весьма полезно перейти временно на иной рацион – чтобы служба медом не казалась.
Клаварош что-то буркнул по-французски и вышел из кабинета.
В дверях он столкнулся со Степаном Канзафаровым, который вел к Архарову невысокого толстого человека с седеющей бородой веником и приметной плешью – двойной. Один островок голой кожи был спереди, другой – на затылке.
Войдя, человек перекрестился на образ Николая-угодника, а затем поклонился в пояс.
– Кто таков? – спросил Архаров Степана.
– Трактирщик он, ваша милость, с Пресни, не впервые сведения доставляет. А теперь у него такое, что лишь вашей милости хочет доложить, мне не сказывает…
– Хорошо, ступай… нет. Останься.
Архарову вдруг пришло на ум, что злодей, желающий смерти обер-полицмейстера, будет действовать именно так – попросится в кабинет, клянясь, что желает с глазу на глаз поверить наиважнейший секрет.
Трактирщик подошел поближе к столу и заговорил весьма отчетливо, голосом, который вырабатывается, когда надобно им покрыть шум целого кабака.
– Ваше сиятельство, бунтовщик у меня завелся! Кричит против матушки государыни, грозится ее покарать за бесчинства. И все такими словами страшными!
– Ну так укажи его Степану, заберут твоего бунтовщика, – несколько удивившись, отвечал Архаров. – Нешто ты не знаешь, как это делается?
– Ваше сиятельство, бунтовщик-то не простой! Звезда у него!
– Какая еще звезда?
– А мне почем знать? Вот тут, слева, звезда приколота о многих лучах, сверкучая, большая.
– Орден, что ли?
– Может, и орден, а мы по-простому звездой зовем. Вот такая… – трактирщик показал пальцами размер чуть ли не в три вершка. – Приходит в неделю два-три раза, выпьет, начинает выкликать, людишки тут же вокруг него собираются… Мне почем знать, кто таков и чего добивается? Может, граф или князь, коли со звездой?
– Граф или князь при орденах в кабак ходить не станет, – вмешался Шварц.
– Так, ваше сиятельство! – обратился трактирщик к немцу. – Для того-то он, может, и приходит со звездой, чтобы к нему более почтения! А слушают охотно!
Архаров и Шварц переглянулись.
– Звезда поддельная, сударь, – уверенно сказал Шварц. – Не станет никто, имеющий подлинную, с ней по пресненским кабакам странствовать…
– Год назад – не стал бы, – возразил Архаров. – А что, дядя, этот звездоносец где-то поблизости проживает, не знаешь?
– Может, и поблизости, приходит по-домашнему одетый. Тесть мой, поди, знал, да помер, а я там третий месяц всего, раньше в Замоскворечье с моей Федотовной жил. Как тесть расхворался – он нас вытребовал…
– По-домашнему, но со звездой? И крамольные речи произносит? – уточнил Архаров. – Ну, что ты забеспокоился, хотел непосредственно мне донести – за это хвалю. Сейчас пойдете со Степаном вместе, посади его в кабаке своем неприметно, чтобы он всех видел, а его – никто, и покажи ему своего крикуна.
– Коли сим вечером он ко мне будет, ваше сиятельство.
– Канзафаров, докопайся. Теперь ступайте.
Трактирщик, имя коего Архаров позабыл спросить, и Степан вышли за дверь.
– Любопытный крикун, – заметил Шварц. – Коли ко мне вопросов нет, пойду-ка я вниз.
– Как те двое?
– Молчат или же выражаются неудобь сказуемо.
– Во всем запираются?
– Во всем. Вакула это так зовет – закаменели в грехах. А он уж двадцать лет этим ремеслом занимается.
– Не сказали даже, кто их на Марфу навел?
– Ваша милость, для чего бы вам у самой Марфы не спросить? – осведомился Шварц. – Пусть бы сказала, чье имя они ей назвали, когда первый воз добра привезли. С чужими бы она дела иметь не стала, а только по рекомендации…
– Спрашивал, Карл Иванович. Запирается хуже всякого злодея. Не на дыбу ж ее поднимать. И подумай, вот что странно – они пришли с рекомендацией, и она их приняла, а потом – тут же нам выдала. Что сие может значить?
– Когда впустила да добро от них приняла, проведала нечто такое, что ее мысли переменило.
– Или же по какому-то знаку поняла, что эти налетчики к ней для того и посланы, чтобы их выдать, – задумчиво сказал Архаров. – Поди знай все Марфины давние тайные уговоры… Кто-то нам этаким подарком кланяется и дорожку в полицейскую контору торит… потому и не будем пока Марфу трогать…
Это умопостроение показалось Шварцу избыточно сложным, но он промолчал, поклонился и вышел.
– Абросимов! – крикнул Архаров. По коридорам понеслось: «Абросимова зовут! Абросимова!..»
Подчиненный прибыл не один, а с Устином Петровым. Они при помощи десятских произвели обыск в комнате некого домашнего учителя, живущего в дворянской семье, и Архаров хотел знать результаты.
– Ничего значительного, ваша милость, – доложил Абросимов. – Сдается мне, это был поклеп, домашние божатся, что никакой крамолы учитель не говорил. Человек в годах, тихий… Вот только книжки давал людям читать, а говорить – не говорил… Их мы, которые нашли, отобрали.
– А что за книжки?
Устин имел при себе корзинку с изъятым добром.
– Вот чего сыскали, ваша милость, – сказал он, беря оттуда верхнюю, пухлую книжицу, из коей торчали бумажки.
– Читай, – велел Архаров.
– Все, ваша милость?
– Кусок из середины.
Левушка толковал как-то, что ему достаточно, открыв книгу наугад, страницу прочесть – и полное представление об авторе навеки получить. Чего ж не попробовать.
Устин открыл книжицу там, где заложена была первая бумажка.
– Да тут подчеркнуто чернилами, – сообщил он и прочитал: – «Наша премудрая обладательница печется о домостроительстве, но домостроительство помещичье есть яд империи, когда оно только единого помещика обогащает».
– Яд империи? Хватит. Чье сочинение?
Устин глянул на потертую обложку.
– «Трудолюбивая пчела», господина Сумарокова журнал. Старый уже, ваша милость.
– Выходит, нарочно для того сохранялся, чтобы крамолу к нужному сроку приберечь. Оставь корзину. Сашка разберется. Ступайте… – и тут Архаров вспомнил, что фамилию «Сумароков» секретарь не так давно поминал, то ли всуе, то ли не всуе…
Что-то было связано с Клашкой Ивановым…
Мысль пошла писать вензеля – тут же выплыл в памяти Захар Иванов, потащил за собой почему-то Сергея Ушакова, за Ушаковым явились лица солдат-инвалидов, которых Волконский рекомендовал к использованию в качестве осведомителей…
И, наконец, осчастливила Архарова радостная рожа Федьки – сперва в воображении, и ровно секунду спустя – просунувшись в дверь.
– Ты чего тут околачиваешься? – спросил Архаров.
– Ваша милость, мы ближе к ночи с драгунами выезжаем, может, я тут нужен?
– Ступай, без тебя справимся. Поспи, коли можешь, ночью, поди, не придется, – ничуть не удивленный таким рвением, отвечал Архаров. Вот коли бы Абросимов его проявил – Архаров бы ушам не поверил. А Федька, натура пылкая и деятельная, не мог поступить иначе.
Вот таков он был – не делая того, что приказано, делал нечто иное, и Архаров, примерно дважды в месяц грозясь батогами, все Федьке прощал. Он слишком хорошо помнил, как Федька, повинуясь мгновенному порыву души, кинулся спасать его от уличного торговца с зачумленным товаром.
Свою драку с Федькой тоже, кстати, помнил…
Дверь распахнулась, на пороге явился возмущенный старик Дементьев.
– Не до тебя, старинушка, не до тебя! – тут же торопливо воскликнул Архаров.
– Вот, вот! – канцелярист показал издали бумаги, явно принадлежащие Устинову перу. – Сил моих больше нет! Души моей погубитель! Из-за него в пост скоромные слова говорю! Ведь пишет правильно, когда прикрикнешь! Умеет правильно писать! Все бумаги – на один лад, а этот марака – начнет во здравие, кончит за упокой!..
Федька, зажав рот ладонью, кинулся прочь. Эта канцелярская склока неизменно приводила его в веселое расположение духа – охая и держась за стенку, хохотал до слез.
Он налетел на огорченного Устина, похлопал его по плечу; не дожидаясь благодарности, кинулся дальше; едва не сбил с ног Вакулу, который в кои-то веки вылез среди дня из нижнего подвала – словом, гуляла Федькина душа, веселилась в предчувствии опасного рейда по Стромынке.
Он побежал в канцелярию, где стояли напольные часы, и убедился, что времени осталось довольно много. Спать он, понятное дело, не стал – какой сон, когда душа уже несется по следу заветного медальона? В конце концов он повстречал сильно недовольного Клавароша и долго не мог уразуметь: что же такого неприятного в совместной вылазке с полицейскими драгунами.
Клаварош, прекрасно понимавший все архаровские маневры, объяснил.
– Выходит, из-за меня, бестолкового, тебе в Черкизово тащиться? – переспросил озадаченный Федька. – Ну так вот те крест! Я от драгун ни на шаг не отойду! А ты сиди дома! Не бойсь, не выдам!
Клаварош только рукой махнул.
– Ты у Марфы отсидись. Я вернусь – все тебе обскажу, вот те крест – обскажу! Марфа тебя так спрячет – с собаками не найдут!
Клаварош вздохнул, помянул по-французски дьявола и пошел прочь.
Федька пожал плечами – вроде, сделал все, что мог. И тут же задумался – полезут ли его теплые валенки в стремена драгунского коня? Это была серьезная задача – и он тут же поспешил к драгунским казармам решать ее. Драгуны посмеялись – мысль о том, чтобы цеплять к валенкам шпоры, порядочно их развлекла. Тут же подпоручик Иконников, которому было велено возглавить драгунскую партию, крикнул денщика, тот куда-то сбегал и приволок огромные сапожищи, стачанные столь ловко, что хорошо годились для обеих ног, правой и левой. Под них следовало наматывать толстые онучи, и Иконников побожился, что сам так ездит и ничего – ноги не мерзнут. Зато от драгунской епанчи Федька отказался наотрез. На марше оно, может, и ничего, но ему потом – спешиваться и вести наблюдение, куда-то лазить, куда-то, возможно, и ползти. Решил остаться в полушубке.
– Да и на марше зимой плохо, – втихомолку признались ему драгуны. – Все теплое, сколько есть, под мундиры поддеваем. Кавалерия-то мы кавалерия, а вон гусары в такую пору по зимним квартирам сидят, греются, или же там воюют, где снега нет… В Петербурге и не подумают, что нам в любой мороз по сигналу выступать…
Когда уже все были готовы и подпоручик Иконников, сидя в седле, давал приказ строиться, прибыл на извозчике злой Клаварош, которого Федька с драгунами даже не сразу признали – он был в полушубке с чужого плеча, и весьма широкого плеча, более того – хозяин полушубка был широк в талии и в заду. Однако сидела эта одежка отменно – из чего все заключили, что француз поддел под низ и теплый суконный кафтан, и меховой жилет, и что-то вовсе непредсказуемое. Кроме того, он тоже где-то раздобыл сапоги неимоверной величины, однако нога в них не гуляла – чувствовалось, что на ногах не щегольские чулки, а портянки, намотанные во много слоев.
Федька даже догадался, где снабдили француза новым обмундированием, а догадался по неожиданному предмету – за кушак был заткнут охотничий арапник. Кучерское прошлое Клавароша давало о себе знать – он не раз спускался в нижний подвал побеседовать с кнутобойцами об орудиях их ремесла. Арапник попал на Лубянку случайно, и хозяйственный Шварц тут же определил его в свой чуланчик с маскарадными принадлежностями. Это было хорошее для драки оружие – в опытных руках, разумеется. Толстое кнутовище в две пядени длиной имело на одном конце петлю – вешать на руку, а завершалось ремнем немногим более аршина. Кроме того, в рукоятку была вделана свинцовая шишка. Клаварош здраво рассудил, что в этом рейде арапник может пригодиться, хотя и клинком не пренебрег – ножны виднелись из-под его огромного полушубка.
Француз молчал и дулся до тех самых пор, как, выехав из Земляного города и миновав Сокольники, не пересекли Яузу. Теперь уж до покосившегося домишка «кумы» оставалось совсем немного, опять же – стемнело, и Федька, спешившись, отправился в разведку.
Архаров спланировал эту операцию так.
Демка, успешно притворясь пьяным фабричным, готовым полюбить весь мир, и преимуществонно – людей незнакомых, сперва ведет новоявленных дружков в «Негасимку», где их держит до темноты. Затем же, выпросив у кума («кумом» на сей раз был сам хозяин «Негасимки» Герасим, мужичина обстоятельный, хотя и сотрудничал с архаровцами на манер Марфы: что-то выкладывал, как на духу, что-то – наполовину, что-то и вовсе утаивал) заранее припасенные сермяжные армяки для беглецов и денег на извозчика, Демка отправляется с ними, с голубчиками, в сторону Стромынки, попутно растолковывая им здешнюю географию, чтобы они наверняка поняли – от того места, куда он их доставит, весьма легко отправиться в Черкизово, на поиски шайки, к которой оба принадлежат. После чего главной его задачей станет – беречься, чтобы такого услужливого проводника не отблагодарили тычком ножа под сердце.
«Кума», у которой, по словам Демки, можно было и раздобыть выпивки, и переночевать, была солдатская вдова и жила за Преображенской заставой. Федька подкрался к домишке огородами, встал на завалинку, зглянул в высокое окно. Старуха с внучкой сидели у светца, в который была вправлена довольно ярко горевшая лучина, и пряли. Федька бесшумно слез и пошел в пустой курятник, дверь которого была приоткрыта, – ждать. Какое-то время спустя он позавидовал Клаварошу и драгунам – тех хоть малость грели конские бока…
Наконец раздался скрип полозьев, слабый звяк бубенчика под дугой, пьяный Демкин голос – как всегда, исполнялась скоромная песня про то, как мужской причиндал с женскими прелестями в баню ходил. Таких произведений Демка знал довольно много и иногда заставлял усмехнуться даже самого обер-полицмейстера, умевшего не хуже бывших мортусов применить к месту соленое словцо.
С саней сошли беглецы и вытащили Демку, которого весьма правдоподобно не держали ноги. Он тут же заорал, призывая куму Марью, ему откликнулся из сеней бабий голос, и все трое были впущены в домишко.
Федька усмехнулся – пока все шло как следует.
С завалинки он увидел, как старуха сажает гостей к столу. И тут же самому страшно захотелось хоть какого пирога. Полет души, который начался, когда Архаров велел отправляться вместе с драгунами, оказался весьма опасен для брюха – Федька просто-напросто забыл поесть.
Для пущего правдоподобия Демка прямо при беглецах заплатил «куме» за угощение какой-то медной мелочью. И тут же заснул, рухнув башкой на стол. Старуха потеребила его, старший из беглецов чувствительно встряхнул за плечи – толку вышло мало. Старухина внучка, толстая девка с лицом, как непропеченный блин, ушла за крашенинную занавеску. Старуха негромко растолковала гостям, что уложить их может только на полу, и они, судя по всему, согласились. После чего она притащила из-за занавески свернутый войлочный тюфяк и старый тулуп. Демка так и сидел за столом, и Федька знал – он из-под сгиба локтя внимательно следит за углом, куда велено было постлать тюфяк беглецам.
Некоторое время все готовились ко сну – поочередно бегали на двор по нужде, укладывались, молились, встав перед темными образами в углу. Наконец старуха ушла, оставив лучину незагашенной – таков был уговор.
Федька весь подобрался – следовало ждать решительных событий. Беглецы, сидя на полу, шептались – и речь шла наверняка о Демке, а еще, возможно, о «куме» с внучкой. Все трое могли их запомнить и, оказавшись на Лубянке, выдать.
Наконец младший из беглецов (при допросе назвался Терешкой, а как на самом деле – одному Богу ведомо) на четвереньках пополз к печи – туда, где на стенке висела всякая кухонная дребедень, в том числе и небольшой тесак, которым хорошо рубить куриные головы на пороге. Федька чуть не навернулся с завалинки, изворачиваясь, чтобы лучше видеть.
Парнишка добрался до нужного места и снял тесак. Некоторое время он стоял на коленях без движения, потом пополз к старшему. Федька приготовился…
Когда старший, тяжко поднявшись, сделал босиком два шага, держа клинок наготове и примериваясь, как бы половчее ухватить Демку, чтобы полоснуть по горлу, Федька за окном заорал дурным кошачьим голосом. Налетчик отшатнулся, Демка зашевелился и, не отрывая щеки от столешницы, стал шарить рукой по столу. Другая меж тем совершила мягкое такое движение – чтоб локоть к боку прижался. Он был готов оказать сопротивление – но лишь в том отчаянном случае, когда не будет иного выхода. Для того у него был припрятан за пазухой нож, с которым Демка управлялся куда лучше, чем деревенские налетчики.
Федька внимательно следил за беглецами, которые – очень вовремя! – устроили совещание. И сгорал от нетерпения.
Наконец они приняли решение и сели на пол – обуваться. Похоже, они собрались уходить, не причинив никому вреда, и это радовало. Но Федька торчал у высокого окна, пока они не подпоясались натуго и не вышли тихонько в сени. Демка повернул голову и показал темному окну длинный язык. Тогда только Федька отлип от стенки и соскочил в снег.
Беглецы вышли во двор, и Федька из чистого баловства залаял – как если бы псина была тут же, за углом. Они ускорили шаг, вышли на улицу и встали, соображая, в какой стороне Москва и в какой – Черкизово. Наконец верно определили направление и пошли скорым шагом.
Федька дождался, пока Демка выйдет из сеней. Теперь на нем уже была не ужасающая изгвазданная шуба, а такой же ловкий и опрятный овчинный полушубок, как у Федьки. Они подошли к забору и подождали, пока беглецы отойдет чуть подальше. Потом двинулись следом – один с одной стороны улицы, второй с другой, моля Бога, чтобы беглецы переполошили здешних собак. Тогда по одному лаю уже можно будет следить за их продвижением.
Лай был, но умеренный и бесполезный – беглецы шли все прямо да прямо. Миновав дома, они вышли на открытое место и остановились, словно решая – куда двигаться дальше. Остановились и Федька с Демкой. Не в силах усмирить нетерпение, Федька перебежал к Демке.
– Чует мое сердце, свернут к Измайлову, – прошептал Демка. – Там-то есть, где не то что шайку – всю турецкую армию спрятать… И до тракта бежать недалеко…
Они подождали. И точно – беглецы повернули налево. И пошли вдоль кладбищенской ограды.
Измайлово было не так чтоб далеко – в двух верстах от Преображенской заставы.
В свое время, более сотни лет назад тут стояло на горке село. Царь Алексей Михайлович вздумал преобразить его в остров. Запрудили речку Серебрянку, поставили две плотины со шлюзами – Жуковскую мельничную и Лебедянская, вода охватила горку со всех сторон. Благодаря плотинам речка превратилась в цепь больших прудов. При государе Алексее Михайловиче их было не менее двадцати, и во всех разводилась рыба, кроме Пиявочного – тут название соответствовало содержимому.
Все получилось так, как было любезно царской душе, и он полюбил эту местность. Посреди новоявленного острова поставили каменный Государев двор, деревянные хоромы неслыханной красоты, не хуже тех, что тогда же возводили в Коломенском, многочисленные службы. Хоромы состояли из двух десятков рубленых клетей, соединялись множеством лестниц и переходов, имели резные крылечки – все, как подобает. Был выстроен и Покровский собор, а за ним, у новехонькой мельницы Серебрихи, устроили хозяйственный двор с огородами и теплицами, где росли дыни, арбузы, виноград для государева стола и даже финиковые пальмы. Там же поставили три завода – винный, льняной и стекольный.
Теперь Измайлово было заброшено – разве что государыни поочередно, и покойная Анна Иоанновна, и покойная Елизавета Петровна, любили там охотиться. Да, по старой памяти, держали там зверинец и псов. Зверовщики и псари рассказывали байки, как сто лет назад Измайлово, любимое село государя Алексея Михайловича, процветало, были там образцовые пасеки, рыбные пруды, теплицы, даже тутовые деревья росли. От поколения к поколению передавали, как служители зверинца сочинили челобитную, в коей жалостно просили денег и для себя, убогих, и для медведей с рысями. Челобитная попала царю в руки, когда был он сердит, потому начертал: всем отказать. Подумал и добавил: кроме зверей.
На прудах раньше прикармливали овсом диких уток для охоты. Охотой на уток с соколами особенно увлекался покойный царь Петр Федорович. Простым людям и даже помещикам баловаться охотой в Измайлове строго-настрого запрещалось. А «измайловский зверинец» был соблазнителен! Он простирался на несколько верст, и лесничие тщательно следили за звериным благополучием. Близ Владимирского тракта были лесные заячьи угодья, а севернее – лосиные и «кабанник». Туда выпусткали пойманных в других лесах зайцев, оленей, косуль, кабанов, был даже «лисятник», и зверье приживалось на новом месте. Впрочем, чтобы оно не разбежалось, «измайловский зверинец» еще по приказу государыни Анны Иоанновны был обнесен прочным деревянным тыном. Зайцев берегли – нарочно отпускались порох и дробь для уничтожения филинов, ястребов, подорликов, коршунов и прочих пернатых вредителей, нападавших на них.
Сейчас это место было в запустении, старый деревянный дворец на острове посреди Виноградного пруда – сломан, земля роздана оброчным крестьянам.
Туда-то, в заброшенное Измайлово, судя по всему, и спешили беглецы. И спешили весьма бестолково – то и дело норовили пройти по бездорожью. Одно утешение – преследователи могли ступать шаг за шагом в их глубокие следы.
В чистом поле беглецы были видны издалека – но и Федька с Демкой точно так же были бы видны, если бы беглецы обернулись. Демка, догадавшись, лег в сугроб и повалялся вволю, как стоялый жеребчик. Встал – ни дать ни взять снежная баба, каких лепят детишки. Федька так ему и сказал.
– Нет чтоб с мраморным болваном сравнить, – упрекнул Демка. На мраморных итальянских болванов обоего пола они насмотрелись у Волконского и в прочих богатых домах, где бывали по долгу службы.
Федька точно так же вывалялся в снегу, и они, то и дело приседая на корточки, пошли за беглецами, стараясь не терять их из виду.
– А ты там бывал? – спросил Федька. – А то не упустить бы…
– Не упустим, поди. Плохо, что зима. Летом бы легче их выкуривать с острова.
– С чего ты взял, будто они на острове?
– Чую…
– Сам, что ли, там прятался?
– Не твое собачье дело.
Тут Федька и заткнулся.
С Демкой такое случалось – вдруг на невиннейший вопрос отвечал грубостью, спасибо еще, что не матерной. Федьке и в ум не всходило, что иной созревший в голове вопрос лучше оставить при себе.
Некоторое время они шли молча.
– Ага, – сказал вдруг Федька. – Вот они-то здешних мест и не знают…
– А что такое?
– Слишком к зверинцу забирают… А там не пройти, там и канава, и тын, а где тына нет – вал земляной. Разве что случайно набредут на просеку. Там, где просеки из лесу выходят, ворота есть, ежели уцелели, а не уцелели – тем лучше… Слушай. Ты пойдешь за ними, и пойдешь, и пойдешь, пока они, чудилы грешные, все-таки не выбредут к мосту. Мост там к острову, здоровенный, не хуже нашего Каменного… По льду они, поди, боятся. А я пойду прямиком. Погляжу, что к чему. Знак, как доведешь, дашь по-волчьи. И не «вау», не по-собачьи, а открытой глоткой – «ау-у-у-у…»
– Взвою, дальше что?
– Дальше – поворачивай тут же и за драгунами. Они, я чай, по нашему следу уже и кладбище миновали. Увидят, что след раздвоился, наверняка помедлят, подождут. Ты их там встрень и веди по моему следу, понял?
Федька хотел было обидеться: такого он не припомнил, чтобы Архаров поставил Демку над ним старшим. Но сдержал себя, хотя и с трудом.
– И докуда вести?
– Ох… вот же навязался на мою голову… Да до речки же! Там старая сторожевая башня на острове, зовется Мостовая. Вы ее высмотрите – и к ней. И там ждите, на мост не всходите.
– Чего ждать-то?
Демка задумался.
– А сам не ведаю, – сообщил он. – Коли я маху дал и там, на острове, пусто, я сам всех на мосту встрену… Только так быть не должно!
– Никуда я не пойду, – вдруг уперся Федька. – Коли там пусто, значит, налетчиков спугнули и они прочь подались. И наши голубчики то ли знают, где их теперь искать, то ли нет. Коли знают – один ты, что ли, за ними по снегу побежишь? И как мы тебя тогда искать станем? А коли нет – как ты их в одиночку повяжешь? Ведь упустишь!
– А коли так выйдет, ты тут же господину Архарову с радостью доложишь – Костемаров-де опозорился? – нехорошо спросил Демка. – А и шел бы ты через два хрена вприсядку, довандальщик острематый!
Это было прямое оскорбление. В доносах Федька замечен не был – а разве в том, что сперва выпалит ненужное слово, а потом лишь подумает. Да и то – в последнее время как-то приспособился себе рот зажимать.
– А в рыло? – спросил Федька. И добавил кое-что злобно-заковыристое.
Демка ахнул и изготовился к драке.
Редко, но случалось – Москва любовалась, как дерутся между собой архаровцы, и получала от этого истинное наслаждение. Потом обер-полицмейстер, не разбирая правого и виноватого, вершил суд, возможно, не совсем справедливый, зато скорый и беспощадный. Потому что докапываться – тратить время, а коли задрались – то оба хороши. А он за эту шалую братию перед князем, тогда еще графом, Орловым поручился. Ему, выходит, и карать за дурачества.
Тут досужей публики не было. Но и возможности сцепиться по-настоящему тоже не было.
Федька умел биться на кулачках, кое-что перенял у Архарова, зато Демка знал всякие воровские ухватки, да еще и выспрашивал Клавароша. Тот показывал, как дерутся в ночных переулках Лиона – одновременно нанося удары и клинком, шпагой или саблей, и ногами. Последнее Демку особенно привлекало – он был худощав, неширок в плечах, и много силы вложить в кулак не мог, а вот ножные неожиданные удары при его сложении были хорошим подспорьем.
Но Федька знал эту его особенность и берегся, как мог.
Они наскакивали друг на друга, совершенно забыв о беглецах, меся ногами снег, пыхтя и выкрикивая очень обидные слова. Ни одному не удавалось нанести такой удар, чтобы уложить противника.
Наконец Демка, сунувшись к нему слишком близко, открылся – тут крепкий тугой кулак в меховой рукавице и влетел ему в очень неприятное место – в верхнюю губу, подбив снизу нос. Демка, взвизгнув, шлепнулся в снег.
– Что, докомандовался? – спросил Федька.
Демка, сжав ком снега, тут же уткнулся в него окровавленным носом.
– Блядь… – с грехом пополам выговорил он.