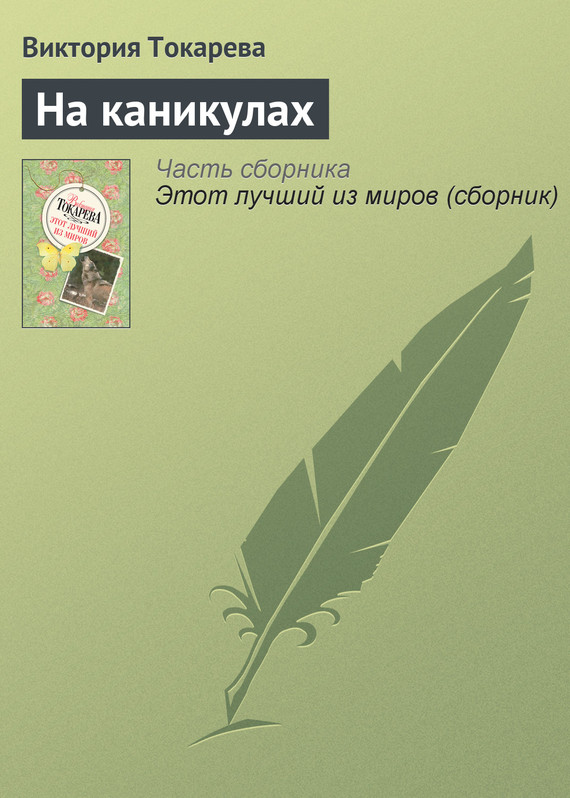Подметный манифест Трускиновская Далия

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
– Архаровцы сбесились! – пронеслось по Мясницкой.
Ко всяким чудесам привыкло здешнее население, и суета вокруг Рязанского подворья на Лубянской площади стала делом привычным. Но такого еще не видывали.
Бежали двое в расстегнутых мундирах, причем один был за старшего, а другой, страхолюдный, тащил нечто округлое и рогожей окрученное. Бежали, переругиваясь, причем старший, понятное дело, торопил, а подчиненный жалился на жар и грозился свой ценный груз уронить. Так и вышло, Однако подчиненный, споткнувшись, уже в полете умудрился отбросить ношу подальше. Тут и оказалось, что архаровцы тащили к себе на подворье немалый котелок с крутым кипятком.
Котелок с грохотом покатился, пугая баб, кипяток расплескался, визгу было – в Кремле, поди, услышали.
Упавший вскочил, подобрал рогожу, догнал котелок, сквозь нее ухватился за края и понесся назад, а старший – за ним, поражая слух москвичей разнообразными посылами. Оба вбежали в известный трактир «Татьянка». Там их встретили весьма громогласно. Несколько минут спустя по Мясницкой пробежал к трактиру всем известный парнишка, служивший в полиции на посылках, по прозванию Максимка-попович, и тоже сгинул в недрах «Татьянки». Не успела окрестная публика, приказчики при дверях хозяйских лавок и уличные торговцы с торговками, обменяться мнениями относительно этой беготни, как выскочил старший из полицейских служителей.
Его многие знали в лицо и в глаза называли ласково – Федя, а то и почтительно – Федор Игнатьич. За глаза же – Федька-мортус или даже Федька-негодяй (ни для кого на Москве не было секретом, откуда взялись архаровцы; коли не все, так немалая их часть; а в слово «негодяй» большого зла не вкладывали – ну, прозвали так мортусов в чуму, и прозвали, что ж теперь делать!).
Федька завертелся, высматривая нечто нужное, и с криком «Стой, тетка, стой!» кинулся хватать просто одетую бабу, в крашенинном сарафане, но в кокошнике, выложенном бусами, от дома к дому тащившую за собой тележку, на коей стоял бочонок с коровьим маслом.
Внимание полиции мало кому из уличных торговок лестно, и баба попыталась удрать. Федька догнал ее и потребовал ссудить для государственных нужд тележку. Баба поняла, что ее грабят, и подняла крик. Тут-то и полетело по Мясницкой заполошное:
– Архаровцы сбесились!
Сам Архаров, не ведая о переполохе, сидел в это время в своем кабинете в палатах Рязанского подворья, а перед ним торчали трое. Двух из них, заломив им руки за спины, держали полицейские, третий в таких любезностях не нуждался, да и хватать его было опасно для мундира – как раз перемажешься о большой, когда-то белый холстяной, теперь серый от стирки и испещренный кровавыми пятнами фартук. Тут же сидел в углу канцелярист – ветеран, служивший со времен чуть ли не государя Петра Алексеевича, которого молодежь называла – старик Дементьев, и никак иначе, ласкательно же – старинушка, почтительно – старичина, а коли сотворит в бумагах смешную описку – потчевали неведомо откуда занесенным словечком «старбеня». Словцо байковского наречия «гиряк» почему-то в полицейской конторе не прижилось и к Дементьеву не применялось.
Возле архаровского стола стоял Тимофей Арсеньев. А на столе возле сдвинутых в сторону бумаг лежал кошель из вытертого бархата с остатками золотого шитья.
– Где же эти дармоеды запропали? – недовольно спросил Архаров Тимофея, спросил вполголоса, чтобы посторонние не расслышали. – Им уж давно быть пора.
– Я Максимку спосылал, – отвечал спокойный и рассудительный, как всегда, Тимофей.
– Далеко ли отсюда до «Татьянки»!
– Близко, – согласился Тимофей. – Да только воде не прикажешь – раньше срока не закипит.
Архаров недовольно фыркнул.
– Ваше сиятельство! – взвыл один из схваченных. – Да нет же ни в чем нашей вины! Деньги те мне дал тесть, и с кошелем вместе, просил по дороге зятю отнести! Мало ли что кому привидится!
– Ловко, – одобрил Архаров. – И знать, сколько в том кошеле денег, тебе неоткуда. Сразу видать подьячего!
О том, что в кабинет притащили именно площадного подьячего, из тех, что за гроши пишут прошения и «явочные», он знал с первого же взгляда: коротковатый обшмыганный кафтанишко, пальцы в чернилах, за ухом перо. Сидит такой бес при дверях присутственного места, мало чем краше побирушки, а копнешь – и в Замоскворечье у него домишко прикуплен, и в Ростокине землю огородникам в наем отдает, и, сказывали, хочет войти в долю к купцу Милютину, чья шелковая мануфактура всей Москве известна.
Тут за дверьми раздались возмущенные голоса. Тимофей тут же бросился отворять.
Явился Федька Савин, взъерошенный, потный, за ним Степан Канзафаров нес котелок с кипятком, гораздо меньше того, который опрокинулся. Следом сунулась было баба в сбившемся набок кокошнике, но кто-то перехватил ее, и Тимофей тут же захлопнул дверь.
– Ваша милость, стул надобен! – воззвал Федька.
– Ну? – спросил Архаров. – Мне за ним бежать?
Степан опустил котелок наземь, снял крышку и встал рядом на корточках, придерживая за край, чтобы посудина не опрокинулась. От котелка шел густой пар.
– Сойдет, – сказал Архаров. – Итак. Ты, Иван Семенов, при торговле держал зачем-то кошель с выручкой на видном месте.
– Так ваше ж сиятельство! – возопил Семенов – мужчина росту низкого, крепкий и румяный, с обстриженными в кружок смоляными волосами, даже при всем переполохе, связанном с воровством, сохранившими достойный вид – зачесанные на лоб гладкие короткие прядки. – Торговля у нас живая, кто же станет тухлое мясо брать? Как приносят молодцы с ледника, так тут же народ и разбирает, из рук рвут! Некогда деньги прятать!
– Стало быть, вы с приказчиком вели торговлю, а этот вот… – Архаров заглянул в бумагу. – Сказавшийся Фаддеем Крючковым, так?
– Так, ваше сиятельство! – подтвердил второй задержанный. – Крючковы мы, из мещан, пришел баранины во щи взять – хватают, бьют, на Лубянку волокут!
– Тихо! – весомо приказал Тимофей и показал кулак. – Недосуг ваши визги слушать.
– Давай экстракт, – велел Архаров.
– Экстракт таков: мясник Семенов утверждает, что пока Крючков ему голову морочил да мясо перебирал, подьячий Овчинников стянул кошель с выручкой и кинулся наутек. Семенов закричал, молодцы кинулись вдогон, успели схватить, а приказчик поймал Крючкова. И тут же всей ордой – на Лубянку.
– Ты, Семенов, говоришь, что кошель – твой, а ты, Овчинников, что – твоего тестя, – подытожил Архаров. – Ну, Господи благослови, сейчас правда и выплывет.
Он встал, развязал кошель, сделал два шага – и высыпал серебро с медью в котелок.
– Степан, помешай палкой, поставь на холод, – велел он Канзафарову. – Коли это твои, Овчинников, деньги, ничего с водой не сделается. А ты, Семенов, когда торговлю вел, засаленными пальцами за монеты хватался. Стало быть, коли деньги твои – то непременно жир наверх всплывет.
Крючков громко ахнул, подьячий разинул рот, а мясник грохнулся на колени.
– Батюшка ты наш! – воскликнул он. – Как же я сам-то не додумался! Век за тебя Бога молить буду!
– Моли, да впредь не будь вороной, – сказал ему Архаров. – Не уходи, пока вода не остынет. Федя, присмотри, чтобы все было честь по чести, а я к его сиятельству.
Выйдя из кабинета, он обнаружил у самых дверей торговку маслом, смиренно стоящую на коленях.
– Тебе чего, баба? – спросил он.
– Тележку, батюшка, твои архаровцы отняли, тележку!
Архаров медленно оглядел стоящих в коридоре подчиненных.
– Какая такая тележка?
– Это, ваша милость, Федор Игнатьич взял, чтобы котел с кипятком везти, – объяснил Максимка-попович.
– Ну так верните.
– Она в «Татьянке» осталась.
– Это как?
– Думали большой котел везти, потом решили, долго ждать, пока закипит, взяли маленький. Чтобы вашу милость ожиданием не утруждать, – сказал ловкий Максимка.
Архаров вздохнул, махнул рукой и пошел прочь. Баба вскочила, побежала следом, едва не кинулась в двери разом с обер-полицмейстером, кто-то успел удержать.
В карете его ждал секретарь Саша Коробов. Когда дверца распахнулась, он с неохотой закрыл толстую книжищу – явно какую-то невразумительную математику.
– К его сиятельству! – сказал кучеру Сеньке Архаров.
Тот знал – барин имел в виду московского градоначальника князя Волконского. И, дождавшись, пока Архаров заберется в экипаж, подстегнул лошадей – подстегнул уважительно, просто давая им понять – трогайтесь, милые, спешить некуда, все равно по московским улицам больно не разгонишься.
– Книгу купил? – спросил Архаров секретаря.
– Купил, только не знаю, Николай Петрович, угодил ли, – Саша достал из кожаного кармана на стенке экипажа французский томик.
– И что же это? Новинка?
– Сказывали, многие берут. Это «Влюбленный дьявол» господина Казота.
– Тьфу, не к ночи будь помянут! – вокликнул Архаров и перекрестился. – И это ты мне вздумал читать на сон грядущий?
– Сами же просили книжонку позанимательнее и на французском наречии. А сию многие хвалили.
– Бог с тобой, рискнем…
Архаров во многих вопросах пренебрегал мнением всего человечества и находил свои пути. Так обстояло дело и с изучением французского языка. Вместо того, чтобы нанять учителя да и твердить вместе с ним вокабулы, Архаров велел Саше купить книгу, чтобы читать ее вслух и тут же переводить на русский. За неимением Саши это мог делать и Клаварош. Способ, конечно, мудреный, но вообразить обер-полицмейстера с тетрадкой, полной неправильных глаголов, и трепещущего перед учительской розгой было бы еще диковиннее.
Взяв из Сашиных рук томик, Архаров посмотрел картинки и несколько удивился, увидев на одной выглядывавшую из разверстого облака верблюжью морду. Похоже, роман и впрямь был занимательный – не то что странствия из постели в постель пригожей поварихи Мартоны, про которую поведал миру господин Чулков.
Когда доехали до Воздвиженки, Саша остался в карете со своей преогромной арифметикой, или что он там читал с упоением, а Архаров с достоинством вошел в сени, где был встречен поклонами княжьей дворни.
Князь Волконский с супругой, Елизаветой Васильевной, ждали его в столовой – без него за стол не садились. Гостеприимная Елизавета Васильевна скучала по сыновьям – оба были в Санкт-Петербурге, при ней жила лишь дочь, предмет ее большой тревоги – Анне Михайловне уж исполнилось двадцать пять лет, давно пора быть замужем, и вроде бы удалось сговорить девицу за князя Голицына, однако пока не зазвенят колокола, сопровождая торжественный выход из храма новобрачных, сердце все будет не на месте – уж больно хорош собой князь, и не одна матушка рада бы заполучить в зятья недавно овдовевшего Голицына. Так что княгиня привечала Архарова не только в силу его должности, не только чтобы угодить мужу, видевшему в нем доброго товарища, не только по-матерински – он ей по годам в сыновья годился, – но и с тайной мыслью: коли не сладится с Голицыным, вот ведь тоже весьма достойный жених…
Может статься, и сама княжна, при всей ее сердечной склонности к красавцу Голицыну, разумно глядела на жизнь и потому вышля к гостю в прелестном платье, серебристо-сером с розовой отделкой и розовыми же бантами, в изящной наколке на высокой прическе. Прическа эта Архарова несколько смутила – волосы надо лбом поднимались на добрых три вершка. Таким образом княжне невольно делалась почти одного с ним роста, а Архаров, как многие кавалеры, полагал, что на женщину должно смотреть сверху вниз.
На сей раз гостя потчевали не только разносолами, но и частными письмами из столицы – их с курьерской почтой доставили несколько, в том числе долгожданные – родственницы на разные лады докладывали про бракосочетание цесаревича Павла. Ради новостей Архаров, собственно, и приехал. Как и положено в женской болтовне, лукавство и небрежная язвительность никого не щадили, мимоходом раскрывая государственные тайны и словно бы не придавая громким именам ни малейшего значения.
– «А сказывали, по дороге за принцессой младший Разумовский весьма волочился и тем всю свиту сильно обеспокоил, – читала вслух княгиня Волконская, мало беспокоясь, что незмужняя дочь слушает про такие проказы. – И из того жалкую участь для мужа прелестницы предвидят, ибо сей в сравнении с Разумовским…»
Анна Михайловна, сидя на канапе с девичьим рукодельем (не чулок вязала, Боже упаси, а работала иголочкой с тонкой ниточкой шитое кружево), мечтательно улыбалась – Разумовского она помнила по Санкт-Петербургу, кавалер был отменный, принцессе Вильгельмине с самого начала замужества повезло с махателем – все же знают каков купидон ее нареченный жених, ныне – уже супруг Павел Петрович.
– Будет тебе, сударыня, – прервал супругу Волконский. – Ты бабьи домыслы пропускай, ты дело говори.
Он, помня давние порядки, не хотел даже слушать о том, что красавчик и бойкий кавалер Андрей Разумовский ухлестывал за невестой наследника Павла Петровича, коли вдуматься – за будущей российской императрицей. Чем менее знаешь про такие шалости – тем лучше. Мало ли было случаев, когда болтуна, всего лишь намекнувшего на амурные дела той или иной государыни, учили уму-разуму на дыбе…
Дальше Елизавета Васильевна читала исключительно трогательные и благопристойные фразы – про то, как Павел Петрович из трех дочерей герцогини Дармштадской, коих матушка привезла в Россию, влюбился с первого взгляда именно в Вильгельмину, которая и была назначена государыней Екатериной ему в невесты. И про то, как 29 сентября праздновали свадьбу Вильгельмины, принявшей православное имя Натальи Алексеевны, с цесаревичем Павлом Петровичем, и в каком платье изволила быть государыня – в русском, из атласа, расшитом жемчугами, и в мантии, опушенной горностаем, и про свадебный обед в тронном зале Зимнего дворца, и…
В описании свадьбы явилось нечто, заставившее Елизавету Васильевну вдруг замолчать и покоситься на мужа, как бы спрашивая дозволения.
– Ну, что там еще за шашни? – спросил князь.
– «К концу брачных торжеств стало ведомо о разбойнике, появившемся в Оренбургской губернии, и что велит себя звать государем Петром Федоровичем…» – прочитала княгиня.
Архаров и Волконский переглянулись – ничего себе подарочек!
Им даже незачем было обмениваться мнением по сему поводу – они и так знали, что оба думают об одном и том же.
Непременно в тот же день новобрачный Павел Петрович, услышав новость, стал приставать к ближним, и к графу Панину главным образом, с вечным своим вопросом: точно ли они убеждены, что его отец, покойный государь Петр Федорович мертв? В могиле? Не под замком в дальнем монастыре? Откуда при желании можно утечь хоть в оренбургские, хоть в какие иные степи?..
И у него имелись немалые основания для таких вопросов.
Во время «шелковой революции» Павлу было неполных восемь лет. Мальчику мало что растолковали – он только понял, что больше у него нет отца, но в смерть бывшего императора Петра Федоровича верить не желал. Мать, сменившая отца на престоле, была слишком занята делами государственными. И, как известно, умершего любить проще, чем живых, – умерший уже не понаделает роковых ошибок…
Позднее Павел Петрович стал потихоньку выяснять обстоятельства отцовской кончины.
Получалось так, что свидетели оной кончины – исключительно друзья, приятели, сторонники, а не исключено, что и любовники его матери.
Когда Екатерина, убежденная, что промедление смерти подобно, примчалась из Петергофа, где жила отдельно от мужа, в Санкт-Петербург и, выскочив из кареты возле казарм Измайловского полка, сказала сбежавшимся солдатам и офицерам, что супруг-император приказал убить ее с сыном, что убийцы скачут по пятам, сам Петр Федорович находился в Ораниенбауме с верными ему голштинцами. Он много куда мог уйти, но, узнав про восстание гвардейских полков, заметался, а пока маялся нерешительностью – обнаружил, что все пути перекрыты. Тогда он сочинил отречение от престола и отправил его мятежной супруге. Далее – был арестован и отвезен в Петергоф. Там, рыдая, ждал решения своей участи. Одну из его просьб Екатерина исполнила – Петра Федоровича отвезли в Ропшу, его имение, подаренное покойной тетушкой Елизаветой Петровной.
И далее все выглядело весьма сомнительно.
Охранять низложенного российского императора был приставлен брат новоявленного фаворита Екатерины, Алехан Орлов. Никого к пленнику не пускали, и проверить, точно ли он от волнений расхворался, как докладывали государыне, совершенно невозможно. Петр писал супруге записки по-французски и просился в Германию.
Павлу Петровичу рассказали, что Алехан доподлинно слал донесения о крепчающей хворобе Петра Федоровича, но рассказывали с ухмылкой – как если бы решительный Алехан, вздумав освободить государыню от того, кого называл не иначе, как уродом, понемногу готовил и ее, и весь двор к этому событию. И, сообщая, что объявленной причиной смерти императора были геммороидальные колики, всем видом давали понять – ложь, ложь, ложь!
Отравлен или удавлен – вот что старались донести до юного царевича втихомолку фрондирующие царедворцы. Но мертвого тела с признаками ужасной смерти никто из них не видел.
Нашелся кто-то поумнее прочих, растолковал, что скоропостижная смерть супруга была страх как невыгодна государыне в первые дни ее правления. И тем зародил надежду…
Коли отец жив, но надежно упрятан, он ведь может вернуться и прийти на помощь единственному своему сыну! Ведь по всем законам божеским и человеческим Екатерина, приняв на себя правление страной до возмужания сына, должна была уступить ему престол. А вот не уступала же. И про это добрые люди осторожненько нашептали – так, легчайшими намеками…
Павлу Петровичу только позабыли сказать, что Петр Федорович никогда не считал его своим сыном и вслух недоумевал, откуда у великой княгини берутся вдруг и беременности, и дети.
Сейчас, в девятнадцать лет, наследник российского престола все еще ждал чуда.
Неудивительно, что оно ему вновь примерещилось.
Обменявшись взглядами, Волконский и Архаров разом вздохнули. Но обсуждать положение не стали, а дослушали до конца письмо со всеми поклонами и нежностями. Затем отдали должное разносолам.
После чего Архаров засобирался домой. Но уже в карете понял, что на Пречистенку не хочет, и велел Сеньке ехать, куда его душенька пожелает. Саша обрадовался и попросил довезти его до Варварки – там у него в Псковском переулке жил приятель-студент, такой же страстный книжник, так чтобы забрать у него какие-то драгоценные фолианты.
Поехали на Варварку… на Варварку, куда Архаров сам бы не отправился, однако был даже благодарен Саше – потому что Варварка уже хранила некие воспоминания.
Архаров чувствовал, что все в мире повторяется. Уже была в его жизни московская осень, исполненная тревоги и одиночества, чумная осень семьдесят первого. Два года прошло – и снова полетела над Москвой первая желтая влажная листва, прилипая к стенкам экипажей, к конским бокам, к мундирам, к дамским платьям и душегреям мещанок, к бархатным кафтанам и домотканым армякам.
Он еще не видел разумного повода для беспокойства. Где оренбургская степь и где Москва? Но его вышколенная подозрительность, когда нужно было, отметала доводы разума. Вечно всем недовольная Москва, казалось, только и ждала, чтобы объявился какой-либо возмутитель спокойствия. Тут собрались многие, сочувствующие Павлу Петровичу и не понимающие, как возможно, чтобы государыня Екатерина не уступила трон законному его владетелю. Волконский ворчал, что всякий приезд в Москву графа Панина, воспитателя наследника, чреват тайными сговорами, и может статься, что именно тут, а не в Санкт-Петербурге, уже выношен комплот, ставящий целью устранение государыни и возведение на престол ее сына. Вот и недавно, когда Панин изволил в сентябре посетить свое подмосковное село Михалково, князь нарочно просил у Архарова людей для наблюдения за ним, и тут уж не обошлось без Шварца – он сам взялся за это дело, испросив всего лишь полсотни рублей. Кого он подослал в Михалково – князь Волконский так и не дознался, однако сведения оттуда шли исправно, а на расспросы Архарова осторожный немец отвечал одно: чем менее народу знает о его тайных лазутчиках, тем лучше.
Кем бы ни был тот степной бунтовщик, а одним своим появлением он уже мог доставить беспокойному городу немалое удовольствие. Так понимал Архаров, и эта особенность Москвы нравилась ему все менее и менее. Многие из тех, кто весело и с издевкой кажут кукиш в кармане самой государыне, о подлинном бунте не помышляют, им довольно речей. Но они вполне способны поднять такой шум, что иные люди, одурев от него, могут и затеять недоброе.
К тому же, у Архарова было свое понимание справедливости – отнюдь не такое, как у Шварца, навещавшего Салтичиху, более узкое – и, в отличие от Шварцева понимания, не подпираемое высокоумными рассуждениями.
Архаров получил свою должность благодаря графу, а ныне – князю Орлову. Хотя Григорий Орлов уже не был признанным фаворитом, однако братья сохранили немалое влияние, особливо – умница Алехан, кстати говоря, из всех Орловых именно он был любимцем Москвы. И Волконский тоже должностью московского градоначальника был обязан Григорию Орлову. Они вдвоем, Волконский и Архаров, неплохо с этим городом управлялись – вон, и Варварка вся уж в фонарях, и переулки. Было бы несправедливо, коли из-за очередной петербургской революции Москву лишили бы двух таких рачительных хозяев.
А той чумной осенью и те немногие фонари, что остались целы, не горели…
Архаров не желал вспоминать про особняк во Псковском переулке – но вон же он, особняк Ховриных, стоит, ничего ему не делается! И во втором жилье – окна той самой парадной гостиной, где на возвышении стоят клавикорды, вот только музыки не слышно, нет тут более музыки… но где-то же есть?..
Саша вернулся в карету, обремененный двумя томами, и тогда уж покатили на Пречистенку. На смутное настроение обер-полицмейстера вечный студент не обратил внимания – да и кто когда видел эту тяжелую физиономию с нехорошим прищуром радостной? К ней притерпелись, как притерпелись к тяжелой поступи Архарова, к его внезапной мелкой коротконогой побежке, к неожиданному громкому хохоту, к вспышкам подозрительности. Все то, что при первой встрече смущало новых архаровских знакомцев, его домочадцы и буйный гарнизон Рязанского подворья за два года научились в упор не видеть.
Два дня спустя Волконский получил из Санкт-Петербурга, среди важных бумаг, нечто, прилагаемое к тревожному сообщению из-под Оренбурга в качестве курьеза – причем указывалось, что сие – не оригинал, но верный список с сохранением всех нелепиц оригинала. Он прочитал курьез и послал его с человеком в полицейскую контору, приложив краткую записку. Архарову следовало тоже знать про сей краткий, но сильнодействующий документ.
Архаров же как раз был в кабинете, беседовал со Шварцем. Туда призвали Устина, Абросимова, Тимофея, а Демка с Федькой проскочили без приглашения.
– Читай, – велел Устину Архаров, дав почему-то сперва курьез.
И тот забубнил нараспев и довольно внятно – за невнятицу Архаров однажды крепко его выругал и посулил батогов.
– Самодержавного амператора, нашего великаго государя Петра Федоровича всероссийского: и прочая, и прочая, и прочая… – прочитал Устин и недоуменно поглядел на обер-полицмейстера.
– Читай, читай!
– «Во имянном моем указе изображено яицкому войску: как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и оцы ваши»…
Устин замолчал.
– Ты чего это? – спросил Архаров.
– Так помер же великий государь…
– Полагаешь, послание – с того света? Не бойся, вполне с этого, – утешил Архаров.
– И ошибок полно, в словах букв недостает…
– Читай, не рассуждай!
– «… так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу, – тщательно выговаривая ошибки, прочитал Устин. – Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых. Будити мною, великим государям, жалованы: казаки и калмыки и татары. И каторые мне, государю императорскому величеству Петру Феравичу, винныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершин и до усья, и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и хлебныим правиянтам. Я, велики государь амператор, жалую вас Петр Федаравич…»
– Все, что ли? – спросил Архаров.
– Писано в тысяча семьсот семьдесят третьего году сентября семнадцатого числа, – сказал Устин.
– Экая филькина грамота, – заметил Демка. – Рекою жалует, а которой – не сказал. Этак и я кого хошь болотом пожалую.
Архаров усмехнулся, что было понято подчиненными как разрешение обсуждать филькину грамоту.
– Это доподлинный манифест, – сказал Шварц.
– Ты почем знаешь?
– Ваша милость, нарочно такого не наваляешь, – вставил Тимофей. – От всей дури писано!
– Совершенно с тобой согласен, – подтвердил Шварц. – Такое произведение мог изваять только доморощенный гений, не обремененный науками. И не имеющий при себе хотя бы одного доброго советчика.
– Так-то так, но крестьяне у нас тоже не невтоны и не архимеды, – блеснул случайно застрявшими в голове именами Архаров. – Они грамотно написанного манифеста, поди, и не поймут, а такое безобразие – как раз им по зубам.
– Они, стыд сказать, и в церкви половину кондаков и ирмосов не разумеют, куда уж манифест. Манифесты-то редко бывают, а в церковь каждое воскресенье ходят, – подтвердил Устин. – У нас было – батюшка раз прислушался: что-то не то на клиросе поют. После службы подошел, спрашивает мужиков: вы, чада, повторите-ка внятно, чего пели. Ну и вышло – клирошанам петь «крест начертал Моисей», а они выводят «влез на чердак Моисей».
Архаровцы засмеялись.
– Как им понятнее, так и пели. Семнадцатого сентября, Устин? Месяц, стало быть, исполнился сему манифесту. Теперь – что его сиятельство прислал, – Архаров передал Устину записку.
– «Николай Петрович, по последним сведениями, сей злодей, заняв некоторые малые крепости, движется к Оренбургу, имея взять его в осаду, – прочитал Устин. – Извольте вечером быть у меня».
– Оренбург? – шепотом переспросил Тимофей. – Так для того ж армия, поди, надобна?
– Изволю, – буркнул Архаров. – Такие вот филькины грамоты. Бунт, братцы, и нешуточный.
– Оренбург, ваша милость, далеко, – сказал Демка. – У меня там крестный служил, я знаю.
– Ближе, нежели ты полагаешь…
Сказав это, Архаров взглянул на Шварца – и убедился, что немец уже ждал его взгляда.
Как тогда с Волконским, так и сейчас со Шварцем они подумалит об одном: Москва внутренне всегда готова к бунту, а тут еще и повод самый что ни на есть благородный – возвращение государя, коему по закону принадлежит престол.
– Что скажешь, Карл Иванович? – спросил Архаров.
– Мы ныне на пороховой бочке восседаем, – подумав, отвечал немец. – Но, как невозможно съесть жареного поросенка, разом затолкав его в рот, а лишь разрезая на приличные куски, так и не следует видеть в наших здешних возможных пособниках самозванцу некий сплоченный отряд, а разделить их как бы на роды войск, и с каждым управляться особо.
– Ну, давай, дели!
Немец ничего не ответил.
– А ну, кыш все отсюда, – догадавшись, сказал Архаров.
Оставшись вдвоем со Шварцем, велел ему садиться и, упершись локтями в столешницу, изготовился слушать.
– Сие дело о самозванце имеет некое сходство с предыдущим. Но там был у нас французский след, – намекая на шулерскую шайку, сказал Шварц, – а теперь, сударь мой, будет немецкий.
– Твой, что ли? – неловко пошутил Архаров.
– Нет, ибо я себя в обиженных не числю, – преспокойно отвечал Шварц. – Я служу, получаю жалование, службой своей доволен. И я при том не полагаю, будто мне за мою немецкую фамилию должны ежемесячно наградные выдавать.
– А есть кто полагает?
Шварц покивал.
– При покойном государе Петре Федоровиче немцы были в чести. Он по-немецки любил разговаривать и прусские порядки уважал. До казусов доходило. Не помню, в котором году ко двору взяли молодую немку, принцессу Курляндскую. С ней тоже история была – она ведь дочка господина фон Бирона, который, между нами говоря, никакой не дворянин, а чуть ли не из конюхов. Я имею в виду фаворита покойной государыни Анны Иоанновны, – видя, что начальство еще не поняло, о ком речь, аккуратненько и деликатненько, словно бы тех Биронов в России считали сотнями, заметил Шварц.
– Помню, слыхивал.
Архаров не солгал – мудрено было бы жить в Петербурге и не знать имени Бирона. Только подробности, разумеется, в его голове не зацепились и не удержались, потому что были ему без надобности. Архаров, как многие, втайне полагал, что история человечества начинается с года, когда он сам себя осознал мыслящим существом. А все прочее то ли было, то ли нет – одному Богу ведомо, и все о том врут разное.
– Бирона, когда государыня Анна Иоанновна помереть изволили, тут же в Сибирь сослали, потом вернули и определили ему жительством Ярославль. А дочери его было на ту пору лет двадцать пять, и жениха все не находилось. Собой же она была горбата и неимоверно хитра. Потому сбежала из дому и оказалась в Петербурге. И первое, что сделала, – приняла православие. Покойная государыня Елизавета Петровна была сим поступком весьма тронута, взяла принцессу ко двору. Ее так и продолжали звать принцессой Курляндской, хотя батюшка уже сего герцогства лишился. А теперь вообразите себе, сударь, существо ростом вам по пояс, злобное и зловредное, но умеющее втереться в доверие и вызвать жалость.
– Вообразил, – Архаров поежился, потому что вспомнил неопрятную карлицу, замеченную в одном из старых московских домов, в свите кого-то из барынь.
– И этим уродцем не на шутку увлекся покойный государь Петр Федорович.
– Как?!
– Одному Богу ведомо, – Шварц возвел глаза к потолку. – Девица имела в глазах покойника, тогда еще великого князя, одно неоспоримое достоинство – она была немецкая принцесса. Это придавало ей прелесть в его глазах. Между собой они говорили по-немецки, и уже тем он был счастлив.
– Надо же, с горбуньей…
– А он, сударь мой, слыша любимую речь, не видел того горба и не замечал гнусного нрава. Именно потому вокруг него собралось довольно много тех, кто, кроме немецкой речи, ничем иным похвалиться не мог. Когда же на престол взошла ныне царствующая государыня, она, коли изволите вспомнить, очень и очень немногих преследовала за преданностть покойному супругу. Все из его окружения, кто имел хоть сколько-то дарований и способностей к службе, были употреблены в дело. А вот запойным псарям и конюхам, да еще камердинерам, с коими устраивались попойки, пришлось лишиться мест. А теперь вообразите…
Шварц задумался.
– Вообразил, – сказал Архаров. – Эти люди недорого возьмут, чтобы в любом самозванце признать покойного государя. Из чистой вредности. Но с чего ты, черная душа, взял, будто они все собрались в Москве?
– Все, вестимо, не собрались. Но кое-кого встречал. И есть у меня подозрение, что по меньшей мере один человек из Петербурга выехал в Москву, самозванцу навстречу.
– Кто таков? – тут же сурово спросил Архаров.
– Один из моих служащих на улице Брокдорфа повстречал.
– Брокдорфа я помню… – Архаров тут же помрачнел. – Голштинец, камергер на час… Его тут только недоставало.
– И я так полагаю, – весомо сказал Шварц.
На сей раз долгих историй не понадобилось. Архаров и без них знал, что голштинец может натворить бед.
Брокдорф объявился в Санкт-Петербурге вскоре после того, как родился царевич Павел Петрович и еще не завершились празднества, устроенные по этому поводу. Это не было его первой попыткой завоевать столицу – однажды этого голштинского дворянина просто-напросто прогнали с российской границы, причем озаботились этим приближенные великого князя Брюммер и Бергхольц. Еще один интриган при малом дворе, как называли двор великих князя и княгини, им попросту не был нужен.
Голштинец все же умудрился проскользнуть под видом торговца стеклом, был принят великим князем, готовым облобызать любого дурака, лишь бы из любезной Голштинии, и нашел ход к графу Петру Шувалову, причем ход хитрый – познакомился со сводником, который устроил сожительство между графом и некой девицей Рейфенштейн. У трех сестриц Рейфенштейн он однажды повстречал графа и с его помощью попытался исполнить при дворе незамысловатый курбет – поссорить великого князя с великой княгиней. Не удалось, и тогда Брокдорф решил использовать влияние Шувалова для иной цели – чтобы выпросить у государыни Елизаветы немалую сумму денег для великого князя. В надежде на эти обещанные Брокдорфом деньги Петр Федорович, опять же по его совету, выписал себе из Голштинии целый взвод солдат. Обнаружилось это, когда голштинцы прибыли морем в Кронштадт, а оттуда – в Ораниенбаум. Великий князь на радостях стал открыто носить голштинский мундир, что сильно уязвило преображенцев – ведь он числился подполковником Преображенского полка. Архаров был привезен в Петербург и определен в полк вскоре после тех событий и невольно запомнил слухи и толки, связанные с голштинцами.
– Это предателей в Россию привезли, – таково было общее армейское и гвардейское мнение.
Великий князь, решительно ни с чьим мнением не считаясь, поселился в лагере со своими голштинцами и был счастлив. В конце концов, осенью их отправили обратно. А Брокдорфа так и продолжали звать генералом – в память о тех маневрах.
Немудрено, что «генерал» запомнился бдительному Шварцу тем, что сумел устроить доставку в Россию целого вооруженного отряда и потом немало им занимался, угождая великому князю.
– И чем же потом сей голштинец занимался? – спросил Архаров.
– Почти тем же самым, сударь мой. В солдатиков играл.
Осенью и зимой, когда лагерная жизнь и маневры поневоле прекратились, главной забавой великого князя стали игрушечные солдатики из дерева, свинца, воска и крахмала. Он устроил себе для них особливую комнату, где велел поставить длинные и узкие столы. На этих столах разыгрывались целые баталии, а также устраивались парады и ежедневно проводилась смена караулов. Великий князь присутствовал на парадах в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, того же требуя и от своей свиты. Брокдорф угождал ему еще и тем, что прилюдно называл великую княгиню Екатерину змеей. За что и поплатился – при первой возможности Екатерина, попав в милость к императрице Елизавете, добилась его удаления от двора.
Также весь двор знал, что Брокдорф был доносчиком и едва не подвел под топор графа Алексея Петровича Бестужева. Обвинение было нешуточное – государственная измена, кончилось дело ссылкой, из коей опытного дипломата вернула уже государыня Екатерина.
Более Шварц об этом интригане и авантюристе не знал ничего, а после шелковой революции и вовсе не имел о нем сведений. Однако полагал, что голштинец остался в России, где успел завести себе приятелей. Да и не до Брокдорфа ему было – иных забот хватало.
Знаменитые и загадочные кнутобойцы Шварца за пределами Лубянки были мало кому известны. На улицах их не узнавали. Шварц очень заботился о том, чтобы они в свободное от службы время жили достойно, и это вознаграждалось – никто из служителей нижнего подвала не боялся подойти к нему, обратиться с вопросом, казалось бы, отношения к их ремеслу не имеющим. Так и вышло, что ему рассказали о появлении человека, сильно похожего на Брокдорфа, рассказал же некий Кондратий Барыгин, которого Шварц самолично вывез из Петербурга, когда был переведен в московскую полицию.
– Надо разобраться, – решил Архаров. – Твой человек знает сего голштинца в лицо. Пусть побегает там, где его случайно встретил, авось вдругорядь повезет.
– Да и не он один. В Москве найдутся еще знакомцы, кои могли бы опознать Брокдорфа, – сказал Шварц. – Из тех, что удрали сюда от греха подальше в шестьдесят втором.
– Им веры нет.
– А может, и есть. Одно дело – покойного государя оплакивать, иное – признать за государя оренбургского самозванца. Для того надобно…
– Что надобно?
– Либо дураком быть, способным искренне уверовать, будто государь Петр Федорович уцелел и одиннадцать лет в башкирских степях скитался, либо бешеным интриганом, вздумавшим признать самозванца и через то получить от него свою выгоду. И, поверьте мне, сударь мой, еще неизвестно, какой род врага хуже…
– Ох, мать честная, Богородица лесная… – пробормотал Архаров. – Голштинцы – это, стало быть, первый кус поросенка. Второй кус – боярство московское! То-то будет злорадства!
– Будет пресловутый кукиш в кармане. Сии господа более осторожны, нежели можно судить по их смелым объявлениям. Ибо сим господам есть что терять. А прямого бунтаря, сударь, не угодно ли? – спросил Шварц. – В бытность государыни Елизаветы в Москве такое дело вышло. У нас тут стоял Бутырский полк, а в нем служил поручиком господил Батурин, именем – Асаф… Не задумывайтесь, Николай Петрович, в святцах такого имени нет. Сам проверял.
Архаров усмехнулся – подчиненный накрепко запомнил его блажь и деловито ей соответствовал.
– Нехристя бы поручиком не сделали, – заметил он.
– Кто ж говорит, что нехристь? Я полагаю, он был из армян, а они тоже крещеные, только на свой лад. Его считали большим негодяем и при том человеком решительным. Так вышло, что государыня Елизавета Петровна, прибыв в Москву, взяла с собой наследника Петра Федоровича. И он, Батурин, через охотников, что ведали сворой наследника, исхитрился ему передать, что якобы предан ему и со своим полком вместе. У того, прости Господи его душу грешную, ума всегда недоставало – он с Батуриным заигрывать стал. Тот как-то его подстерег на охоте и бухнулся в ноги. И поклялся не признавать другого государя, кроме Петра Федоровича. И грозился при том все тут же исполнить, что ему великий князь прикажет. Тут наследник наконец-то до полусмерти перепугался, пришпорил коня и ускакал, оставив Батурина на коленках в лесу. Но у нас в Тайной канцелярии тоже молодцы служили бдительные – несколько дней спустя Батурина повязали и привезли в Преображенское. Тут он, будучи пытан, разговорился – и государыню Елизавету Петровну убить замышлял, и дворец поджечь, и в суматохе великого князя Петра Федоровича на престол возвести.
– Лихо он это затеял… На престол – в суматохе…
– А чего ж вы желали бы от армейского поручика? Дали ему пожизненное заключение в Шлиссельбурге, пытался бежать. Тогда сослали навеки в Камчатку. Такие вот у нас в армии буйные головы вызревают.
– Второй кус – обиженные поручики. Третий?
– Фабричные, поди, еше не позабыли, как их за хождение в Донской монастырь драли…
Архаров кивнул. Троих человек, кои нанесли первые удары покойному митрополиту Амвросию, выявили и повесили в том самом месте, где совершилось убийство. Еще шестьдесят, среди которых были даже дворяне, сдуру замешавшиеся в буйную толпу, пороли кнутом и, вырезав ноздри, отправили в Рогервик, на каторгу. При розыске явилось, что в толпе было много мальчишек. Этих высекли розгами и отпустили.
– Четвертый?
Шварц призадумался.
– Что ваша милость слыхала о староверах?
– Да ничего, – честно признался Архаров. – На что они мне? Вот разве кладбища…
После чумы пришлось и этой докукой заниматься. Во время поветрия всех хоронили за московскими заставами – и князь Волконский решил, что так тому быть и впредь. Новорожденные кладбища – Ваганьковское, Дорогомиловское, Даниловское и прочие, – были узаконены, а хоронить в самой Москве, при церквях и монастырях, – запрещено, кроме знатных персон, да и то – за пределами Белого города. Таким образом князь еще и избавил московские улицы от похоронных процессий.
Но когда он этим занимался к нему обратились старообрядцы и сумели получить дозволение устроить свои два кладбища – Рогожское и Преображенское. А поскольку староверы сидели тихо, то это было чуть ли не единственным, что знал о них Архаров.
Шварц кивнул, соглашаясь – и то, на кой обер-полицмейстеру законопослушные жители Москвы. Хотя законопослушные – до поры.
– Врать не хочу и на невинных людей наговаривать, а сдается, что в этом деле и староверы у нас объявятся. Тоже – издавна обиженные и могут поддержать того, кто им посулит Москву. Им ведь тут жить не велено, а селятся на окраинах чуть ли не тайком. А они люди работящие, коли промышляют торговлей – так имеют барыши, им вся Москва нужна. К тому же, в тех краях, где подвизается самозванец, полно казаков-раскольников. Может статься, у тех с нашими связь налажена, на манер почты.
– Пятый кус поросенка?
– Пока станет с нас, сударь, и четырех. Этими дал бы Господь не подавиться…