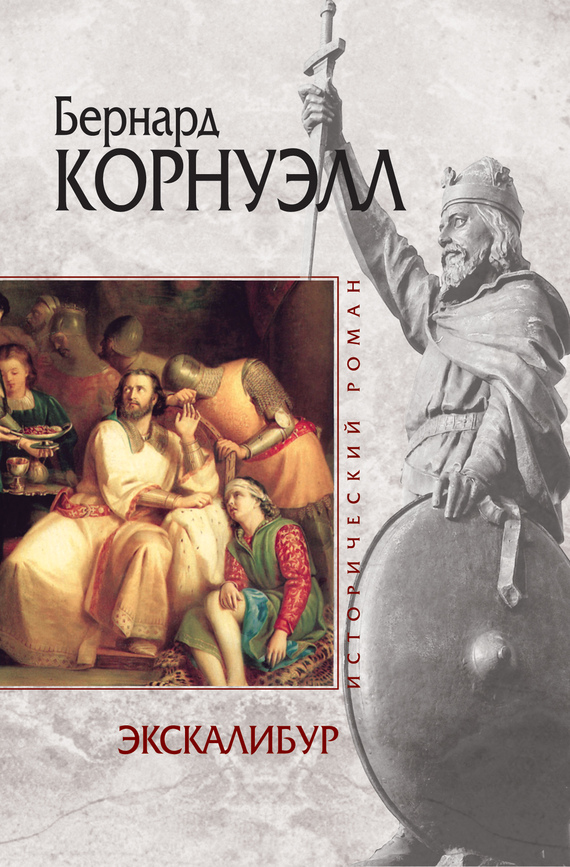Стулик Парисов Роман

– Какое Фиса, она так мелко не плавала. Это я всё по рынкам бегал, по крупицам собирал уют… Ну, с нашей, наконец-то, встречей!
Она выпивает маленькими глотками, но залпом, почти по-мужски. Уф-уф-уф… Быстрей кока-колу, Ромик, сейчас внутренности все разъест… Кока-кола, оказывается, наш культовый напиток, можем выпить литр за день, – именно коку, не пепси… М-да-а. Ну ладно.
– Что-й-то тут тко-ое интере-есненькое.
Света с любопытством разглядывает застеклённый в смешную разноцветную рамку фотоколлаж у неё над головой: сердце – воздушный шарик с насосом (комментарий: «сердце моё переполняют чувства»), сердце – подушечка для иголок (комментарий: «не рань моё сердце колкостями»), сердце – розовая губка (комментарий: «чувства мои к тебе чисты»)… ещё несколько сердец.
– Это тоже не Фиса. Это я придумал на наш с ней последний её день рождения, такой вот артефакт наивного искусства, не возымевший должного действия… Кстати, день рожденья у неё через неделю, а мы с тобой как р-раз будем в доме отдыха! – И я потёр почему-то руки.
Она затянулась сигаретой, напустив на глазки выжидательную пелену:
– Бедный, бедный Роман. Ты её ещё любишь?
– Н-ну да. Как любят призраков давно умерших.
– Нет. Я вижу, что любишь… А если бы я была мужчиной, я бы, вообще-то, тоже в неё влюбилась! Я вообще боялась с тобой встречаться, думала – вас ещё что-то связывает.
– Связывают воспоминания. Объединяет – ничего. Нас с тобой больше объединяет, да, что же нас объединяет? – чувство света, чувство цвета, чувство такта, чувство слова, вера в любовь, английский, испанский опять же… – я вышучиваюсь, а у самого под темечком одна лишь мысль всё бьётся настороженно – вот тебе и Светик, милый сорванец, неужто она искренна сейчас?..
Беседа наша наливается особым – благостным и целеустремлённым теплом по мере того, как зажигаются внутри лампочки и пустеет бутылка… Беседа наша прозревает помаленьку тем гулким, осязаемым, давно известным, но всегда искомым и вдруг обретённым радостным смыслом, который щедро нисходит на нас лишь с непроизвольным расширением сознания. Как хорошо сидеть-то с ней, вот ведь интересная девчушка, думаю я и ещё думаю: никогда мы с ней вместе не выпивали вот так, всё-то я на машине. Мы говорим о верности в любви, о женской непредсказуемости, о Вагнере, о кока-коле и о целлюлите, о неизбывной красоте испанских условных периодов, о «Чёрном квадрате» Малевича и его отношении к Миро, [12] о холокосте, о непрерывной шампанизации и о мастях лошадок. (Бутылка-то у меня – литровая!) Задумчивым коромыслом стоит дым на кухне, уже открыто смотрит на меня снизу треугольник её трусиков, и темень тревожно заглядывает в окно: дурачок, пора, скоро передержишь её, ведь она – пришла – тебе – отда-а-а-а-а-а-а-а-аться!..
…да знаю я. Господи, а может быть, не надо? Вон глазки какие у неё сейчас хорошие светятся во тьме, немножко поехали, конечно, но душевные, о чём-то думают себе. Как же я её такую буду это. Она и маленькая ещё, господи! Может, подрастёт если?..
Не услышав ниоткуда ответа, я не очень уверенно встаю, чтобы зажечь свечи.
– Ой, как я люблю свечи! – оживилась она. – Всё равно какие, разные, лишь бы горели. Мне казалось в детстве, в них есть что-то такое… какая-то душа.
– Э-э, так ты не Светик, ты – Свечик!
Она вдруг ложится щекой на стол, гипнотизирует свечу. А глазки горят по-колдовски.
– Ну не-е-ет. Вообще-то я – Сту-у-улик … – отвечает Света, подумав немного, загадочно растягивая слова.
– Кто-о?
– Ну Стулик, Стулик. Сту-лик. Это Маринка ещё придумала, у меня потому что фамилия… прикольная – короче, мой прадед стулья делал.
…и какие стулья делал, дубовые, еловые, кондовые, узор-чаты-е, для основательных, поди, задниц…
– Тогда, значит, хотя бы как-нибудь «стульчик» должно быть, по правилам словообразования. А то что-то прочности не хватает… совсем уж маленький, э-э-э… ненадёжный, хлипкий предметец получается для родового назначения… – говорю я этак затуманенно, но тут же хлопаю по лбу себя: – Да как же я не сообразил, ещё Фиса какого-то всё Стульчика припоминала в связи с Мариной… А мне ещё тогда знамение сделалось, как дежа-вю какое или скорее… воспоминание о будущем, мгновенное затмение мозгов!
– Фиса твоя всё путает. Я – Стулик ! – произносит Света многозначительно и, в доказательство как бы, подносит свечку к низу лица, навевая жути. – Я могу быть разной – такой – (лицо овечки) и такой – («Ну, чего надо?!») … – Стулик, Стулик, Стулик!.. Стулик, Стулик, Стулик!.. – заклинает Светин негатив с насупленными бровками.
Да-да, с насупленно негативными бровками.
И!
Что-то просветляется в голове, да, здесь, сейчас, на прокуренной тёмной кухне. Что-то будто вот-вот вылупится из Светика, проявится, подчеркнётся светотенью… То есть, что обнажается суть явлений или там причинно-следственная связь событий – оно сказать высокопарно и по меньшей мере преждевременно. Но я прозреваю, я вспоминаю, я уже знаю откуда-то это словечко – в нём, или за ним, всё естество Светиково проглядывает, вся эта маленькая вселенная коренится. Вот она, Стулик, сказочная фея гремлинов, в строгой вуальке отрешённости! Губы чуть поджаты, глазища как бы в тумане – а сами колдовской происк затаили. (И в голове что-то своё варится, непростое, для кого и ядовитое, на женьшеневых кореньях настоянное, и вроде как пересоленное.)
И говорят глазища:
– Я Стулик здрасьте я уже секс-объект я прекрасно знаю чего вы все хотите иногда попользуюсь а как же когда надо тинейджер типа пацанка школьница а когда лолита ну а вообще-то веду себя положительно меня все любят Стулик я…
– …Стулик, Стулик, Сту-у-у-улик!.. – и Света вся уже другая, губки вытянуты, полураскрыты беззащитно, а глазки вылупленные неясно устремлены в пространство, как будто жалуются: «У-у-у… нас так легко обидеть, обмануть…»
Такой вот перевёртыш. А что делать – надо любить.
Стулик – центр вселенной, нераскрытая матрица бытия!
Что было дальше? Были её игривые заманивающие губы, бретелька, медленно съезжающая по загорелым хрупким плечам, выбеленный холмик груди с острой вершинкой, вздымающийся и тонущий в моих укусах…
(– Ма-аленькая, – извиняясь за свою грудку, шепчет она, притихшая, покорная, еле дышащая – ну что ты, самая лучшая, глупая!)
…мокрая полоска на атласных трусиках. Платье, падающее на ковёр, те нежные, сладкие, молочные косточки таза, вот они, голые, голые, влажные от поцелуев…
И вот!
Вся она – голенькая хрупкая тугая шёлковая дрожащая – перецелованными ножками, немного нескладно повисшими в воздухе – красным лицом в детской полуплачащей гримаске – и таким женским желанным бесконечным стоном – раскрылась обезумевшему мне.
И с каждым толчком задвигая всё дальше и дальше этот улетающий стон, она вдруг дёрнулась, замерла, размякла и тихо прошептала:
– Рома, ты хочешь, что…бы я у…мерла-а?
Я застыл:
– Тебе плохо?!!
И очнувшись как бы, но не раскрывая глаз, она вдруг улыбнулась из-под меня, совсем по-детски. Маленькая слезинка катилась по щеке.
– Мне очень хорошо. Поделай так ещё немножко.
Ну, Стулик, погоди! (Так пугать дядю.) Слизав слезу с гримаски, я уже размашисто, уверенно, мощно, сознательно делаю ей приятно, приятно, пот капает на её губы, я смотрю ей прямо в затуманенное личико…
– Рома! Я, наверно … люблю тебя!!
Ой.
Затыкаю ей ротик. Маленькая, сумасшедшая, не говори об этом!…
Блаженство через край, давно не испытываемое счастье, но не давать им волю, а приласкать родную вспотевшую девочку, пожалеть, растереть моих дышащих ещё гениев по плоскому вздрагивающему животу.
– Понимаешь, – говорит она задумчиво, – я первый раз делаю это просто так … Там, не за бук, не за какой-то интерес, а просто, потому что хочется с тобой быть.
Запыхавшийся, расслабленный, я стараюсь говорить как можно мягче:
– Вот видишь, девочка, не с того как-то конца ты начала, сама уже понимаешь?..
Света активно трясёт головкой.
– Я – твоя девочка!
Вдруг рывком поднимается, закрывает лицо руками… соскакивает с постели, бежит в туалет, шум воды, утробные звуки… Ну вот, такой вечер – и не уследил! (Перепила, недоела икры, закружилась голова?..) Подумалось иронично, но тут же самокритично отмелось: «Второй раз в этой квартире – и в объятьях с унитазом».
Тактично заглянув в ванную, обнаруживаю Светика задумчиво дрожащей в раковине, в обнимку с коленками, как Алёнушка на картине у Васнецова. Надутые губы играются с водичкой, льющейся из поднесённого вплотную душа, а глаза мутно и жалобно смотрят на меня. Бедный затраханный ребёнок.
Просыпается отеческая нежность. Я отнимаю у неё игрушку, я поднимаю за руки её невесомое тельце, я заключаю её, благодарную, тянущуюся мне навстречу, в огромное тёплое полотенце, заботливо перетираю все косточки…
– Я – твоя девочка! – повторяет она уверенно, откинув головку, обвив меня ногой, любуясь своим отражением в зеркале.
9
– Ну, здесь бы в самую пору и остановиться, – заявит какой здоровый циник. (Быть может, это будет и Перец, который в разгар таких перипетий затаился что-то и, как нарочно, давно уже не беспокоит.)
– …в смысле, если и правда так было тебе зашибись с этой деточкой, как там написано, – аж дух спёрло, – почему бы ещё пару раз и не посовокуплять её, конечно. (И что там, в этом цуцике – если лет двадцати бы ещё, ну, там – грудь, жопа – понятно было.) Развейся, Рома, чего ты. Пока не надоест, пока не достанет её твой диван, пока всё само не кончится. А кончится ой как скоро – у оторвы-то этой малолетней, по всему видно, семь пятниц на неделе.
Ну, как сказал, так и получил бы. (Я драться не умею, убью скорее.) Терпеть не могу кобелиного зубоскальства. Я вижу где-то уже на подступах её душу, вон она, ещё светлая, родничковая, отчаянно тянется ко мне сквозь плотный частокол репейника!.. И я весь ринулся навстречу, я готов все руки ободрать в этих сорных колючках, только бы вынести её нетронутой и отогреть где-нибудь за пазухой.
Кто поинтеллигентней да почувствительней, зашёл бы с тыла:
– Ну, предположим, вынесли, отогрели. А дальше, дальше-то что вы планируете делать с пятнадцатилетней душонкой?
Любить, воспитывать, заботиться, беречь! Любоваться созданием рук своих!
– М-да-а. Такой синдром Пигмалиона. А у неё вы спросили, надо ей это?
Как только скажет, что не надо, готов отступиться. А пока она просится ко мне в девочки, хочет уже от меня… фотографии.
– Нет, я вас вполне понимаю. И дело, вижу, не только в её… если можно так выразиться, нимфетстве. В сочетании с этим важнейшим для вас обстоятельством могут прельщать и проблески интеллекта, и фонтанчики души, и очаровательные лучики непосредственности. Но поймите, даже если эффекты её ощутимой испорченности не проявятся в ближайшее же время – в чём позвольте мне искренне усомниться… – она же совсем ещё ребёнок, а вы это как-то сбрасываете со счетов, уже и раскрылись нараспашку, готовы ей верить, раздаёте авансы, внутренне уже идёте на поводу… Ну, ведь идёте же?
– …
– Ага, верить хочется, самообманываться приятно. Вы для неё – папа, как ни крути. Набокова-то читали, «Лолиту»?
Читал когда-то. Извините, с Лолитой сходство разве что родовое. В интеллекте дистанции огромного размера. Да и вообще – двенадцать лет и пятнадцать…
– Вот-вот. А дальше будет – восемнадцать, двадцать пять… Улавливаете? Весьма быстрый возраст. Не успели вы глазом моргнуть – она призналась вам в любви. Не буду вас сильно разочаровывать, посмотрите сами… если захотите. Кстати, у того же Набокова есть ещё вещица по тематике – «Камера обскура». Почитайте на досуге. Но мой бы вам совет – спустить на тормозах…
– Алё, Светик!! Ну наконец-то, где ты там целый день пропадаешь, мобильный отключен, соскучился, как ты, что сама не позвонишь! – Я выпаливаю целую обойму эмоций, как прорванный шлюз.
Я подъезжаю к спортзалу после трудового дня. Очень к концу уже нервного из-за полного и совершенно непонятного отсутствия Светы в моей жизни.
Её заторможенный и какой-то уже непривычно нейтральный голос сообщает, что всё-де нормально, просто батарейка…
– Обрадовать тебя?! Я – сегодня – купил – путёвки!! В один из лучших – «Гелиопарк» называется. Ну, что молчишь? Скажи «ура».
– Ура. – И скороговоркой мне сообщает, что она находится у бабушки, что папа с мамой её делегировали к бабушке, что у неё есть бабушка, она сто лет не видела человека, то есть бабушку. «Бабушку, бабушку», – вторит еле-еле слышным насмешливым эхом мужской голос. (Или глюки?)
Ну бред. Какая – к чёрту – бабушка. Ведь я её чувствую уже, никакими бабушкиными коврижками лишний раз не заманить Свету по семейным делам. Тем более влюблённую!
И накрывает меня всего тут же, ещё такого возбуждённого и радостного, глухое покрывало обиды, недоверия, ревности, не даёт мне смотреть адекватно на закатные пожары в окнах напротив, прибавляет веса гантелям, большим и маленьким.
Не позвоню ей больше. Никогда.
После спортзала решительно еду в центр, гарцую по Манежной, фланирую по Арбату одинокой романтической горой, возбуждаю интерес у вечереющих витрин и гуляющих бабёнок, настигаю декольтированную куропатку в голубом цветастом платье, вонзаю свои вилы ей меж дышащих лопаток, разворачиваю передом, что-то выплёскиваю в коровьи глаза, но уже вижу, что обознался… что какая тёлка мне заменит моего цыплёнка?!…
О, мятущиеся агонии обезглавленного петуха!
Это так-то я расправляюсь со своей воздушной, хрупкой, со своей несбыточной любовью?!
Время к двенадцати, звонок в кармане, чую – «Sveta little», сердце ёк: Рома, я освободилась, а не хочешь ли ты, если можешь, конечно, я бы с удовольствием вышла с тобой на полчасика… И голосок такой свой-свой…
Ф-фух. Ну коза-а. Переведя дыхание, готовый забыть о тяжких часах безвременья, приняв серьёзный, немного небрежный мужской тон, я говорю, что уже почти дома, что у меня были дела, и вообще, что там за бабушка, у которой сидишь до двенадцати… Я вдохновляюсь:
– Светик. Слышишь, мне всё равно, где ты и с кем, если ты что-то делаешь, значит, тебе это нужно. Я никто, чтобы допытываться, и не имею на тебя никаких прав, я хочу быть тебе в первую очередь дру-гом и прошу лишь об одном: не ври – мне – никогда!!
Светик комментирует мою тираду неоднократно повторённым «у-гу», переходящим игриво в подобие «хум-хум».
– Андестэнд?!
– Хум-хум-хум-хум… хум-хум-хум…
– Что такое – хум-хум?!!
– Это лошадки так, когда кивают…
Нет, в самом деле: как всё-таки дела у тебя, читатель? Не устал ещё от описаний милых шалостей нашей лолиты и чувственных излияний наивного и, наверно, всё-таки немного больного дяди? Должен тебя уверить, что это только начало. И разочаровать, если ты приготовился к детективному развороту событий, – его не будет. Ничего не поделаешь – если уж влез в историю, если не совсем уже тебе безразличны наши герои, остаётся сконцентрироваться на, скажем так, статической стороне развития сюжета, – ведь именно в их свиданиях завязывается, зреет и озарённо вылупляется то, что мы рискнули бы назвать и смыслом, и солью, и квинтэссенцией бытия.
Давайте представим себе роскошную, мягкую, долгожданную среду (ибо наше бабушкино недоразумение пришлось на вторник). Эклипс сияет после вчерашней ночной мойки. Направляется он теперь в Нескучный сад…
Так как настала его очередь в недавно разработанном списке мест для выгула Светика. О том, чтобы поехать ко мне, я и не заикнулся – девчонка может подумать, что я её использую. (Видит бог, насколько это не так!) По-джентльменски соблюдаем квоту – ведь girls just want to have fun?.. [13] И ничего вроде бы не поменялось в наших взглядах и словах после памятного соития…
Воспоминанием о нём исполнен окружающий нас воздух.
Светик уткнулась в очередную чайную розу и время от времени застенчиво улыбается мне «снизу вверх». (Почему застенчиво, почему «снизу вверх»? Наверно, есть почему, оставим это великодушно на суд истории, тем более что она, смешно морща лоб, то и дело поправляет волосики, хочет мне понравиться.)
Фрагменты диалога (без купюр):
ОНА (мечтательно). …Ромик, а ты сегодня часов в десять утра не проезжал мимо моего до-о-ома?
Я. Сегодня в десять часов утра я ещё спал. Что ж ты, позвонила бы сразу.
ОНА (жалобно). Я подумала, зачем тебя отвлекать, ты такой занятой…
Я. О, да… Мне мама скоро кота отдаст.
ОНА. Ой, у тебя будет котик! Я вообще-то котов не люблю, но твоего полюблю. А у меня дома две белки, чао-чао, хорёк, шиншилла! Ну а какой, какой он?
Я. Рыжий, толстый. Кастрат. Мама как узнала, что тебе пятнадцать, за голову схватилась. Говорит – тебе жена нужна, дети.
ОНА. Ну… я же не мешаю тебе… искать жену.
Я (в сторону). Господи, что она говорит, вразуми её, ущипни её за сердце – мною!! (Вслух.) Мешаешь. Я не жены хочу, а любви. (Пауза.) Я не хочу встречаться просто так, потому что сейчас хорошо… Я не хочу думать о том, есть у тебя кто-то ещё или нет. (Пауза.) Светик. Ты способна на серьёзные отношения?
ОНА (широко открыв глаза). Ты правда хочешь? Со мной?
Я. С тобой.
ОНА (затаившись, прикрыв глаза). Только учти – я очень ревнивая!
Я. Очень хорошо. Люблю, когда меня ревнуют. Но боюсь, что будет не очень много поводов. (Ставлю кассету.)
Звучит красивейшая минорная румба, быстрая, несущаяся, вся в гитарных срывах и водоворотах.
ОНА. Даже я понимаю. Амор. Ла роса. (Вдыхает свою розу.)
Я. Ну, самое главное ухватила… (Перевожу по ходу.) Сорвал я самую нежную розу, – я думал, что любовью не поранюсь. Но укололся, и очень больно: ведь роза есть роза… И уронил её, а рану мою лечит теперь пушистая мимоза. Но жжёт она всё больше, и я понял: любовь – начало слова «боль», или «горечь». Ну, слышишь, да? – «amar» – начало слова «amargura» … Игра слов – совпадает просто, хотя корни эти по-испански совершенно разные. Как тебе параллель?
ОНА. Очень здорово, но это не так. (Интенсивно вертит головой.)
Я. Что – не так?
ОНА. Любовь – не боль, неправда, неправда. Это у тех, кто не умеет любить!
Я (в сторону). О, мать-земля! Когда б таких детей ты иногда не посылала миру…
Пройдясь немножко по Нескучному саду, Светику, как говорится, стало скучно. (Да простит меня А. П. Чехов.) То есть не то чтобы прямо скучно – со мной, как повторяет она всё время, не скучно ей никогда – просто захотелось уже приземлиться.
Кстати, а неужели правда нескучно? То есть не то чтобы прямо – поймите верно, ещё мне комплексовать по поводу своей интересности!.. Просто порой и не знаешь, какой обоюдной темой угодить этому не вполне понятному ещё объекту. Пока провисаний не было в наших беседах, ну а вдруг?.. Вот и приходится на всякий случай припасать заготовки!
Уютный, вишнёвый, позапрошловековый, чуть не библиотечный полумрак ресторана «Парижская жизнь» оживляется ненавязчивыми виртуозными аккордами тапёра. Уже почти приручённый Светик довольно ласково смотрит на меня через только что зажжённую официантом свечу. У Светика привычка: заказать пачку «Парламент-лайтс» – и, пока сидим, почти всю выкурить. Нет, кушать я не буду, ты же знаешь, мне «Джек Дэниэлс». Выгодная моя девочка.
На столе появляется заготовка – газетная вырезка о Наоми Кэмпбелл. Статья живая, ироничная. С выражением я читаю выдержки. В них всё пленяет ясностью относительно путей на Олимп. Света вдруг вспоминает: подошёл к ней сегодня смазливый мальчик, ну как – лет тридцать пять, первым делом – несколько фото, улыбается, говорит, снимаем сериал, а вы уже – почти главная героиня…
– Я ему звонить не буду, Ромик. Эх, хорошо было с Воротулиным, везде меня возил просто так… Я у него была единственная платоническая модель . – ( У неё звонит телефончик .) – Алё… Ага-а-а! Ну здр-р-равствуй, ст-тарая перечница! Что ты мне хочешь сказать, карга красноносая, тушканчик китайский? – ( Закрывая трубку, скороговоркой. ) – Извини, Ромик, это моя лучшая подружка, Алевтина, – вот такая девчонка!.. С кем, с Ромой – помнишь, я тебе говорила!.. Хи-хи… Он? Испанскому меня учит!..
…а я улыбался, я слушал, я вслушивался в этот грассирующий трёп, я проникал в выражения её лица, за её улыбки, в перепевы подружечьей общности, я любовался ею, узкоплечей и перламутровой, с невесомой изящностью сыпящей новоиспечёнными оборотцами, и глаза у меня были при этом, наверно, ясные и печальные…
Потом я пил чай, она – виски-колу. Она всерьёз и взахлёб рассказывала мне что-то из жизни животных. Всё время, каждые несколько минут, звонил Виталик, тренер по конному спорту, и почему-то опять доканывал её консультациями по личным вопросам.
– Ты мне уже близкий человек стал, – объясняла она, – и я могу сказать. У нас с Виталькой на первом же занятии установился полный контакт, я с полуслова чувствовала, что он от меня хочет, ну, в плане езды. А жена его жутко приревновала, ну, я тебе рассказывала. Тогда – слушай, что дальше! – Виталька плюнул, посадил меня в машину и увёз на Истру, там у него своя база. Там он и вправду признался мне – ну, в плане любви. Наговорил кучу вещей, сказал, что будет разводиться, потому что видит во мне свою… ну, как бы звезду, и хочет меня сделать чемпионкой. Я ему поклялась, что ни к кому-ни к кому больше никогда ни под каким предлогом заниматься не пойду. Ну, мы покатались, сидим – пьём чай, и тут врывается Лена! Ты представляешь себе, что началось!.. Ну вот, я и думаю: вроде дала человеку слово – а из-за меня, получается, семья рушится, тоже жалко…
– С ума ты сошла, Света, – говорю строго, – быстрее объяснись с ним и иди к другому тренеру.
– Я же дала слово! – Светик укоризненно насупилась. – А меня теперь никто уже и не возьмёт, все в Москве знают, что я – его… Ой, а ты завтра что делаешь? Если хочешь посмотреть, как я занимаюсь…
Хочу ли я!!
– Но ты же будешь с твоим Виталием…
– Нет. Я буду с моим Ромой !
Никогда не забуду, как вышла она из туалета. Забегала томящимися, ищущими глазами по чужим, в упор рассматривающим её мужчинам (там всегда почему-то очередь), пока не сфокусировала меня, с уверенной улыбкой поджидающего её в сторонке. Тогда глаза её расширились, зажглись неким светлым смыслом и мгновенно доплыли ко мне, минуя препятствия в виде безликих мужских силуэтов.
Мой Рома.
…но что опять за жалобный, просящий взгляд, проникновенные губные шевеленья на подъезде к дому?..
– Светик! – треплю её за ушко. – Необычная ты какая-то сегодня, будто сказать мне что-то хочешь, да не можешь.
Она вздыхает, набирает воздуха для заявления.
– Ну просто… я же к тебе привязываюсь!
– Если б ты одна привязывалась… а то ведь это взаимно. – (Я торжествую, я сдерживаюсь…) – Жаль только, не могу пока пригласить тебя с ходу на какие-нибудь острова, – доверительно вдруг выплёскиваю перед ней наболевшую тему.
– А мне этого не нужно, Ром. Мне – вот… – И она опять щекотнула нос розой. – Ой, уже домой. Уже ча-ас?!! У-у-у-у… А можно посидеть с тобой ещё немножко?…
Лай-лай-ла, ла-ла ла-ла-ла-ла…
I just can’t get you out of my head,
For your love is all I think about…
E-e-e-every night, e-e-e-every day,
Just to be there in your arms…
А потом ещё:
Set m-е-e free-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e…
Этот модный, этот кокетливый, беззаботный, пустенький мотивчик из Светиного диска Кайли Миноуг, будь он неладен, вяжется за мною всё утро. Он лип к моим снам, а теперь нагло звенит даже в телефонной трубке! Он, ритмично переваливаясь с ножки на ножку, прёт из моей счастливой невыспавшейся башки, он похохатывает над моими Пал Палычами: вы хочете клипсов? – их есть у меня!.. лай-лай-ла! Но какие же вы все приземлённые личности, у вас на уме – клипсы, а у меня в голове – ТЫ, лай-лай-ла, единственное, о чём вообще можно думать всерьёз, лай-лай-ла, и тебя оттуда не выкурить, а я и не собираюсь.
В пять я должен быть на проспекте Мира. Комкаю все прозвоны. Сегодня я увижу моё чудо на лошади! Я буду безмолвно представлен какому-то там тренеру, имеющему на принцессу неясные виды, весомым свидетельством её занятости . Важная, ключевая, весьма приятная роль. Ласково щекочет за самолюбивые струнки. Скрипя и чертыхаясь, я впихиваю массивные плечи и грудь в тесную кожаную майку «Армани». (Внутри майки сладко пахнет предвкушением.)
Фуф. Былинный ландскнехт, да и только.
Я, конечно, опаздываю, матерю безрадостные летние пробки. Знойные колыхания мёртвого воздуха. С трижды оборванным сердцем вспариваю я над техногенным пейзажем, не имеющим отношения к Светику.
Эклипс, где твои крылья!
Несколько раз она уже позвонила на мобильный, ну где там я. И ведь ни тени раздражения, тактичная девчушка. (Время, деньги, тренер!)
Вот она, посерьёзневшая перед мероприятием, в белой майке и чёрных наездничьих рейтузах, с огромной сумкой и с мамой. Мама, мама, везде мама. (Ассистент, секретарь, денщик?) Что ж ты, Светлаш, отрываешь Романа от работы. – Да бог с вами, Анна, большая честь сопроводить вашу дочь. Светик, пррьвэ-э-эт, давно не виделись!
Теперь наш флагман – Кайли Миноуг. «Ай джяст кянт… гетчья арамай хэд!..» – американизируя, подпевает Светик, влюблённо развёрнутая ко мне. Оказывается, на этом диске она знает почти все песни. (Это со школьным-то, пусть и продвинутым, английским! – даже я половину не разбираю.) Я комментирую маме: удивительная лёгкость и цепкость восприятия чужого языка ещё раз свидетельствуют о ясности головки, равно как и о лабильности душевной организации… Светик скромно морщится, пальму первенства передавая мне: ладно, давай твою… Ла Роса-а-а-а!
А я вдруг выключаю магнитолу и, прокашлявшись, заявляю:
– Посвящается маме Анне.
Прямо посреди очередной пробки разливается моим забытым баритоном откуда-то из светлой студенческой дали удачно всплывшая мелодия из «Генералов песчаных карьеров» (о, внезапный финт!), тут же отозвавшаяся пониманием в ностальгически размякших мамаанниных глазах…
Minha jangada vai sair pr’o mar,
Vou trabalhar, meu bem querer…
Такой музыкальный кортеж.
На Полежаевской ждёт нас Виталий. Ждёт основательно, уже подзарывшись в газету. Довольно приятный молодой человек несолидной повадки с жидкими подобострастными глазами.
Я сердечно жму ему руку.
«Никакой», – отмечаю я про себя.
Я кое-как усаживаю его сзади, с Анной. За текущими репликами «по делу», которыми они обмениваются с серьёзной, уже настроенной на работу Светой, чувствую затылком немой вопрос.
«Ты кто такой?»
Я умиротворяюсь. Я – здешний серый кардинал, дон Винченцо.
Мы на месте (восемь часов, однако!). В полузаброшенном парке – топот копыт, огороженный загон, весь в кустарнике, навозные интонации в воздухе, несколько разномастных лошадок под такими же седоками, профессиональные выкрики инструкторов…
– Ира, пусти, что ты её раскурлачила!..
Свой мир.
Я с мамой Анной на развалившейся трибуне. С минуту на минуту ожидается появление царственной особы. Из сумки извлекается и настраивается видеокамера. (What a nice surprise!)
Вот оно, её личико, дрожит на сильном приближении у меня в откидном экране… Большой чёрный шлем наехал на брови, съедая свет, уменьшая черты. Пипка носа, бантик губ, фантики глаз… Ну лет двенадцать, не больше! Говорит что-то, по-деловому насупившись, Виталию, – картинка расширяется! – выводящему за поводья её поджарого гнедого (или каурого, пёс их разберёт).
…ба-а, какие у нас ботфорты! Ну уланёнок, сын полка!
…увидела, что я снимаю, заулыбалась, помахала!
…несколько кругов для разогрева шагом (или как это?), потом рысью, переходящей в галоп, Виталий что-то кричит ей с центра, руками машет, как дрессировщик.
…когда она проплывает рядом с трибуной, я продолжаю снимать, а сам отрываю улыбающееся лицо, ловлю её взгляд.
…вот что-то мне крикнула, а я не расслышал.
…посмотрит или не посмотрит?
…какой молодец, за один круг догадался смотаться за бутылкой воды в палатку, и она, уже запаренная, наклоняется ко мне, запыхавшись, щебечет на ходу что-то благодарное.
…вот она опять близко, надо что-то ей сказать – что?..
– Светик, улыбнись! – (Моментальный бросок Виталиной головы в мою сторону, всё соображает, кто же я, ха-ха!)
Перерыв? – она спешивается, идёт к нам, смешно переваливаясь с ноги на ногу в негнущихся высоких сапогах. Мама суетливо достаёт полотенце.
– Лошадь туп-пая. Я её в галоп, а она не слушается!
Подходит Виталий: сейчас будет другая лошадь.
Все вокруг Светика. (Взмыленный, устало улыбающийся цветочек.)
Привели какую-то белую, красивую. Света сразу чувствует с ней родство и разговаривает. Потом с горящими глазами ускакивает.
Кругом ходят, бегают, прыгают лошади, непонятные самостийные четвероногие.
Я (задумчиво). Какая Света молодец, что выбрала конный спорт… конный спорт – это большое дело. (В сторону.) Боже, что я говорю!
МАМА АННА. А она и не выбирала, Роман. Светлашка с детства, как говорится… интересуется. Ну там, масти, термины, литература постоянно. Мам, говорит, сплю и вижу, как я на лошади… Так что только села – сразу поехала. А тренер вообще её как на улице увидел – ну всё, говорит, будешь чемпионкой. Но вот с женой не повезло – ревнует его бешено. Ну понятно, молодой мужчина…
Я (задумчиво). Да-а, в вашу дочь недолго влюбиться… (В сторону.) Боже, что я говорю!
МАМА АННА (пауза пауза пауза). Ой, к ней столько на улице подходит молодых людей, даже мы вместе идём когда – «а можно с вашей дочерью познакомиться?»… Ну, гоняю их, конечно. А что толку? Я уж говорю ей: «Светлаш, у тебя столько проблем, ну зачем тебе эти новые знакомства!» А она: «Мам, я же не виновата, что я – нравлюсь!» Вон, недавно как пристали к ней в вашем платье… Я сижу, это платье подшиваю, а она: укороти, мам, ещё сантиметров на пять… Я: куда там укорачивать, – нет, укороти, Роме нравятся мои ноги! Пришлось подрезать.
Я (задумчиво). Уже взрослая, хитрая такая маленькая женщина… а ведь ещё совсем ребёнок! (В сторону.) Боже, что я говорю!
МАМА АННА. Вот и я тоже не хочу, чтобы она быстро взрослела.
Я (задумчиво). А выражение лица у неё такое бывает, знаете? – ну, тяжеловесное совсем, вся в себя вдруг уйдёт, насупится, посуровеет… Что, что выражение это значит?!! (В сторону.) Боже, что я говорю!
МАМА АННА (улыбается непонимающе; подумав, пожимая плечами). Ни-че-го.
III. ЗЕНИТ
10
«…если бы это имело какой-то смысл, я бы сказал, что ещё люблю тебя. Но пусть это тебя больше не тревожит. Так что с днём тебя рожденья, и – желаю счастья…»
…да какого чёрта. Кто она, чтоб я репетировал для неё речь перед зеркалом! Много вызывающей патетики. Проще и нейтральней, чтоб ни за что не зацепиться.
Таков ход моих мыслей, когда я наконец решительно снимаю трубку и набираю твёрдым пальцем некий мобильный номер.
Долгие, долгие гудки. Трижды оборвавшимся сердцем ощущаю, как на том ненавистном, на том родном конце происходит осмысление высветившихся определителем цифр.
Голос Фисы узнаваем по тембру. Голос Фисы механичен, замедлен и неэмоционален, как у тёти из автоответчика. Он окружён дымкой присутственного места. Он порочен.
– …пусть тебя это не тревожит. Желаю, чтобы кто-то из твоего теперешнего круга полюбил тебя так же искренне, верно и бескорыстно, как любил тебя я.
Пауза. Что-то вроде «и тебе того же». Гудки.
Пустота. Я слушаю свою пустоту.
– …сам скушай табл, ей дашь пока половинку. Много не пейте, можно шампанского бокальчик. Через полчаса торкнет, потом часика два помажет – и танцевать, – инструктирует меня Дима, перекладывая в мою ладонь две малиновые таблетки, скрученные прозрачным фантиком.