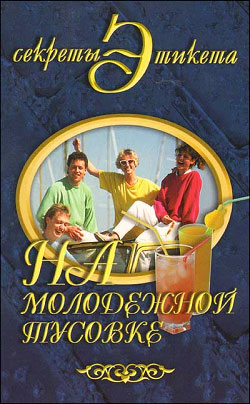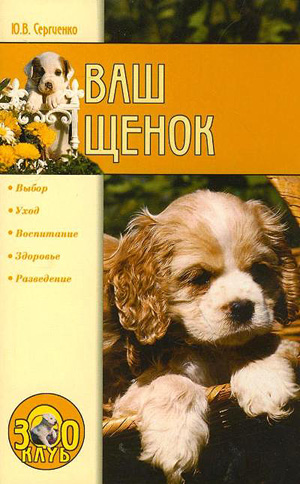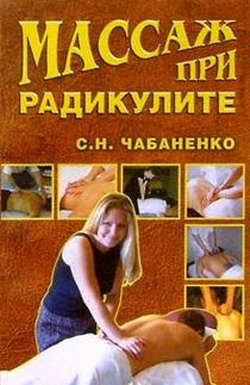Планета призраков Бушков Александр
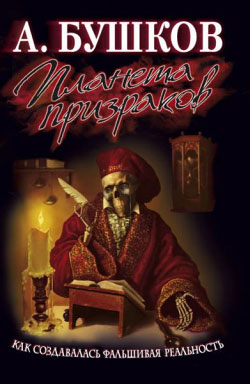
Гюго так и не унялся до конца жизни, то и дело будоража «общественное мнение» очередными сверхценными идеями, всегда отличавшимися совершеннейшим отсутствием логики. То, что у проигравшей войну Франции пруссаки отобрали Эльзас и Лотарингию (между прочим, исконные немецкие земли), Гюго считал величайшей несправедливостью – «нацию нельзя расчленять». А вот объединение всех немцев в единую Германию, наоборот – преступлением против человечества.
Угодно цитату? «Расчлененная Франция – несчастье для человечества. Франция принадлежит не Франции, она принадлежит всему миру; для того чтобы человечество могло нормально развиваться, необходима целостность Франции; провинция, отнятая у Франции – это сила, отнятая у прогресса, это часть тела, отнятая у человечества; вот почему Франция не может ничего отдать. Увечить ее – значит увеличить цивилизацию».
Зато добровольное объединение немцев в единую Германию, по Гюго, это – «бесчестие» и победа сил тьмы. Положительно в список классических психических болезней так и подмывает добавить еще одну, под названием «французский образ мышления»…
Гюго в конце концов продавил-таки амнистию для всех участников Парижской Коммуны – и заляпанные кровью по уши убийцы, отсидев всего ничего, вернулись во Францию, где отныне считались полноправными гражданами. Как себя чувствовали родные и близкие их жертв, легко догадаться – но их мнение не принималось в расчет. Революция, учил Гюго – «благословенная и величественная катастрофа, которая завершает прошлое и открывает будущее». А следовательно, революционер, что бы он ни творил – человек святой и уголовному преследованию подлежать не должен…
Точно так же престарелый классик нападал на российские власти, которые в силу своего мракобесия и реакционности не отпустили восвояси убийц императора Александра II, а отправили их кого на каторгу, кого на виселицу… Кстати, через несколько лет после смерти Гюго итальянский анархист Казерио убил кинжалом французского президента Карно – и анархиста отчего-то не отпустили с миром, а послали на гильотину, как и его французских собратьев, бросавших бомбы направо и налево. Не было в живых господина Гюго, а то бы наверняка по своему обыкновению взялся талдычить о гуманности и «сверкающем излучении» революции. Впрочем, в последние годы жизни он еще успел выплеснуть немало желчи в адрес Турции – за то, что Турция, которой Сербия объявила войну, осмелилась защищаться и, мало того, разбив вторгшиеся на ее территорию сербские войска, перешла в контрнаступление…
Правда, хотя Гюго и умер, но дело его жило. Достойным преемником покойного мэтра по части оригинальных, мягко выразимся, публичных выступлений стал его коллега по перу, Анатоль Франс, тоже немало потрудившийся на благо свободы и демократии, гуманизма и атеизма – так что оторопь берет при вдумчивом знакомстве с его публицистическим наследием…
Виктор Гюго, надо заметить, изрядно разбрасывался, защищая всех и каждого, на кого только падал его отеческий взор: парижских коммунаров, польских мятежников, сербских милитаристов, английских уголовников, русских бомбистов и прочую сволочь. Анатоль Франс был гораздо собраннее, у него имелась одна, но пламенная страсть: разоблачение коварной гидры в лице церковников. Многие годы он сотрясал воздух, уверяя сограждан, что иезуиты, агенты Ватикана, засевшие монархисты и прочие чудовища готовят жуткий переворот, после которого начисто лишат всех гражданских прав тех французов, что не придерживаются католического вероисповедания: протестантов, иудеев, мусульман. А уж атеистов и вовсе будут жарить в кипящем масле.
Доказательства, правда, были скудные и какие-то причудливые. Скажем, месье Франс внезапно в крайнем расстройстве чувств делился с публикой зловещим открытием: оказывается, в иных городах, где стоят гарнизоны, находятся офицеры, которые, вот ужас, ходят в церковь и слушают обедню. Бдительность, французы! Разве непонятно, что это и есть первый звоночек грядущего переворота? Сегодня какой-нибудь ротмистр в церковь пошел, а завтра, чего доброго, поведет свою роту демократию свергать.
Забегая вперед, можно уточнить, что этого самого страшного иезуитского переворота во Франции так и не случилось ни при жизни г-на Франса, ни до нынешней поры – и вряд ли уже он произойдет (сегодня французам не до того, тут бы уследить, чтобы Собор Парижской Богоматери не стал в одночасье мечетью…). Но Франс потрудился немало, пугая общественное мнение черными пророчествами. Общественное мнение, как легко догадаться, его вокальные упражнения принимало на «ура», и вместо того чтобы кликнуть человеку санитаров, восторженно ему внимало…
Горький парадокс в том, что Франс в то же время был одним из главных борцов с теми, кто в знаменитом деле Дрейфуса выступал против придурков, усердно разоблачавших «грядущий жуткий жидомасонский переворот». Поведение, не поддающееся никакой логике: против одного дурацкого мифа о «глобальном заговоре» наш литератор боролся со всем усердием – а другой, столь же дурацкий, старательно раздувал сам…
Обязательно нужно уточнить, что в своих антицерковных упражнениях он, по сути, всего-навсего шел в хвосте официальной государственной политики. После того как завершилась Французская революция с чередой неслыханных зверств, в том числе и против церкви, положение чуточку улучшилось, но не особенно. Наполеон I заключил с Ватиканом так называемый «конкордат», по которому французская церковь подчинялась не римскому папе, а гражданским властям (дошло до того, что еще в конце XIX века епископ не мог покинуть пределы своей епархии без разрешения местной администрации).
В 1880 году французское правительство особым указом распустило многие монашеские объединения и закрыло большинство монастырей. Чуть позже были закрыты все церковные школы, а из программ государственных тщательно вымарали все, что имело отношение к преподаванию Закона Божьего. Школы отныне должны были учить детей на строго атеистических принципах.
К чести нации, нашлось немало французов, выступивших против этаких нововведений. Вандейские крестьяне форменным образом бунтовали против закрытия церковных школ и монастырей, а офицеры, чтобы не участвовать со своими подразделениями в этом позорном предприятии, подавали в отставку. Тут как нельзя более полезным для правительства оказался Анатоль Франс: он объяснял французам – крестьяне бунтуют оттого, что монахи их подпоили, а подавшие в отставку офицеры, конечно же, участники того самого военно-церковно-монархического заговора. Одновременно он в ясных и недвусмысленных выражениях напоминал правительству, что церковь располагает приличным количеством материальных ценностей – церковные здания, семинарии, дома священников, – которые не грех бы и отобрать в целях борьбы с поповщиной и реакцией. Как видим, у большевиков были хорошие учителя и предшественники. Напоминаю, что французскую церковь притесняли и разоряли не комиссары с маузерами, а представители классической буржуазной демократии, так милой сердцу наших демократов – с парламентом, выборами, разделением властей, свободной прессой и прочими прогрессивными причиндалами…
Не угодно цитату? «Отныне русские пролетарии имеют решающее влияние на судьбы своей страны и судьбы мира. Русская революция – это революция всемирная. Она показала всемирному пролетариату его возможности и цели, его силы и его судьбы. Она угрожает всем системам угнетения, всем видам эксплуатации человека человеком… И пусть в полную силу звучит великое новое слово: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь, чтобы подготовить приход новой эры, эры социальной справедливости и всеобщего мира“.
Это не Ленин, не Троцкий и не Сталин. Это слова из речи Анатоля Франса, которую он толкнул на митинге протеста против «кровожадного русского царизма» в декабре 1905 года. Кое-кто у нас до сих пор полагает, что большевизм – исконно российское изобретение и за пределами России им никто не болел…
Но хватит, пожалуй, о французских психопатах. Если бы я не книгу писал, а снимал фильм, на смену кадрам с кликушествующим на трибуне Франсом появились бы красивые пейзажи с мирными зелеными лесами, аккуратными прудами, чистенькими деревушками, очаровательными старинными улочками. А музыка лилась бы тихая, лирическая, умиротворяющая…
Потому что мы переносимся из буйной Франции в Чехию, где все тихо, спокойно и благолепно. Впрочем, никакой Чехии пока что не существует, а есть лишь одна из провинций Австрийской империи – потому что на дворе 1817 год от Рождества Христова. Вот уже двести лет, как Чехия после проигранной битвы оказалась под властью Габсбургов. Никак нельзя сказать, что чехи стенают под гнетом – никакого такого особого угнетения не наблюдается, если не считать того, что люди, вознамерившиеся поступить на государственную службу, обязаны знать немецкий язык, поскольку он государственный.
За эти двести лет чехи себя непримиримыми бунтарями, прямо скажем, не проявили. Жили спокойно и где-то даже уютно… Пока и у них не завелась прогрессивная национальная интеллигенция. Есть старая народная примета: если где-то заведется интеллигенция – жди беды…
Чешский язык тогда – без особого принуждения Вены, совершенно естественным образом – тихонечко умирал. С ним в Чехии дело обстояло примерно так же, как в современной Белоруссии с белорусским, которого, признаем откровенно, более девяноста процентов населения попросту не знают и не используют. Не только в чешских городах, но и в деревнях большинство чехов говорили по-немецки. Так уж исторически сложилось.
И как-то незаметно сформировалась группа так называемых «будителей» – как легко догадаться, от слова «будить». К топору они, надо отдать им должное, не звали, поскольку все наперечет были кабинетными мыслителями, привыкшими управляться исключительно с пером и вовсе не горевшими желанием болтаться по лесам с ружьем или громоздить баррикады. Одним словом, люди были вполне вменяемые, не чета французским гуманитариям, и задачу перед собой ставили, в общем, мирную и благородную; возродить, «пробудить» пришедший в совершеннейший упадок чешский язык. Организатором и многолетним лидером «будителей» был ученый аббат, филолог и историк Йозеф Добровский, а его правой рукой стал представитель молодого поколения, Вацлав Ганка, двадцатишестилетний поэт и секретарь чешского литературного общества. Ему и суждено стать героем нашего повествования…
Несмотря на молодость, пан Вацлав пользовался в образованных кругах нешуточным авторитетом: писал недурные стихи, переводил сербские народные песни, был знатоком древней славянской письменности: чешской, русской, балканской.
«Будители» выпускали книги в защиту чешского языка, составляли словари, устраивали театральные представления, всевозможные декламации, власти их не трогали, поскольку ни единого антиправительственного выпада эта публика благоразумно не допускала…
Имелось одно-единственное обстоятельство, серьезнейшим образом осложнявшее «будителям» жизнь: по-настоящему древних чешских письменных памятников было ничтожно мало. Ну так вот не везло чехам… Не было старинных рукописей, не было эпоса вроде русских былин, германской «Песни о Нибелунгах», скандинавской «Эдды». Не было фундамента, на котором можно было бы строить здание национального возрождения, что чертовски мешало, а то и навевало откровенную тоску. Ганка частенько с горечью упоминал, что русским, сербам и полякам есть чем в этом плане гордиться, а вот чехи если что и сохранили, так только старинные песни, да и то в убогом количестве. На одних песнях порядочного фундамента не возведешь. А ведь чем черт не шутит, должны же где-то лежать в пыли и забвении древние памятники чешской литературы! Почему бы нет? Что, чехи у Бога теля съели?
И вот однажды, аккурат осенью 1817 года произошло! Можно даже сказать, грянуло!
Есть в Чехии небольшой, захолустный городок Двур-Кралове-на-Лабе. Он и сегодня не блещет многолюдством и достопримечательностями, а в 1817 году и подавно был, назовем вещи своими именами, жуткой дырой. Там, правда, имелась парочка старинных зданий; но в Чехии подобным может похвастать масса городишек и даже захолустных деревень…
Но именно там обитал друг детства Ганки, ставший местным судьей, к каковому Ганка и приехал однажды в гости. За отсутствием в провинции развлечений визит столичного гостя, да еще, несмотря на молодость, известного поэта и просветителя, был, безусловно, событием. У местного священника собралась приятная компания: Ганка, судья, несколько «представителей местной интеллигенции». Как говорится, сидели дружно, сидели хорошо. За пивом Ганка обратился к своей любимой теме: о скудости чешского рукописного наследства и о том, как здорово было бы отыскать когда-нибудь бесценные памятники древней чешской словесности. Должны же они где-то лежать в пыли заброшенных помещений? На протяжении столетий войны обходили Чехию стороной, а когда и случались, не было особенных разрушений, так что вполне могут где-нибудь сохраниться бесценные манускрипты…
Застольные собеседники этой темой живо заинтересовались. Священник сказал, что про древние рукописи ничего не слышал, а вот старинного оружия в подземелье его костела навалом. Лет четыреста; со времен гуситских войн, никто в тех подвалах не копался и научных изысканий не вел – в Чехии подобных подземелий с заброшенным старинным хламом столько, что для истории это и неинтересно.
Ганка моментально воодушевился: четыреста лет? Древнее оружие? Но ведь там и рукописи могли заваляться! Плевать на пыль и паутину! Вперед!
Выпито, должно быть, было уже немало – потому что вся честная компания под предводительством священника не мешкая отправилась в подземелье, где обнаружила вороха проржавевших копий и прочего ветхого оружия, не представлявшего из себя ровным счетом ничего выдающегося. Пан Ганка, однако, твердо решив не отступать, принялся методично разгребать завалы…
И произошло форменное чудо. В дальнем углу, за шкафом со старой церковной утварью, столичный гость обнаружил аж четырнадцать пергаментных листов, покрытых, полное впечатление, старинными письменами.
Поскольку эти пергаменты нигде не числились на балансе и были совершенно бесхозными, хозяева тут же их подарили гостю. Ганка помчался в Прагу и, не теряя времени, отправился к своему учителю и покровителю Добровскому. Ученый аббат, изучив рукописи, радостно воскликнул: да это же на древнечешском! И писано в невероятно древние времена!
Как гласит русская поговорка, не было ни гроша, да вдруг алтын. А впрочем, какой тут алтын, прозаические три копейки, тут уж скорее золотые россыпи.
Аббат Добровский
Одним махом чешские просветители обрели целое сокровище. Добровский очень быстро определил, что рукопись – сборник старинных нерифмованных стихов, судя по написанию, относящихся к 1290–1310 годам (а некоторые и того древнее). Сокровище, право же – масса исторических сведений об обычаях и быте древних чехов, сказания о важных исторических событиях и геройских подвигах. Битвы и подвиги, любовь и романтика… 96 лирических строк и более тысячи эпических, повествующих о славных свершениях древних чехов. Краледворская рукопись (так ее очень быстро стали именовать) повествовала о том, как чехи изгнали из Праги польских захватчиков, как отбили вторжение саксов и монголов, как героические витязи Забой и Славой обратили в бегство войска некоего «чужеземного короля» (правда, ни его имя, ни национальность не указывались).
Сенсация во мгновение ока облетела всю Чехию, наполняя сердца патриотов законной гордостью, Ганка, не покладая рук, принялся за исторические разыскания, пытаясь определить, кто же мог быть автором Краледворской рукописи?
Очень быстро он объявил, что, по его глубокому убеждению, таковым, скорее всего, является рыцарь Завиш из Фалькенштейна. Персона сия, безусловно существовавшая в реальности, была самым что ни на есть романтическим персонажем средневековой чешской истории. Означенный Завиш, происходивший из одного из старинных рыцарских родов, был личностью незаурядной: несмотря на молодость и бедность, стал предводителем рода, а это свидетельствовало о нешуточном уважении к нему родственников. Правда, титул этот приносил чисто моральное удовлетворение, а чтобы заработать на жизнь, наш рыцарь прозаически служил управляющим того самого замка Фалькенштейн. И в 1280 г. свел знакомство с вдовствующей королевой Кунгутой (кстати, русской по происхождению галицкой княжной).
Вспыхнул красивый, долгий и не особенно скрывавшийся роман. Королева назначила возлюбленного управителем своего замка, где у них и родился сын, чье появление на свет также не слишком скрывалось. Законный сын королевы, по достижении совершеннолетия вступивший на трон, к своему внебрачному братцу отнесся довольно-таки добродушно – а Завиша по настоянию маменьки назначил уже гофмейстером двора, что не шло ни в какое сравнение с положением простого управляющего.
Дальнейшее происходило не раз в самых разных странах Европы – пользуясь расположением молодого короля и благосклонностью вдовствующей королевы, пан Завиш, как выразились позже по поводу другой персоны, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И чтобы не зависеть от капризов политики, возмечтал сочетаться с Кунгутой законным браком.
Тут Кунгута как-то очень уж кстати для недоброжелателей Завиша умерла; и воспрянувшие недруги ринулись в атаку. Очень быстро против любовника покойной матушки обозлился и молодой король Вацлав. История темная и до сих пор непроясненная: то ли честолюбивый Завиш (женившийся к тому времени на дочери венгерского короля) и в самом деле собирался свергнуть короля Вацлава и сам сесть на чешский трон, то ли его примитивно перед королем оговорили? До правды уже не доищешься. Как бы там ни было, Завиша быстренько кинули в темницу, а потом стали возить от замка к замку, где укрепились его сторонники. Всякий раз королевские полководцы проводили одно и то же незатейливое агитационное мероприятие: ставили на виду плаху, приводили Завиша и объявляли, что снесут ему голову, если крепость не сдастся. Крепости сдавались.
Однако у замка Глубока случился сбой. Завиш, должно быть, сообразил, что в живых его все равно не оставят, а потому лучше умереть красиво. И закричал защитникам: даже если с него начнут шкуру драть, замок не сдавать!
Замок не сдался. Разъяренные королевские порученцы голову Завишу тут же снесли. Что сталось с его сыном от королевы, мне в точности неизвестно.
Одним словом, персонаж был яркий, романтический. Почему Ганка выбрал именно его? Да потому, что по некоей идущей с древних времен народной традиции Завиша считали поэтом, хоть и не имелось никаких материальных доказательств того, что он баловался стихосложением. Какой же влюбленный не писал стихов? Кто-то из историков так и написал в своем ученом труде, не озаботившись точными доказательствами: «В тяжелом заключении он сокращал себе время сочинением чешских песен, которые долго помнили в народе».
Ухватившись за эту фразу, Ганка совместно с видным историком Палацким объявили во всеуслышание: лирическая часть Краледворской рукописи и есть тот поэтический сборник, который рыцарь Завиш составил для своей возлюбленной из собственных сочинений. Не случайно же Краледворская рукопись найдена в городе, который некогда был удельным владением Кунгуты? Да и заглавные буквы стихов золотом выведены.
Других аргументов они, как ни старались, отыскать не могли – а потому авторство Завиша оставалось все же под вопросом. Но, как бы там ни было, Краледворская рукопись прогремела по всей Европе, а отыскавший ее Ганка купался в лучах славы (к которой был ох как неравнодушен)…
Тут обнаружилась еще одна средневековая рукопись – при обстоятельствах еще более романтических, нежели Краледворская. Пражский бургграф (нечто вроде современного мэра) получил по почте конверт с несколькими листочками старинного пергамента и анонимным сопроводительным письмом. Неизвестный писал, что служит в богатом доме некоего знатного немца; где и обнаружил в домашнем архиве этот манускрипт, несомненно, представляющий бесценное сокровище для чешского национального возрождения. Поскольку хозяин дома, ненавидящий все чешское, обязательно уничтожил бы рукопись, попади она ему в руки, аноним счел за лучшее выкрасть ее из самых благих побуждений и отправить благородным господам просветителям. История, что и говорить, романтическая…
Даже ученый аббат Добровский с его огромным опытом чтения старинных чешских рукописей на этот раз не смог справиться с текстом (который позже окрестили Зеленогорской рукописью). Зато его молодые ученики Вацлав Ганка и его друг Юнгман в два счета разобрались, где тут собака зарыта, и очень быстро перевели рукопись на современный чешский.
Оказалось, Краледворской рукописи Зеленогорская не то что не уступает, а даже превосходит по сенсационности, поскольку является древнейшим памятником чешской письменности, созданным на рубеже IХ – Х веков! И повествует о том, как в стары времена творила справедливый суд княжна Либуше.
Зеленогорская рукопись
Княжна эта была персоной насквозь легендарной, вроде древнерусской Лыбеди, сестренки Кия, Щека и Хорива, опять-таки сказочных. Якобы Либуше была одной из трех дочерей первого чешского короля Крока (еще одной насквозь легендарной фигуры). Будто бы славилась она провидческим даром, а также знанием тогдашних законов, что ей помогало творить справедливый суд. Будто бы именно она возвела первые укрепления в Праге – а потом стала основательницей рода Пржемысловичей, правившего в Чехии более пятисот лет.
До сих пор не было ни единого доказательства того, что сказочная княжна существовала в реальности. И вот теперь оно появилось. Целая поэма «Суд Либуше» в сто двадцать строк, написанная в самой что ни на есть седой древности!
Однако аббат Добровский был все же не восторженным романтиком, а серьезным ученым, в высшей степени добросовестным. Его насторожило, что молодые ученики как-то очень уж быстро разобрались со сложнейшим текстом чуть ли не тясячелетней давности. Еще раз изучив манускрипт, он высказался уже предельно откровенно: «Эта рукопись, которую ее защитники сами создали, безусловно, подделка и заново на старом пергаменте зелеными чернилами написана, как я сразу, едва увидев текст, определил… Одного из них или даже обоих я считаю составителями, а господина Линду – переписчиком».
Приговор, как видим, ясный и недвусмысленный. Однако по каким-то неведомым побуждениям души Добровский вынес его в сугубо частном письме, чем и ограничился…
Ганка, Юнгман и Линда, не моргнув глазом, столь же частным образом стали заявлять, что их старый учитель, если откровенно, малость выжил из ума, став на склоне лет подозрительным и капризным, а потому авторитетом считаться уже не может. Зато они, молодое поколение, упрямо стоят на своем: Зеленогорская рукопись – самая что ни на есть подлинная, и точка!
Вацлав Ганка
Упомянутый в письме Добровского Линда сам по себе был персоной весьма колоритной – и уже успевшей отметиться в истории чешского национального возрождения. Именно он, будучи еще студентом, за год до сенсационного открытия Ганки обнаружил в переплете старинной книги листок пергамента с отрывком старой чешской песни ХI – ХII веков, названной «Вышеградская песня». «Будители» эту находку встретили с восторгом – но тогда же придирчивый Добровский заявил, что, по его твердому убеждению, «старинную рукопись» пан Линда, как бы это поделикатнее выразиться, собственным руками изготовил… Скандальчик, правда, опять-таки остался не известным широкой публике – видимо, не хотели бросать тень на бедных просветителей, решив, что цели у них были, в общем, самые благородные, разве что молодежь заигралась однажды, бывает…
Несколько лет эта троица – Ганка, Линда и Юнгман, – выражаясь современным языком, вовсю пиарили свои находки. Зеленогорскую рукопись вслед за Краледворской перевели в Польше, а потом и в России, по инициативе тогдашнего президента Академии наук адмирала Шишкова. Естественно, повсюду провозглашалось, что рукопись самая что ни на есть подлинная, а нашедшие и расшифровавшие ее «молодые львы» совершили прямо-таки научный подвиг.
Тут уж не выдержал и помалкивавший пять лет Добровский, посчитавший, что это уж чересчур. На сей раз он опубликовал заметку с недвусмысленным названием «Литературный обман», где назвал Зеленогорскую рукопись «поддельным мараньем». Правда, он, во-первых, не сомневался в подлинности Краледворской рукописи, а во-вторых, по-прежнему считал Ганку благородным человеком и настоящим ученым, который «из чрезмерного патриотизма» некритически отнесся к явной подделке.
Его коллега, не менее известный ученый Копитар, пошел дальше: он отнесся к Ганке без всякого почтения, публично называя плутом, который может сфабриковать любую подделку, хоть из чешской истории, хоть из времен Александра Македонского.
«Молодые львы» яростно сопротивлялись, не стесняясь в выражениях и прямо намекая, что «старичье» уже давным-давно выжило из ума, а потому обращать на них внимание не следует – вышли в тираж маразматики… Группа у Ганки подобралась сплоченная, горластая и энергичная, навострившаяся мастерки использовать общественное мнение.
Тут, как нельзя более кстати, объявилась и четвертая древность: снова некто Циммерман обнаружил в переплете старинной книги листок пергамента, на котором в XII веке кто-то написал лирическое произведение, получившее название «Любовная песнь короля Вацлава». Мало того, на обороте означенного листка красовалось стихотворение «Олень», уже имевшееся в Краледворской рукописи.
Очень быстро Добровский заявил, что перед ним – очередная подделка под старину, причем довольно неуклюжая. Тем более что моментально выяснилось: этот самый Циммерман – большой друг и сослуживец Линды…
Зато как из-под земли выскочила «команда Ганки» и принялась кричать, что Добровский – выживший из ума болван, а «Любовная песня» на сто лет старше Краледворской рукописи. В конце концов общественное мнение приняло их сторону: усомниться в подлинности «Песни» автоматически означало бы усомниться в Краледворской рукописи, а уж на это никто из «будителей» пойти не мог…
Через несколько лет Добровский, будучи уже в преклонных годах, скончался – благодаря чему команда Ганки естественным образом избавилась от самого опасного противника. Вот тут уж молодое поколение развернулось на всю катушку. Они издали книгу, куда включили все четыре рукописи. Три из них, как мы помним, Добровский считал подделками, но возразить из могилы уже не мог… Естественно, книга была снабжена обширным предисловием, в котором команда Ганки горячо защищала подлинность всех четырех «древних рукописей» и вдосыта иронизировала над противниками.
Книгу оперативно перевели на несколько языков, она прогремела по Европе – а заодно и имена талантливых молодых ученых, столько сделавших для возрождения чешской культуры.
И тут прозвучал голос скептика. К великому сожалению для «молодых львов», принадлежал он не какому-то безвестному критикану, а упоминавшемуся уже Копитару, серьезному ученому из Венской библиотеки. Копитар и раньше сомневался в подлинности трех рукописей – а теперь во всеуслышание объявил, что считает подделкой все четыре. И Краледворскую в том числе…
Это было уже весьма серьезно. Однако команда Ганки приняла бой – слишком многое было поставлено на карту. В помощь себе они привлекли двух ученых постарше, с громкими именами: Фр. Палацкий считался лучшим в мире знатоком латинской и чешской палеографии, а второй, П. Шафарик, издал несколько весьма авторитетных трудов по филологии, этнографии, истории культуры, так что заслуженно числился звездой европейской величины.
Они и выпустили в 1840 году книгу «Древнейшие памятники чешского языка», в которой вдребезги разносили позицию и аргументацию покойного Добровского, дерзнувшего усомниться в подлинности этих самых древнейших памятников. Правда, кроме научных аргументов, пустили в ход и чисто эмоциональные: писали, что неведомый «сочинитель», если допустить его существование, должен был быть чересчур уж талантливым мистификатором, а такому в современной чешской действительности попросту неоткуда взяться. А тут еще подключился химик Корда, исследовавший чернила, которыми были написаны рукописи, и сделавший вывод: они «в высшей степени древние».
Так что атака была успешнейшим образом отбита. Посрамленные скептики вынуждены были отступить и сложить оружие. Соединенным авторитетом всех вышеперечисленных мэтров было доказано: все четыре рукописи – подлинные и только особо оголтелый враг народа чешского может своим поганым языком изрыгать нечто подобное…
Задолго до того специально «под Краледворскую рукопись» был создан Национальный музей. Теперь же культ древних рукописей перехлестнул все мыслимые границы. Поэты посвящали им стихи, композиторы – музыку. Театры инсценировали самые эффектные с драматургической точки зрения части. Художники рисовали книжные иллюстрации и внушительные живописные полотна на сюжеты древней истории, вновь обретенной народом чешским благодаря подвижнику Ганке и его друзьям. Перед костелом, где когда-то Ганка нашел Краледворскую рукопись, торжественно воздвигли памятник былинному богатырю Забою (о котором, как мы помним, было известно исключительно из этой рукописи). По всему славянскому миру рукописи принимали восторженно. Если верить Ганке, их вроде бы собирался переводить на русский не кто иной, как Пушкин. Самые маститые ученые считали за честь писать предисловия и комментарии к новым изданиям рукописей, а на чешский их переводил самый настоящий граф.
Сам Ганка стал, без преувеличения, национальным героем. Он много лет занимал довольно скромный пост хранителя библиотеки Чешского музея – но к нему туда вереницей тянулись приезжие гости из славянских стран. Список посетителей, сохранившийся в «памятных книгах» музея, заставляет почтительно снять шляпу: Тургенев, Майков, Аксаков, Петр Вяземский, Гоголь… В России Ганку обожали не только восторженные литераторы, но и столпы высшей бюрократии вкупе с руководством Академии Наук. Его наградили несколькими российскими орденами, избрали членом Академии, которая, кроме того, удостоила Ганку сначала серебряной медали, а потом и большой золотой – «за заслуги в славянских древностях и литературе». Одним словом, как в старом анекдоте: «Жизнь удалась».
Вот только порой, время от времени, случались… гм, некоторые казусы. Ганка по своей привычке обнаружил как-то очередную средневековую чешскую рукопись, песню «Пророчество Либуше» – но очень быстро выяснилось, что это его собственное творчество. Шума поднимать не стали: решено было считать, что знаменитый ученый просто-напросто неуклюже пошутил без всяких корыстных целей. С каждым может случиться.
Второй случай был гораздо серьезнее. Неугомонный Ганка с торжеством предъявил ученому миру обнаруженный им средневековый латинский словарь «Матер верборум» – рукопись ХIII века. Она была битком набита так называемыми «глоссами» – толкованиями или переводами архаизмов иностранных слов, словосочетаний… И, что важнее, многие из глосс присутствовали в Краледворской и Зеленогорской рукописях.
Вот только очень быстро обнаружилось, что с рукописью долго и старательно работал неизвестный фальсификатор самого что ни на есть новейшего времени. Около восьмисот глосс (в том числе и все до единого те, что доказывали подлинность двух рукописей) были мастерски вписаны на выскобленные места буквально позавчера…
Против Ганки не было ни малейших улик, а потому ученый мир пошел по линии наименьшего сопротивления: решили, что Ганка по простоте душевной принял за подлинник фальшивку-словарь, подделанный каким-то неизвестным злоумышленником. Недосмотрел чуточку, оказался излишне доверчивым.
Однако после пятнадцати лет совершеннейшей безмятежности и всеобщего преклонения перед «древними памятниками чешской изящной словесности» над Ганкой вновь стали сгущаться тучи. Некогда он сам, будучи совсем молодым, нещадно громил «закосневшее старичье». Теперь сам угодил в ту же ловушку: выросло новое молодое поколение исследователей, уже не питавшее к «великому Ганке» мистического трепета. Эта-то дерзкая молодежь, в свой черед, и ринулась в атаку. Один из активнейших скептиков, молодой ученый Фейфалик при поддержке единомышленников потребовал создать специальную комиссию для проверки кое-каких «национальных сокровищ», когда-то представленных Ганкой. На все четыре рукописи молодые нахалы пока что не покушались, ограничившись тем, что объявили поддельной одну только «Любовную песнь короля Вацлава».
Напор был такой сильный, а доказательства выглядели столь убедительно, что совет Национального музея создал комиссию и начал экспертизу «Песни».
И очень быстро случился жуткий конфуз. «Песнь» оказалась стопроцентной подделкой. Было неопровержимо доказано, что текст якобы двенадцатого или тринадцатого века написан поверх старательно стертого текста пятнадцатого столетия. В жизни такого не бывает, «нижний» текст окажется старше «верхнего» в одном-единственном случае: если речь идет о подделке…
Ганке резко поплохело: напомню, что подлинность Краледворской рукописи доказывали в том числе и на примере «Песни». Ученая молодежь, ободренная успехом, взялась за вторую рукопись, «Вышеградскую песню», столь же неопровержимо было доказано, что и это – чистейшей воды подделка.
Я не знаю, что тогда пили вместо нынешней валерьянки – может быть, уже ее родимую и пили. Как бы там ни было, национальный герой и кавалер многих орденов Вацлав Ганка принялся глотать успокоительное флаконами…
Октябрь 1858 года. В пражской немецкоязычной газете «Богемский вестник» появилась неподписанная статья, где фальшивкой уже объявляли и Краледворскую рукопись, называя ее создателем, как легко догадаться, пана Ганку. Мало того, неведомый автор заявлял, что «большая часть древних памятников чешской литературы изобретена Ганкой».
Подлинные чешские патриоты моментально поняли замысел «проклятой немчуры»: ясно было как божий день, что венские реакционеры, консерваторы и славянофобы таким образом пытаются злодейски дискредитировать древнее культурное наследие чешского народа. На святое покушаются. Корни подрывают.
«Богемский вестник» ответил еще пятью статьями, где вполне спокойно и логично заявлялось: культурное наследие и подъем национального самосознания – вещи, конечно, хорошие и где-то даже святые, но чистое дело нужно делать чистыми руками, а не сочинять фальшивки.
Разъяренный Ганка по наущению оставшихся на этом свете соратников (им всем уже было годочков по семьдесят) подал на редактора газеты доктора Куга в суд за клевету. Началось затянувшееся на несколько месяцев следствие – причем общественное мнение производило страшный шум, старательно разоблачая немецкие происки.
Ганка смог привести в суд одного-единственного свидетеля – счетовода той самой церкви, где нашел некогда Краледворскую рукопись. Счетовод браво отрапортовал: давным-давно, будучи еще мальчишкой, он лазал в тот самый подвал и лицезрел там ту самую рукопись. А потом, через пару годочков, в город приехал пан Ганка и рукопись обнаружил вторично – вот эту самую, можете не сомневаться, господа судьи, пятьдесят лет прошло, я ее узнаю с первого взгляда, никакой ошибки…
Других свидетелей не имелось. Тем не менее суд, пойдя на поводу у разбушевавшегося общественного мнения, постановил считать, что господин Ганка все же нашел Краледворскую рукопись в подземелье костела. Вопрос о ее подлинности или поддельности не рассматривался. Доктора Куга приговорили к двум месяцам заключения, солидному штрафу и возмещению судебных издержек. Он подал жалобу лично императору, и тот, ознакомившись с делом, распорядился приостановить пока что решение суда. Полностью его отменить не решился даже император – очень уж накалены были страсти. Прага напоминала клокочущий вулкан…
Ситуация создалась щекотливейшая. С одной стороны, считалось, что Ганка все же «нашел» рукопись, а не подделывал. С другой – вопрос о ее подлинности оставался открытым. Несмотря на шумную поддержку «прогрессивной общественности», семидесятилетний Ганка впал в состояние откровенного неприкрытого страха, слег в постель и вскоре скончался. В том, что причиной болезни и смерти был судебный процесс и поднятый вокруг него шум, никто не сомневался.
Скептики, конечно, оставались при своем мнении – но вот «просветители» превратили похороны Ганки в грандиозную манифестацию. Чтобы не пересказывать своими словами, обращусь к документам того времени: «Впереди шли факельщики реальных школ и гимназий и множество певчих. Затем духовенство, а прежде всего монахи орденов капуцинского и францисканского, воспитанники духовных училищ, все пасторы Праги, а за ними епископ. Затем следовала печальная колесница. Кисти покрова несли: народный историк д-р Палацкий, д-р прав Нигер, профессор Томек, князь д-р Рудольф Турн-Таксис, д-р прав Фрич и член училищного совета Венциг. По обеим сторонам колесницы шли шестеро молодых поляков и шестеро юных славян в национальных костюмах, в конфедератках и фесках, за ними – виднейшие писатели и граждане Праги с зажженными факелами и восковыми свечами. Сразу же за колесницей несли на бархатной подушке экземпляр Краледворской рукописи, увенчанный лаврами… Четыреста зажженных факелов и двести восковых свечей были несены по обеим сторонам печального шествия писателями, художниками, учеными и гражданами. Процессию сопровождало более тридцати тысяч народа. В кладбищенской церкви Вышеграда, древнейшей части Праги, где Ганка завещал похоронить себя, гроб, ордена, лавровый венок и Краледворскую рукопись водрузили на высокий катафалк. Огромный хор пропел погребальные гимны, каноник сказал трогательную речь. Лавровый венок и экземпляр Краледворской рукописи были положены вместе с усопшим в могилу. Во время шествия звонили все колокола пражских церквей. В процессии принимали участие не только пражане, но и многочисленные обыватели из окрестностей».
По высшему разряду, одним словом. Однако торжественные похороны ничему не положили конец. Все только начиналось…
Как ни витийствовал доктор Палацкий, переключившийся на политическую карьеру и усердно разоблачавший «немецкие козни», одна за другой стали появляться весьма скептические статьи. Указывали на то, что один из открывателей рукописей, Линда, еще до их обнаружения выпустил роман «Заря над язычеством», где появляются многие мотивы Краледворской рукописи. Причем источником служила давным-давно известная историкам хроника Гаека ХVI века, имеющая опять-таки много общего с Краледворской рукописью. Потом выяснилось, что песня о богатыре Забое практически совпадает со стихами из пьесы Линды, увидевшей свет до находки рукописей.
Все до единого открыватели и исследователи рукописей – Ганка, Линда, Юнгман и прочие – уже давно умерли. Но критиканы копали вглубь, извлекая все новые печальные сенсации. Оказалось, что Ганка, много лет заведуя книгохранилищем музея, испакостил десятки древних рукописей: переделывал стихи, обводил буквы чернилами другого цвета так, чтобы выглядело, будто это проделано еще в старину, переписывал старые тексты – вставлял слова, вписывал на полях «древние» комментарии, а на пустое место вписывал «старинные» тексты. Поведение, как легко догадаться, крайне предосудительное для ученого библиотекаря и хранителя древностей…
1886 год. Несколько месяцев длилась серьезнейшая экспертиза Краледворской рукописи, организованная новонародившимся течением научной мысли – так называемыми «чешскими реалистами». Тут уже работали не гуманитарии, а профессионалы-химики.
Результаты получились крайне интересными. Видный химик Белогоубек написал заключение на девяноста страницах, где пришел к выводу: «Краледворская рукопись с точки зрения микроскопического и микрохимического анализов, безусловно, древняя рукопись». Вот только он же собственной рукой вписал в обширное заключение одну-единственную строчку, портившую всю картину: при исследовании одной из заглавных букв, выведенных голубой краской, выяснилось, что это – «берлинская лазурь», изобретенная лишь… в 1704 году! Однако сам Белогоубек словно бы не обратил внимания на эту, им же самим написанную строку, заверяя в подлинности рукописи. Что творилось у него в голове, судить трудно. Возможно, не хотел дать повода для торжества «проклятой немчуре».
С тех пор дискуссии по поводу подлинности двух оставшихся рукописей приняли этакий вялотекущий характер. Лет на несколько страсти затухали, потом вновь разгоралась очередная баталия, сменявшаяся очередным застоем. Не всегда это кончалось мирно: когда уже в начале двадцатого столетия одного из защитников подлинности рукописей профессора-химика Пича пресса (на сей раз не немецкая, а стопроцентно чешская) обвинила в некомпетентности, разнервничавшийся профессор взял и застрелился. Чем, конечно же, никому ничего не доказал.
В 1913 году, когда не за горами было столетие со дня открытия Краледворской рукописи, собрались было раз и навсегда внести ясность и начали новые исследования – но тут грянула Первая мировая и всем стало не до старинных пергаментов. Ну, а после окончания войны старушку Европу еще какое-то время трясло, точно в шторм: на развалинах трех бывших великих империй образовалась куча новехоньких суверенных державочек, и практически каждая начала утверждать свой суверинитет с того, что кинулась отхватывать у соседей, что плохо лежит. Чехословакия оттяпала у Польши Тешинскую область. Польша тем временем урывала куски Литвы и бывшей Российской империи. Румыния загребла у Венгрии исконно мадьярскую Трансильванию, в Венгрии полыхала гражданская война, в Австрии промышленные районы воевали с сельскохозяйственными… В общем, было шумно и весело.
Потом все как-то устаканилось, воцарилось относительное спокойствие – и в суверенной Чехословакии (уже, надо полагать, по привычке) вновь начались дискуссии о подлинности двух оставшихся рукописей. На этой почве любопытная метаморфоза случилась с профессором Пражского университета В. Войтехом, химиком. Поначалу он был убежденным сторонником подложности и Краледворской и Зеленогорской рукописей. Однако позже, проведя многочисленные исследования, стал, напротив, ярым сторонником подлинности памятников старины. Мало того, именно он призвал посмотреть на проблему под новым углом. Предположим, говорил он, рукописи и в самом деле подделал Ганка… но для этого ему нужно было обладать обширнейшими знаниями по химии – в чем почтенный библиотекарь отроду не был замечен. Должен был, если уж допускать версию о подлоге, существовать какой-то соучастник, некий Икс, обладавший огромными для того времени познаниями в химии… но его-то как раз и не усмотрели; не выявили среди друзей Ганки за все эти долгие десятилетия…
Нужно признать, это звучало чертовски веско и убедительно. Ганка, Циммерман, Линда и прочие – все поголовно были ярко выраженными гуманитариями и не более того. А загадочного Икса и в самом деле никогда не усмотрели даже самые прилежные критиканы. Так что к началу Второй мировой войны дискуссия как-то сама собой приугасла.
В войну было тем более не до нее: чехи занимались главным образом тем, что исправно мастерили для вермахта на своих великолепных заводах оружие и военную технику. Отдельные благородные душой личности выходили на смену в черных рубашках – в знак траура, понимаете ли. Немцы наверняка знали о сути этого прибамбаса – гестапо работать умело, – но, надо полагать, относились к этому, как к безобидной придури. И в самом деле, какая разница – в черной рубашке мастеровой или в полосатой, главное, чтобы снаряды для Восточного фронта точил не бракованные…
После войны опять-таки были более важные дела. И только в 1967 году за проблему вновь взялись всерьез. Причем застрельщиком послужил не ученый профессионал, а известный чешский писатель Мирослав Иванов, автор множества книг о загадках чешской истории. У нас это имя, в общем, не известно, но мне довелось прочитать пару его работ в польских изданиях, и могу заверить – исследователь серьезный.
(Авторское отступление в скобках: именно на книгах Иванова можно почувствовать разницу, отделяющую отечественных ученых от их коллег из Европы. Иванов издал два десятка книг о чешской истории, будучи непрофессионалом – но, что характерно, чехословацкие историки отнеслись к этому совершенно спокойно, ни разу не назвали его авантюристом, шизофреником, бульварным писакой, не создавали при своей Академии наук никаких «комиссий по борьбе с лженаукой», не писали жалоб в инстанции, требуя запретить, изъять, пресечь. Европа-с…)
Короче говоря, Иванов поставил перед собой четкую задачу: если таинственный Икс все же существовал, его надо искать – конечно, не его самого; полторы сотни лет прошло, а следы в архивных бумагах…
После долгих поисков, где только возможно, Мирослав Иванов обнаружил-таки Икса!
Даже двух…
Он просмотрел то, чем до него никто не поинтересовался за полтора столетия, – церковную книгу о бракосочетании Ганки. В свое время Ганка писал, что свидетелями на свадьбе у него были, как и полагается, двое – аббат Добровский и Ф. Горчичка. Однако в церковной книге Горчичка в качестве свидетеля вообще-то значится, но вместо Добровского был указан некий Иоганн Миних. Иванов ощутил охотничий азарт: кто такой Миних? Почему Ганке понадобилось врать в столь безобидном житейском вопросе?
Оказалось, что означенный Миних – не кто иной, как профессиональный печатник, работавший в типографии вместе с будущим тестем Ганки. А располагалась типография в том самом доме, где квартировали Ганка и Линда. Игра приобретала интерес. Уж печатник-то вполне мог дать весьма профессиональную консультацию, как «состарить» рукопись, какие краски использовать, какие реактивы пустить в ход для придания «старинного» вида. В конце концов рукописи в Европе к тому времени подделывали не одну сотню лет, так что традиции имелись.
Но еще интереснее оказался помянутый Горчичка, друг Ганки. Франтишек Горчичка, художник, окончил Пражскую академию живописи, двадцать лет проработал инспектором картинной галереи графа Коллоредо-Мансфельда. Все эти годы он не только реставрировал полотна средневековых художников, но и усердно изучал краски, которыми писали эти мастера. Даже посещал лекции по химии в пражском Техническом училище. Ставил опыты; смешивал растворы, трудился много и упорно…
Что-то он, как говорили современники, все же нашел. То ли сам в конце концов раскрыл секрет старых мастеров, то ли попросту купил в Голландии некие секреты, какими в свое время пользовался Рубенс…
Одним словом, это был уже не гуманитарий, а стопроцентный Икс. Выяснилось, что незадолго до обнаружения Зеленогорской рукописи в замке Зелена Гора объявился не кто иной, как Горчичка – якобы с единственной целью реставрировать старые полотна.
И только теперь выяснилось, что за трагикомедия разыгралась полторы сотни лет назад, и в какой переплет попал Ганка. Имя анонима, приславшего Зеленогорскую рукопись, стало известно уже в середине XIX века – некто Коварж. Судя по тому, что он так и не раскрыл своего имени и никогда не пытался хоть что-то поиметь со своей находки, он и в самом деле, ни о чем не подозревая, обнаружил где-то в пыли и хламе подделку, только что подсунутую туда Горчичкой – который, надо полагать, и должен был стать «открывателем». Вот уж не повезло доморощенному химику, так не повезло. Скорее всего, друзья решили «поделить» меж собой славу: Ганка должен был стать «открывателем» Краледворской рукописи; Горчичка – Зеленогорской, а Линде досталось остальное. Но простак Коварж лишил художника славы, почестей и прочего. Легко представить, как Горчичка его материл в душе…
Он как-то признался своему другу священнику и археологу-любителю Крольмусу: зеленогорский священник рассказал ему о Коварже и назвал его имя. Когда разразилась вышеупомянутая судебная тяжба с редактором «Богемского вестника», простодушный Крольмус стал забрасывать Ганку письмами, предлагая «сенсационную информацию»: дескать, покойный художник Горчичка рассказал мне об обстоятельствах находки Зеленогорской рукописи, и я готов засвидетельствовать это на суде. Ну а как только, пан Ганка, все узнают, что рукопись обнаружил совершенно посторонний человек, вас не смогут обвинить в ее подделке.
Ганка на эти письма не отвечал – поскольку свидетельство патера Крольмуса оказалось бы не спасением, а самой настоящей петлей на шее. Крольмус, простая душа, даже не подозревал, что Горчичка – старинный друг Ганки, но ведь все остальные прекрасно это знали! И, едва выплыло бы на свет божий, что в замке во время находки рукописи находился приятель Ганки, опытный художник-реставратор и химик-любитель, дальнейший ход мыслей противников Ганки предугадать было бы нетрудно. «Недостаюшее звено», химик и реставратор… Это был бы конец.
Иванов копал дальше. Выяснилось, что Ганка и Горчичка, несомненно, работали на пару и в то время, когда Ганка корежил своими добавлениями и исправлениями старинные рукописи в доверенной ему музейной библиотеке. На сей раз они пытались доказать, что у чехов в средневековье, кроме великих мастеров слова, были и великие мастера кисти. Самой убедительной уликой стала «подправленная» Ганкой старинная рукопись духовного содержания. На миниатюре с изображением ангела, на ленте, которую ангел держит в руках, Ганка стер каноническую надпись «Славься, Мария», а вместо нее вписал имя вымышленного художника: «Сбиск из Тротины».
Об этом художнике упоминали всего двое – Ганка и Горчичка. Мало того, оказалось, что Тротина – это название деревни и ручья неподалеку от места рождения Ганки. Надо полагать, друзья-фальсификаторы обладали еще и чувством юмора…
Иванов копал. Он наткнулся на книгу хорватского поэта Качича «Разговор», с середины ХVIII века выдержавшую в Чехии несколько изданий. Ганка никогда в жизни о ней не упоминал, что было довольно странно для человека его рода занятий. Оказалось, причины у него были самые серьезные: тот, кто написал Краледворскую рукопись, пользовался именно книгой Качича – слишком много параллелей обнаружилось.
Дальше было совсем просто. Проверкой версии Иванова занялись профессиональные криминалисты, специалисты в офицерских званиях из Института криминалистики МВД. Пересказывать их выводы было бы долго и скучно, поэтому сообщу результат: и Краледворская, и Зеленогорская рукописи – стопроцентные подделки…
Вдумайтесь хорошенько: сто пятьдесят лет едва ли не краеугольным камнем истории, литературы, изящной словесности целого народа служила натуральнейшая фальшивка. И все бы ничего, но эта подделка не просто ввела в заблуждение несколько поколений, а еще и увечила человеческие судьбы – вплоть до смертей. Один человек покончил из-за нее с собой, другой угодил под несправедливый судебный приговор, еще несколько преждевременно скончались исключительно потому, что в могилу их свела ожесточенная борьба вокруг рукописей. Не будь этого, пожили бы еще.
Как видим, опасность фальшивок еще и в том, что они способны всерьез убивать живых людей.
Хотя, разумеется, и не всегда. Фальшивка, о которой будет рассказано в следующей главе, вроде бы ни единого человека не убила – отчего не стала безобидной…
Глава вторая
Золотой мираж
Данные из энциклопедического словаря: «Шлиман Генрих (1822–1890) нем. археолог. Производил в 1870–1886 гг. раскопки в Греции и Малой Азии с целью открыть памятники материальной культуры эпохи Гомера. Его раскопки, хотя и не носившие строго научного характера, дали огромный материал по истории древней Трои, Микен и о-ва Крит».
Ну разумеется, всякий интеллигентный человек слышал это славное имя археолога-любителя, который, не будучи профессионалом, бросил вызов исторической науке своего времени – и оказался прав, отыскав-таки гомеровскую Трою, мало того, обнаружил там богатейший золотой клад царя Приама. Еще в раннем детстве любознательному мальчику попала в руки богато иллюстрированная книга по древнегреческим мифам, и он навсегда «заболел» Древней Грецией, дав себе клятву отыскать, когда вырастет, гомеровскую Трою. К сожалению, судьба поначалу ему не благоприятствовала: поскольку родился он не в семье ученого, а в доме захолустного пастора, который по темноте своей к ученым материям относился презрительно, к тому же семья обеднела, и мальчишке пришлось сначала служить приказчиком в лавке, а потом много лет заниматься скучными торговыми делами. Лишь будучи на пороге пятидесятилетия, он наконец-то, накопив достаточно денег, смог вернуться к своей старой мечте. Отправился в Турцию и начал раскопки в том месте, где предполагал обнаружить гомеровскую Трою. И обнаружил в конце концов. Косный и консервативный ученый мир встретил его находки ледяным презрением и форменным шквалом злобной критики. Но со временем справедливость восторжествовала и археолог-самоучка стал не просто признанным – знаменитым, великим ученым, о котором теперь следует отзываться не иначе, как в превосходной степени, употребляя слова «гениальный», «герой», «великий», «первооткрыватель», «патриарх». Теперь в исторической науке считается форменной ересью как раз сомневаться в величии Шлимана и бесценном значении для культуры его открытий, в том числе, разумеется, золотого троянского клада. Памятники, мемориальные доски, мраморные бюсты… В родном городишке Шлимана не так уж и давно демонстрировали даже вековую липу, на которой вроде бы, если как следует присмотреться, сохранились вырезанные мальчишкой инициалы. Одним словом, на смену былой критике и неприятию пришло чуть ли не обожествление.
Генрих Шлиман
Меж тем герр Шлиман – наш клиент. Поскольку эта книга посвящена фальшивым открытиям, дутым репутациям, мнимым достижениям, мифам, подделкам, Шлиману в ней отведено почетное место.
Потому что и сам человек был насквозь фальшивым, и большая часть его открытий – откровенная липа. Собственно говоря, тот Шлиман, которого «прогрессивное человечество» и прочая «научная общественность» знают по восторженным биографическим книгам, никогда и не существовал в реальности. Реальность, как частенько случается, была проще, незатейливей и, что греха таить, грязнее. Перед нами – не самый величайший в истории человечества, но все же весьма выдающийся мистификатор, лжец, мошенник, проявивший на этой стезе прямо-таки невероятную изворотливость. В самом деле, талант, искусно, последовательно, можно даже сказать, изящно изобразивший из весьма неприглядного себя светлый образ одержимого жаждой познания ученого, жизнь положившего ради подтверждения поэм Гомера…
Как восторженно писал один из ученых биографов Шлимана, «его жизнь походила на приключенческий роман». И правда, каких только испытаний и приятных событий не выпало на долю Шлимана: в юности пережил романтическую любовь, причем взаимную, потом нанялся юнгой на корабль, отправлявшийся в Южную Америку, – корабль погиб в бурю, не успев отойти от европейских берегов, и юный Шлиман оказался счастливчиком, остался жив, хотя многие его товарищи по команде погибли. Потом он во время «золотой лихорадки» стал золотоискателем в Калифорнии, в Америке разбогател и приобрел такую известность, что даже удостоился полуторачасовой аудиенции у тогдашнего президента США Филмора. И, наконец, самым романтическим приключением в жизни великого археолога-самоучки стали раскопки Трои, откуда его жена с немалым риском тайком вывезла в корзинке, под прозаической морковкой и капустой, богатейший золотой клад, найденный ее мужем в развалинах гомеровского города…
Событий и в самом деле хватит на полдюжины приключенческих романов. Одна беда: практически обо всем этом просвещенному человечеству стало известно исключительно со слов самого Шлимана, сочинившего парочку пухлых автобиографий с восхвалением себя, любимого. Зато дотошные исследователи давным-давно выяснили: при самом беглом изучении приведенных Шлиманом фактов его бурной биографии обнаруживается, что все, решительно все, чего ни коснись, обстояло чуточку не так. Точнее говоря, абсолютно не так. Либо брехня, либо откровенно приукрашенная в свою пользу весьма неприглядная реальность…
Прежде всего, ни одна живая душа из знавших Шлимана в детскую и юношескую пору припомнить не могла, чтобы Генрих хоть разочек, хоть единым словом поминал кому бы то ни было о своей мечте обнаружить древнюю Трою и подтвердить таким образом, что Гомер описывал не сказку, а быль… Вообще ни словечком не поминал о любви к древней греческой истории и стремлении заняться археологией.
Лишь в сорок шесть лет (1869 г.) он пишет в автобиографии, что «давней мечтой его жизни» как раз и было посетить Грецию, «где разыгрывались события, возбудившие столь живой мой интерес, родину героев, деяния которых восхищали меня и даровали утешение в детские годы».
И вспоминает, как он якобы однажды в школе написал по-латыни сочинение о Троянской войне, где и сообщил впервые, что больше всего на свете хочет посетить места, воспетые в гомеровском эпосе. А еще через двадцать один год, уже в 1880-м, посчитал нужным добавить: что там школа, еще до учебы отец подарил семилетнему мальчишке книгу с теми самыми иллюстрациями из древнегреческой мифологии, и потрясенный ею Генрих вслух заявил родителям, что когда-нибудь найдет Трою. Почему о столь важном факте своей биографии Шлиман молчал аж до 1880-го, уяснить трудновато… Должно быть, раньше не додумался сочинить столь эффектные «воспоминания».
Остается добавить, что многие годы Шлиман отчего-то не делал ни малейших попыток претворить свои детские мечты в жизнь – при его-то бешеной энергии, упорстве и настойчивости. Он был (и это как раз бесспорный факт) наделен невероятной способностью в считанные недели изучать иностранные языки – но вот как раз греческий стал едва ли не последним в списке. Современный греческий, а не древнее наречие гомеровских героев. В 1856 году Шлиман писал отцу: «Я так хотел бы посетить страны на юге Европы, родину моего любимого поэта Гомера, потому что я говорю на современном греческом языке так же, как и на немецком».
Однако он так и не сделал ни малейшей попытки осуществить свою мечту, хотя путешествовал немало. На недостаток денег сослаться нельзя – уже в то время Шлиман был миллионером и собирался отойти от дел, чтобы жить отныне в свое удовольствие. Однако древнегреческий, язык обожаемого Гомера, он стал изучать гораздо позже, а впервые в Грецию отправился лишь в… 1868 году. Какими-то черепашьими темпам осуществлялась заветная мечта…
Кстати, о поминавшейся взаимной романтической любви. Тут случился откровенный конфуз, более того – нешуточный скандал. Когда вышла в свет первая автобиографическая книга Шлимана, где, в частности, повествовалось о его юношеском романе с прекрасной Минной Майнке, означенная Минна (уже давно пребывавшая замужем мать троих детей) буквальным образом остервенела. Заявила публично, что никогда не была «первой юношеской любовью» Шлимана, не говоря уж о том, чтобы отвечать ему взаимностью и лобызаться под сенью зеленых лип. Действительно, полсотни лет назад, говорила она, в школе приятельствовали – но исключительно в столь юном возрасте, что ни о каких возвышенных романах и говорить не приходилось. Ну а потом, став постарше, они уже совершенно не общались.
Фрау Рихерс (именно такую фамилию уже много лет носила «юношеская любовь» Шлимана) из деликатности не вдавалась в подробности. А они были унылые. Дело в том, что с определенного времени Генрих, его братишки и сестрички стали в своем городке форменными изгоями, с которыми «приличным детям» строго-настрого запрещалось не только приятельствовать, но и вообще общаться.
Причина – в папаше Шлимана. Местный пастор, алкоголик и буян, и до того был в тех местах не самой уважаемой персоной – пил запоями, колошматил супругу что ни день, а потом стал еще и кобелировать так, что благонравная германская провинциая ужаснулась. В тех местах обитала некая дочь каменщика, еще не достигшая совершеннолетия, зато известная всей округе как безотказная резвушка, успевшая нагулять внебрачное чадо. Именно эту особу господин пастор нанял в служанки – вот только очень быстро обнаружилось, что прислуживает она главным образом хозяину, и довольно специфическим манером. Тут уж не выдержала и забитая фрау пасторша, выставив вон этакое сокровище – но пастор снял девчонке квартирку на стороне, где и веселился от души. Поскольку парочка своих отношений ничуть не скрывала, девицу выперли из съемной квартиры. Пастор и его пассия обосновались в деревенской гостинице – откуда их тоже попросили, недвусмысленно намекнув, что не позволят порочить репутацию приличного заведения, никогда не имевшего ничего общего с борделем.
Пастору вожжа попала под хвост – девица, надо полагать, была хороша. Он увез подружку к своему родному брату, а когда законная супруга умерла от переживаний, вернулся в дом, прихватив и любовницу, которую объявил «экономкой».
Прихожане, шокированные такими подвигами своего духовного отца, возмутились до крайности. Вместо того чтобы по воскресеньям ходить к нему в церковь, они собирались под окнами пастора и молотили в кастрюли и сковородки, борясь таким образом за высокую мораль. До рукоприкладства дело не доходило, но история, согласитесь, получалась шумная. И, как уже говорилось, всем детям в городке было строго-настрого запрещено общаться с пастырскими отпрысками.
Маленький Генрих, разумеется, за отца не ответчик. Суть в другом: в подобной ситуации и речи быть не могло о каких-то романтических отношениях с девушкой из приличной семьи…
Одним словом, Минна Рихерс рассердилась настолько, что всерьез собиралась подать в суд за клевету. Шлиман принялся срочно перед ней извиняться, правда, достаточно своеобразно: «Если ты обнаружишь, что я несколько преувеличил значение нашей с тобой дружбы пятидесятилетней давности, то не должна обижаться на меня, а приписать все моей старой привязанности. Если принять во внимание то, как сложилась впоследствии моя жизнь, то эти мои откровения пойдут лишь во благо тебе, поскольку нет такой немецкой женщины, которая не пожелала бы быть увековеченной подобным образом…»
Как видим, излишней скромностью Шлиман не страдал. Он к тому времени был уже всемирной знаменитостью, а потому на его стороне оказалась даже племянница Минны Ида Фрелих, писавшая тете: «В сказках и легендах всегда – или почти всегда – появляется некая дочь короля, которая вдохновляет героя на великие дела, в жизни же наших великих государственных мужей или поэтов мы на каждом шагу встречаемся с влиянием женщины. Почему же в таком случае образ женщины не может повлиять и на доктора Шлимана, которого тоже не обошла слава?»
В конце концов на фрау Рихерс эти увещевания подействовали, и она, поворчав, помирилась с другом детства. Вот и вся история о «юношеской любви» Генриха Шлимана.
История о том, как девятнадцатилетний Генрих нанялся юнгой на идущий в Венесуэлу пароход «Доротея», погибший в жутком кораблекрушении, внушает мало доверия. Тем более что сам Шлиман ухитрился дать две версии событий: в одном месте он уверяет, что был зачислен юнгой в состав экипажа, в другом – что был на борту лишь одним из трех пассажиров.
Сам Шлиман описывает гибель корабля в лучших традициях «Робинзона Крузо»: «…со страшным шумом обломки покатились вниз по нижней палубе, и я вместе с ними был увлечен в бездну. Но вскоре я вновь очутился вверху и смог ухватиться за проплывавшую мимо пустую бочку, край которой судорожно сжимал и вместе с которой меня отбросило в сторону. То подбрасываемого на сто футов в высоту, то швыряемого в ужасную бездну, меня в течение четырех часов мотало в беспамятстве, пока не прибило к отмели… меня заметили, и целая толпа зевак собралась на пляже».
И далее Шлиман живописует, что при крушении в живых остались только он сам, капитан и один матрос.
Ну, а что в реальности?
Пароход «Доротея» действительно существовал, он и в самом деле погиб у голландских берегов – вот только все, кто на нем плыл, благополучно добрались до берега. Не было ни единого погибшего. Список команды (восемнадцать человек) сохранился до нашего времени, и никакого Генриха Шлимана в нем не значится. Невозможно установить, был ли он вообще на «Доротее» (списки пассажиров тогда не велись) или попросту узнал о крушении из газет и впоследствии, насыщая автобиографию «эпизодами, достойными приключенческого романа», воспользовался без зазрения совести этой историей, благо мало кто уже помнил события сорокалетней давности.
Достоверно известно одно: некие сердобольные обыватели (а вовсе не «толпа зевак» нашли на берегу израненного, с выбитыми зубами юношу и отнесли в ближайшую гостиницу. Нет никаких достоверных свидетельств, что эту историю связывали с крушением «Доротеи». Характер телесных повреждений Шлимана таков, что их можно объяснить гораздо более прозаично: вульгарным нападением грабителей. Как бы там ни было, но в Южную Америку Шлиман более не рвался. Обосновался в Голландии и, говоря современным языком, занялся бизнесом.
На этом поприще Шлиман проявил себя, деликатно выражаясь, весьма своеобразным молодым человеком. Сегодня уже не определить точно, что за номера он тогда откалывал, но сохранились два прелюбопытных письма к нему от его тогдашних хозяев…
«Мы уже неоднократно говорили Вам: не обещайте много и не давайте бессмысленных обещаний, которые не может выполнить ни один благоразумный купец. Далее: мы должны просить Вас никогда не диктовать нам законов. Мы сами знаем, что должны сделать, а что может подождать. Вы позволяете себе вещи, выходящие за рамки приличий. Вы приписываете себе влияние и власть, с чем мы никак не можем согласиться, и желаем, чтобы Вы с Вашим характером сангвиника никогда не заблуждались на этот счет».
Второе письмо, спустя восемь месяцев после первого, наглядно доказывает, что Шлиман не сделал никаких выводов из дружеской критики: «Мы знаем Вас и лелеем надежду, что позже Вы станете образованным и приятным членом общества, после того как получите практическое знания в торговой сфере, что чрезвычайно важно, займете почетное место в кругу купцов и в мире вообще и, таким образом, станете полезны себе и своим друзьям. А сейчас прошу не обижаться на меня, но Вы чрезвычайно переоцениваете свои силы, мечтаете о своих невероятных достижениях и преимуществах, позволяете недопустимый тон и предъявляете абсурднейшие претензии, постоянно забывая при этом, что наши дела и без Вашего участия идут хорошо…»
Как бы там ни было, Шлимана не уволили – надо отдать ему должное, парень был дельцом способным и оборотистым. За два года поднялся от простого курьера до торгового агента, у которого в подчинении имелось целых пятнадцать писарей – значит, дела шли с размахом. Да вдобавок молодой человек самостоятельно выучил русский язык. Вот тут впервые в его биографии появляется достоверный «древнегреческий след»: русский Шлиман учил по книге «Приключения Телемака». Правда, язык он вызубрил не по причине романтического интереса к России – причины были насквозь практические, его хозяева вели широкие торговые операции в Санкт-Петербурге, и знаток русского был в цене. Что до морали, то как раз она чуточку подкачала. О чем сохранилось многозначительное свидетельство самого Шлимана, в 1848 года писавшего отцу: «Стоя у моего конторского столба с раннего утра до позднего вечера, углубившись в вечные размышления о том, как сделать мой кошелек тяжелее путем удачной спекуляции – все равно, в ущерб или в прибыль моему конкуренту или поручителю…»
Очаровательное признание, не правда ли? Аллах с ними, с конкурентами, но когда делец, не моргнув глазом, признается, что готов и своему поручителю нанести ущерб, лишь бы пополнить собственный кошелек, это его характеризует не с лучшей стороны. Шлиман, правда, долго и многословно рассуждает, что он теперь гораздо менее счастлив, чем в те блаженные времена, когда служил в лавке простым приказчиком – но это определенно чистейшей воды кокетство. Поскольку наш герой вовсе не собирается отказываться от «удачных спекуляций».
Наоборот. В полном соответствии с провозглашенными им самим моральными принципами Шлиман продолжал клевать по зернышку – и, в конце концов, отправился в Соединенные Штаты, чтобы урвать свою долю в разыгравшейся тогда «золотой лихорадке».
Боже упаси, он с самого начала не собирался лично мыть золото. Чересчур уж неблагодарной и опасной была профессия золотоискателя. Обо всех ее тяготах нет нужды рассказывать подробно, это блестяще проделали Джек Лондон и Брет Гарт. Достаточно упомянуть, что у Генриха Шлимана был перед глазами печальный пример его родного брата Людвига. Людвиг, младше Генриха на год, коммерческими талантами как раз не обладал, и потому выбрал участь рядового ловца удачи: на занятые у брата деньги купил лошадь, снаряжение и подался в Калифорнию. Иные области этого штата и в самом деле напоминают рай земной – но вот золото добывали в гораздо менее приятных уголках. Сохранилось письмо Людвига брату: «Здесь можно превосходно умереть! Необычайно резкий перепад температур вызывает у многих простуду. Первая половина ночи приятно теплая, затем спускается густой туман, а под утро стоит ледяной холод. Днем ужасно жарко, а с двенадцати до двух часов дня работать вообще невозможно. На руднике работают с рассвета до одиннадцати часов, потом идут в свою палатку, готовят еду, очищают золото и спят около часа. В половине третьего снова берутся за работу, и так – до заката. Я сильный и думаю, что смогу продержаться на руднике и в сезон дождей…»
Не продержался. Сначала дела у него шли более-менее прилично, за два месяца намыл золота на 420 долларов, что по тем временам было немаленькой суммой, но потом на переправе потерял и лошадь, и поклажу, простудился, подхватил тифозную лихорадку – и уже не оправился…
Должно быть, узнав о смерти брата, Шлиман произнес сквозь зубы что-нибудь вроде: «Мы пойдем другим путем…» Несомненно, если не сказал, то подумал. Наверняка ему было прекрасно известно к тому времени, что настоящие деньги крутятся вокруг золотодобычи, а не там, где надрывают жилы и уродуются простяги вроде Людвига.
Шлиман уходит из торгового дома, где занимал неплохое место, садится на пароход и плывет в Штаты с тридцатью тысячами долларов в кармане – как говорится, все, что нажито непосильным трудом…
Дальше снова начинаются сказки барона Мюнхаузена. Если верить Шлиману, он, едва прибыв в Вашингтон, послал свою визитную карточку ни много ни мало президенту США Милларду Филмору. В это-то как раз верить можно. Нет ничего трудного в том, чтобы сунуть посыльному доллар, свою визитку и распорядиться: «Парень, отнесика ее в Белый дом, живенько!»
А парень, если добросовестный, отнесет – не пройдя дальше третьего помощника младшего швейцара у черного хода…
Но вот дальнейшее! Как уверял впоследствии Шлиман, президент, получив его визитку, немедленно прислал за ним карету. «В семь часов я отправился к президенту Соединенных Штатов; я сказал ему, что желание увидеть эту великолепную страну и познакомиться с ее великими руководителями побудило меня предпринять эту далекую поездку из России и что я считаю своим первейшим долгом засвидетельствовать ему свое почтение. Он принял меня очень сердечно, представил жене и дочери. Я беседовал с ним полтора часа».
Более того, президент настолько очаровался заезжим немцем, что пригласил его на элитный званый вечер, где присутствовали аж восемьсот представителей американской тогдашней элиты.
В эти побрехушки плохо верили уже при жизни Шлимана, хоть иные доверчивые биографы до сих пор приводят эту историю, уже расцвеченную кучей живописных подробностей. На самом деле можно с уверенностью говорить, что Шлиман если и видел Белый дом, то только издали. Соединенные Штаты тогда были еще достаточно патриархальным уголком, но все же не настолько… Шлиману тогда едва-едва стукнуло двадцать девять, он, строго говоря, был никто и звали его никак. Никому не известный работник заурядного торгового дома, каких в Европе считать не пересчитать, и не более того. Его тридцать тысяч баксов в США уже в те времена никак не могли считаться настоящими деньгами в кругу подлинных воротил. Так что американский президент ни за что не стал бы уделять целых полтора часа такой мелкоте. Ну, а описанный Шлиманом прием на восемьсот вип-персон – тоже выдумка чистой воды. Историки, как ни рылись, не нашли в американских газетах того времени ни малейшего упоминания о столь крупном событии…
Вдобавок Шлиман по своей всегдашней привычке присочинил еще, что был свидетелем знаменитого пожара в Сан-Франциско 1851 года. Справедливости ради следует уточнить, что он все же не уверял, будто вытаскивал из огня беспомощных старушек и малых детушек – но въедливые исследователи давным-давно раскопали, что этот пожар случился за месяц до появления Шлимана в Сан-Франциско…
Зато бесспорным фактом мировой истории является то, что однажды в газете «Сакраменто Дейли Юнион» появилось следующее объявление: «Банковский дом Генри Шлимана (в каменном доме на углу Йотштрассе и Фронтиштрассе). Важен для торговцев и золотодобытчиков. Купит немедленно 3 тысячи унций лучшей чистой золотой пыли. 17 долларов за унцию. В обмен на золотые монеты или кредит в банке Дэвидсона – Ротшильда в Сан-Франциско, филиалы в США и Европе».
Как всегда у Шлимана, правда была перемешана с самой беззастенчивой брехней. В городе Сакраменто на углу помянутой улицы действительно располагалось заведение «Генри» Шлимана, пышно именуемое банковским домом. Подзаработав малость в Калифорнии ростовщичеством, Шлиман снял этот дом, приволок туда здоровенный сейф в три тонны весом, нанял кассира-американца и бравого испанца, чьей обязанностью было торчать поблизости с двумя кольтами за поясом (в Сакраменто, как и по всей тогдашней Калифорнии, нравы были самыми бесхитростными, и подобная фигура оказалась необходимым элементом бизнеса, особенно столь деликатного и приманчивого для криминальных элементов, как скупка золота).
А вот все остальное было брехней. Дэвидсон, правда, имелся в наличии – местный уроженец, вложивший в дело некоторую сумму. Но к знаменитому банкиру Ротшильду ни он, ни Шлиман не имели ни малейшего отношения, Ротшильд об этаких экзотических персонах наверняка и не слыхивал. Ежу понятно, что у рядовой золотоскупки не было и никаких филиалов, тем более в Европе.
Но для окружающих это, в принципе, не имело особого значения – добытое золотишко нужно же кому-то сдавать в обмен на звонкую монету? Народец к «Генри» потянулся.
Поскольку никто не станет заниматься подобным бизнесом из чистой благотворительности, вся фишка, как, быть может, кто-нибудь уже догадался, заключалась в том, что Шлиман принимал песочек и самородки по цене, которая была пониже рыночной – а вот продавал в более цивилизованных местах уже как раз по самой что ни на есть рыночной.
Бизнес был доходнейший, но опасный – то с честной рожей притащат вместо золота золоченую медь, то опасайся чего похуже. Сдается мне, Шлиман нисколько не преувеличивает, когда пишет, что на письменном столе у него постоянно лежала пара кольтов со взведенными курками – для тех мест и того времени дело совершенно житейское…
Менее чем за год «Генри» удвоил свое состояние – с тридцати тысяч долларов до шестидесяти…
А вот потом что-то грянуло – из-за чего Шлиману пришлось в лихорадочном темпе покинуть Соединенные Штаты, превратившись из Генри снова в Генриха…
В той же «Сакраменто Дейли Юнион» появилось скромное объявленьице: «Внимание! Банковское дело „Генри Шлиман и K°“ в Сакраменто-Сити передается сегодня Дэвидсону из Сан-Франциско и будет далее вестись им. Все бумаги будут переданы вышеуказанному лицу. Генри Шлиман и K°».
История туманнейшая. Иные восторженные апологеты Шлимана вообще представляют дело так, будто Шлиман уехал из Штатов без всякой причины. Просто так. Климат перестал нравиться, надоела американская привычка класть ноги на стол, перспективы у золотоскупочного бизнеса якобы потускнели…
На самом деле все было гораздо интереснее и грязнее. Всех подробностей мы уже никогда не узнаем, однако кое-какие предположения вполне можно строить, и достаточно обоснованно. Сам Шлиман в своем американском дневнике упоминает «серьезные кассовые ошибки, которые я полностью отношу на счет нечестности моих служащих». Правда, из Америки срочно слиняли отчего-то не эти самые нерадивые служащие, а сам Шлиман.
Биограф «великого археолога» (из невосторженных) написал достаточно деликатную фразу: «Из писем явствует, что Дэвидсон обвинил Шлимана в манипуляции со взвешиванием золота с целью повышения прибыли». Вот тут уже начинается простор для размышлений. Неужели прожженный делец Дэвидсон был настолько святым человеком, что протестовал против обвешивания Шлиманом клиентов? Зная предшествующую (и будущую) биографию Шлимана, помня о его письме папеньке, где наш герой без малейшей застенчивости излагает свои взгляды на деловую этику, гораздо логичнее будет предположить, что в результате забав Шлимана с весами его компаньон Дэвидсон, выражаясь культурно, не все знал об истинных размерах прибыли… А за подобные забавы с измерительными приборами в Калифорнии могли и кольт в дело пустить. Ничего удивительного, что человек вроде Шлимана в срочном порядке бросил выгоднейший бизнес и поскорее расстался не только с Калифорнией, но и с Новым Светом…
Дальнейшая деятельность Шлимана, на сей раз в России, уже именуется не спекуляцией. Тут кое-что посерьезнее…
Громыхает Крымская война, и Шлиман, как деликатно выражаются его биографы из восторженных, «поставляет» в Россию свинец, селитру и порох. Правда, идут эти товары, как бы это помягче выразиться, нестандартными путями. Российские порты в блокаде, нормальная торговля прекратилась. В общем, очень многие сограждане Шлимана впоследствии называли вещи своими именами, публично уточняя, что Шлиман занимался контрабандой. Подобных высказываний было множество – и Шлиман, что характерно, так ни разу никого и не потащил в суд за клевету, хотя вроде бы имел к тому все основания.
Точно та же деликатность присутствует в скупых сообщениях о том, что Шлиман «занимался поставками хлопка из США в Европу». Занимался, конечно – в те бурные времена, когда в США вовсю полыхала Гражданская война и северяне блокировали южные порты (хлопок, если кто помнит, произрастает исключительно на юге Штатов). Так что деятельность Шлимана снова, как и во времена Крымской войны, подпадала под неприглядное понятие «контрабанда». Кому война, а кому мать родна. Деньги не пахнут. И так далее, можно шпарить по Далю…
Примерно в то же время в Санкт-Петербурге состоялся затянувшийся на несколько лет судебный процесс – некий русский купец Соловьев обвинял Шлимана в неких ужасающих злоупотреблениях. Процесс закончился выигрышем Шлимана – но, как говорится в известном анекдоте, ложечки нашлись, а осадок остался. Вот если бы речь шла о ком-нибудь другом, не о Шлимане, можно было бы безоговорочно верить решению суда, но в нашем случае в голову поневоле лезут всякие глупости касаемо прохвостов-миллионеров и их умения влиять на суд специфическими аргументами. Точнее, увы, выразиться невозможно – упоминания об этом процессе скупейшие и отрывочные, даже о сути обвинений ничего неизвестно (хотя где-то в архивах наверняка покоятся соответствующие бумаги, никому теперь не нужные)…
Чуть позже Шлиман, по своему всегдашнему обыкновению, снова малость покуролесил – будем и мы, подобно восторженным биографам великого самоучки-археолога, применять изящные обороты, хотя бы время от времени.
А впрочем, точности ради следует упомянуть, что речь идет о забаве под названием «лжесвидетельство под присягой» – каковая практически во всем мире считается не забавой вовсе, а уголовно наказуемым деянием. Ну, что поделать, Шлиман всегда был выше грубой прозы…
Но мы, кажется, забежали вперед. Нужно отступить немного во времени, чтобы кое-что прояснить.
К тому времени Шлиман был, во-первых, женатым человеком, а во-вторых, доктором философии Ростокского университета. Сначала – о женитьбе. Избранницей Шлимана в свое время стала петербургская красавица Екатерина Лыжина из весьма зажиточной купеческой семьи. Брак с годами расстроился по причине, для нашего времени обыденной, а для того исторического периода – весьма даже экзотической. Из сохранившейся переписки можно без особых натяжек сделать вывод, что супруга Шлимана оказалась лесбиянкой, и отнюдь не в теории, а на практике.
Вообще-то в данном конкретном случае герру Шлиману следовало бы по-мужски посочувствовать, но, откровенно признаюсь, нет никакого желания. Очень уж… специфической он был персоной, деликатно выражаясь. Ничего удивительного, в общем, что и с женой так обернулось. Чего ни коснись у Шлимана, вечно будет то грязь, то что-то дурно пахнущее…
Так, кстати, обстояло и с его дипломом доктора философии. Новоиспеченный доктор никогда не заканчивал не то что университета, но даже гимназии. Он, правда, уже отойдя от дел, проучился два семестра в парижской Сорбонне, но этого, согласитесь, маловато, чтобы во мгновенье ока стать доктором философии – особенно если в этой науке не проявил себя совершенно ничем, даже статейки в пару страниц не напечатал…
Ларчик открывался просто: «удалившийся на покой» миллионер уже твердо решил к тому времени плотно заняться археологическими раскопками – и не без оснований подозревал, что его, несмотря на все миллионы, ученый мир попросту не воспримет всерьез. «Миллионер с начальным образованием? Что, еще целых два семестра Сорбонны? Ха-ха…» Позарез требовалась какая-нибудь внушающая уважение блямба. «Археологические открытия, совершенные господином Шлиманом, доктором философии Ростокского университета…» Совсем другой коленкор, а?
Как все это было обстряпано? Да довольно просто, если знать ходы-выходы и нужных людей. Двоюродный брат Шлимана, советник юстиции Адольф Шлиман, был известным и уважаемым в Шверине (где располагался Ростокский университет) адвокатом. И многих важных господ из университета прекрасно знал.
Завертелось. Все было проделано практически молниеносно. Шлиман отправил декану университета две своих книги, которые к тому времени успел написать: «Китай и Япония» и «Книга по археологии об Итаке, Пелопоннесе и Трое». К философии обе не имели ни малейшего отношения. Первая была не более чем путевыми заметками, сделанными Шлиманом после турне по указанным странам, а вторая посвящена его собственным рассуждениям на тему о том, где следует искать гомеровскую Трою.
Негусто, конечно. Однако декан философского факультета герр Карстен был большим приятелем Адольфа Шлимана, как и специалист по античности профессор Бахман. Оба горячо выступили за присвоение соискателю докторской степени, в чем были поддержаны всей профессурой университета. Какие именно аргументы на профессуру воздействовали, были ли они круглые и золотые или бумажные с радужными разводами, приятно похрустывающие, останется тайной. Но в том, что аргументы были как нельзя более вещественными, сомневаться не приходится.
Все происходило заочно. Шлиман в университете так и не появился и никого из ученых мужей в глаза не видел. Не было никакой необходимости, все и так прошло как по маслу. Правда, ученые господа все же сделали попытку соблюсти внешние приличия. Карстен писал в своем отзыве: «Первый труд представляет собой описание одного из путешествий и, видимо, может заслуживать несколько меньшего внимания, нежели второй, посвященный археологии, дать оценку которому я уполномочил господина Бахмана».
Господин Бахман тоже жеманился, как ветреная девица, которая ничего не имеет против того, чтобы прогуляться на сеновал с бравым гусаром, но предварительно пищит, потупя глазки: «За кого вы меня принимаете, поручик? Я не такая!» Потом, правда, на сеновал все же идет.
Профессор Людвиг Бахман, без сомнения, сочился скрытой иронией: «Менее убедительно выглядят результаты исследований, проведенных автором, касающихся местоположения Трои, двух протекающих в исследуемом районе рек и местоположения древнего Илиона. Солидное самостоятельное исследование, проведенное автором, снабженное многочисленными ссылками на соответствующие места „Илиады“, изложено в весьма доступной и легкой для понимания форме. Однако здесь он, несомненно, заблуждается…»
Об автобиографии Шлимана Бахман тоже высказывался с явным сарказмом: «Работа, написанная по-французски, читается очень хорошо, поскольку автор в совершенстве этим языком владеет… на латыни в целом может быть оценена, несмотря на отдельные языковые огрехи, как весьма удовлетворительная (Шлиман представил автобиографию на трех языках. – А.Б.); однако перевод оной на древнегреческий лучше бы отсутствовал вовсе, ибо очевидные затруднения автора при построении фраз и употреблении некоторых слов свидетельствуют о том, что соискатель не владеет в достаточной мере синтаксисом и не обладает умением выразить законченную мысль в античной форме».
Вслед за этим Бахман без всякой логической связи с предыдущим именовал Шлимана «самоучкой высоких природных дарований» и высказывался за присвоение ему докторской степени. Точно так же считали и остальные шесть университетских профессоров. Восемь ученых мужей изучали представленные Шлиманом работы прямо-таки стахановскими темпами и уже через четыре дня вынесли вердикт: достоин! Другие претенденты на отзыв, настоящие ученые, ждали месяцами …
Вскоре Генрих Шлиман получил право официальнейшим образом именоваться «доктор философии и изящных искусств». Это радостное известие настигло его, когда он уже пребывал в США, куда отправился, чтобы именно на американской земле заочно развестись с ветреной супругой, предпочитавшей ему некую загадочную «мадам Р.», чья личность, очень похоже, навсегда останется тайной для истории.
Почему в Америку? Да как раз потому, что согласно тамошним законам гражданин США мог именно что заочно развестись с супругой, тем более иностранной подданной…
Стоп, стоп, воскликнет иной эрудит. Какое еще американское гражданство, если Шлиман до сих пор был российским подданным?
Другой эрудит может добавить еще: согласно законам США того времени стать американским гражданином можно было двумя путями – либо предъявив выданное федеральными властями свидетельство о рождении на территории США (а откуда оно у Шлимана, уроженца немецкого Мекленбурга?), либо представить заслуживающего доверия свидетеля, понятно, гражданина США, который подтвердит, что данный господин прожил в Штатах требуемые законом пять лет. Шлиман же обретался в свое время в США немногим более года…
Однако, господа мои, не забывайте о звенящих и шуршащих аргументах! Буквально через два дня после того как Шлиман прибыл в Штаты, некий почтенный житель Нью-Йорка по имени Джон Болан явился к судье и с честными глазами заявил под присягой, что прекрасно ему известный мистер Генри Шлиман прожил в США аккурат пять лет, из них последний год – в штате Нью-Йорк. В чем он, Болан, клятвенно и расписывается.
В тот же день Шлиман получил американское гражданство. Он переехал в штат Индиана, где якобы намеревался жить постоянно и, не мешкая, нанял трех адвокатов, чтобы вести дело о разводе. С ними «мистер Генри» заключил интересное соглашение: если они добьются успеха, получат на троих пятнадцать тысяч долларов (за тысячу долларов тогда можно было купить приличный домик), а если проиграют, получат, опять-таки на троих, всего двести баксов…
Работа закипела. Для пущей надежности придумали, что Шлиман не просто гражданин США, а еще целый год прожил в штате Индиана (психологический подтекст: почтенный домовладелец из Индианы хочет развестись с какой-то заморской вертихвосткой). Повторилась нью-йоркская история: в суде объявился некий фермер (с честнейшими глазами, понятно) и, положив руку на Библию, уверенно заявил: ну как же, мистер Генри у нас целый год прожил, как его сосед клянусь…