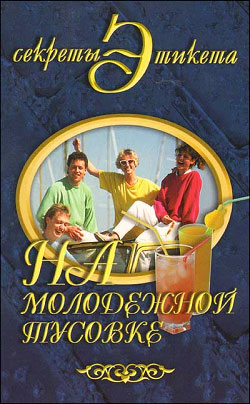Мои враги (сборник) Токарева Виктория

– Да. Она попросилась, – сказала Раиса.
Корольков взял историю болезни. Полистал.
– Попросилась... У нее же гемоглобин сорок пять. – Он с брезгливостью посмотрел на Раису.
– Поднимет естественными витаминами.
У Раисы были широкие брови и бегающие, высматривающие выгоду глаза – как у хищника. У куницы, например. Или хоря. Хотя Корольков никогда не видел ни куницу, ни хоря.
«Такая под машину не попадет, – подумал он. – И с машиной не перевернется».
Вошел Анастасьев. Посмотрел на Королькова и спросил:
– Иван, ты что, волосы красишь?
– В какой цвет? – спросил Корольков.
– Не пойму. Только они у тебя потемнели.
– Это я побледнел. Лицо поменяло цвет, а не волосы.
– Хочешь, я вырежу тебе твою язву. По знакомству?
– Спасибо. Не хочу, – глухо ответил Корольков.
Маргарита Полуднева стояла как кость в горле. Ни проглотить, ни выплюнуть. Он вдруг понял, что задохнется, если не увидит ее.
Прочитал адрес на титульном листе истории болезни. Спросил:
– Кто такой Вавилов?
– Какой Вавилов? – не понял Анастасьев, думая, что речь идет о больном.
– Улица Вавилова, – объяснил Корольков.
– Революционер, наверное, – подсказала Раиса.
– А может, ученый, – предположил Анастасьев. – А что?
– Ничего, – ответил Корольков. И Анастасьев удивился несовпадению его лица со смыслом беседы.
Маргарита Полуднева лежала у себя дома на своем диване, а перед ней сидела подружка Нинка Бочарова – загорелая, здоровая, с лицом, поблескивающим в полумраке. Она только что вернулась из командировки в Иркутск и пребывала в состоянии полного раздрызга. Тот факт, что погиб Гоча, которого Нинка знала, и Марго чуть не погибла, произвел на Нинку впечатление сильное, но кратковременное. Страдания Марго, равно как и Гочи, остались позади, а ее, Нинкины, страдания были в настоящем и состояли в том, что ее талантливый муж снова запил после трехлетнего перерыва. К тому же чужие страдания были с чужими людьми, а ее – с ней. И Нинке хотелось говорить, чтобы выговориться и облегчить душу, чтобы душа стала полегче и ее не так тяжело было в себе носить.
– Он обещает, клянется. Я каждый раз верю. А потом все сначала.
На Нинкином лице стоял ужас. Ее пугала бессовестность, разлитая в мире и направленная на нее.
– Я просто не знаю, как мне жить. Я не уверена в завтрашнем дне. И даже в сегодняшнем вечере. Я живу, как партизан, – перебежками.
Марго не поняла, и это непонимание отразилось на ее лице.
– Ну, партизан на открытой местности. Пробежит, упадет. Вот это и есть моя жизнь.
– Почему партизан? Солдат под обстрелом.
– Ну не важно! Все равно война. Это какой-то ужас. Я не выдержу.
– А ты его лечи.
– Я уже лечила. Даже в Бурятию ездила, к буряту. За травами. Все бесполезно. Можно только бросить.
– Ну брось!
– Не могу. Я его люблю. Все остальные – амбалы рядом с ним.
– Амбал – это что?
– Не знаю. Сарай. Или плита бетонная... Что мне делать?
– Ничего не делать, – сказала Марго. – Никогда хорошо не жили, и нечего начинать. Как там Иркутск?
– В Доме декабристов была. И на кладбище.
– Я скучаю по этому времени, – поделилась Марго. – Я скучаю по декабристам.
– Да уж, – согласилась Нинка. – Тогда слово, данное другому, что-то значило. Тогда были другие мужчины.
– И другие женщины.
– Женщины не меняются, – возразила Нинка. – Они всегда женщины. Ну ладно... Я тебе завтра позвоню.
Она ушла, забыв сигареты и свое отчаяние. Отчаяние осталось в комнате. Марго вдыхала его. Болела грудь. Корольков стоял перед глазами: неровный срез переднего зуба, два голубых окна в тревожный мир... Захотелось встать, одеться и поплестись к нему куда бы то ни было: в больницу, домой... Но она никуда не пойдет. Она себя знает.
Раздался звонок в дверь. «Это Нинка, за сигаретами», – подумала Марго. Трудно поднялась. Открыла дверь.
В дверях стоял Корольков. Он что-то проговорил, но она не расслышала, различила только глуховатый голос, бубнящую интонацию. Качнулась к нему, и в грудь под ребра вошел нож. Она и раньше слышала: пронзила любовь, но думала, что это просто красивые слова. Оказывается, правда.
Марго смотрела, всматривалась в его лицо. В своей жизни она не видела ничего более красивого, чем это склоненное к ней лицо. Произведение Божьего искусства. Подлинник.
– Тебе больно?
Было больно от ножа, который стоял в солнечном сплетении. На глазах выступили слезы.
Он целовал ее в глаза. Потом в губы. И она слышала вкус собственных слез.
– Ты когда меня полюбила?
– Я? Сразу. А ты?
– И я сразу.
– А чего воображал?
– Побаивался.
– Чего?
– Я старый, нищий и больной.
– Ну и пусть!
– Это сейчас «ну и пусть». А дальше?
– Не надо заглядывать вперед. Не надо ничего планировать. Один уже планировал...
– Кто?
– Не важно кто... В истории много примеров. Гитлер. Наполеон.
– Ты любила до меня?
– Сейчас кажется, что нет.
– Я прошу тебя... Пока мы вместе, пусть у тебя больше никого не будет...
– Мы всегда будем вместе. Не бойся ничего. Настоящий мужчина не должен бежать от любви. Не должен бояться быть слабым, больным и нищим.
– Я не настоящий. Ты принимаешь меня за кого-то другого. Ты меня не знаешь.
– Это ты себя не знаешь. Ты сильный и талантливый. Ты самый лучший из всех людей. Просто ты очень устал, потому что жил не в своей жизни. Ты был несчастлив.
– Почему ты так решила?
– А посмотри на себя в зеркало. Такого лица не бывает у счастливого человека.
– Да?
– Такое впечатление, что ты прожил всю свою прошлую жизнь и живешь по инерции. По привычке жить.
– Ты еще молодая. У тебя нет привычек. Они тебя не тянут.
– У меня есть привычка к одиночеству.
– Ты его любишь?
– Что?
– Одиночество.
– Разве одиночество можно любить?
– Я любил до тех пор, пока не встретил тебя. А сейчас понимаю, что был по-настоящему нищим.
– А я знаю, какой ты был маленький.
– Какой?
– Такой же, как сейчас. Ты и сейчас маленький, поседевший от ужаса ребенок. И говоришь, бубнишь, как дьячок на клиросе. Тебя, наверное, в школе ругали.
Стучали ходики. Иван закрыл глаза и вспомнил себя маленьким. Как давно началась его жизнь. И сколько еще протянется...
Марго обтекала его, как река, заполняя все изгибы, не давая проникнуть ни боли, ни сквозняку.
– Ты о чем?
– Я счастлив. Так спокойно на душе. В самой глубине так тихо. Вот все, что человеку надо. Тишина на душе и преданная женщина с легкими руками.
– И морщинами, – добавила Марго.
– И морщинами, которые ты сам навел ей на лицо. Морщинами от слез и смеха. Ты делал ее счастливой – она смеялась. Делал несчастной – плакала. Так и должно быть: мужчина берет молодое лицо в начале жизни и расписывает по собственному усмотрению.
– А если уже до тебя расписали?
– Все сотру, что до меня.
– Ты меня не бросишь?
– Нет. А ты меня?
– Я – твоя собака. Я буду идти за твоим сапогом до тех пор, пока ты захочешь. А если не захочешь, я пойду на расстоянии.
– Не говори так...
Они переплелись руками, телами, дыханием. И уже невозможно было их распутать, потому что непонятно – кто где.
– Ты куда?
– Взять сигареты.
– Я с тобой.
– Подожди меня.
– Не могу ждать. Я без тебя не могу.
– Ну подожди!
– Не могу. Честное слово.
– Ну посчитай до десяти. Я вернусь.
Он встал и вышел.
Марго начала считать:
– Раз... два... три... четыре... пять...
Когда он вернулся, Марго стояла посреди комнаты и смотрела на дверь. От ее наготы исходил легкий свет, потому что она была самым светлым предметом в комнате. Он подошел и сказал:
– Ты светишься. Как святая.
– Не уходи больше никогда и никуда, – серьезно попросила она.
Он смотрел в ее лицо. Она казалась ему замерзшей перепуганной дочерью.
Марго проснулась оттого, что он целовал ее лицо.
Она открыла глаза и сказала с сильным страхом:
– Нет!
– Что «нет»?
– Я знаю, что ты хотел сказать.
– Что?
– Что тебе надо идти на работу.
– Действительно. А как ты догадалась? Ты что, телепат?
– По отношению к тебе – да. Я пойду с тобой.
– Куда? В операционную?
– Я сяду внизу на лавочке и буду смотреть на окна, за которыми ты стоишь.
– Я кого-нибудь зарежу. Я должен принадлежать только больному. А ты будешь оттягивать. Понимаешь?
Марго тихо заплакала, наклонив голову.
– Я не могу уйти, когда ты плачешь.
– Я плачу по тебе.
– По мне? – удивился Корольков.
– Мне так жаль оставлять тебя без себя. Я боюсь, с тобой что-то случится...
– Интересно... Кто здесь врач, а кто больной?
Марго поднесла ладони к ушам.
– В ушах звенит...
– Это малокровие.
– Нет. Это колокола. По мне и по тебе.
– Что за чушь?
– Ты больше не придешь...
– Приду. Я приду к тебе навсегда.
– Когда?
– Завтра.
– А сегодня?
– Сегодня у Оксаны день рождения. Шестнадцать лет. Росла, росла и выросла.
– Большая...
– Да. Большая. Но и маленькая.
– Мне страшно...
– Ну почему? Ну хочешь, пойдем со мной...
– Нет. Ты кого-нибудь зарежешь. Я буду виновата. Я тебя здесь подожду. Посчитаю до миллиона.
– Не считай. Займись чем-нибудь. Найди себе дело.
– А у меня есть дело.
– Какое?
– Я люблю.
По дому плавали запахи и крики. Надежда накрывала стол и ругалась с Оксаной, которая находилась в ванной и отвечала через стену. Слов не было слышно, но Корольков улавливал смысл конфликта. Конфликт состоял в том, что Надежда хотела сидеть за столом вместе с молодежью, а Оксана именно этого не хотела и приводила в пример других матерей, которые не только не сидят за столом, но даже уходят из дома. Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного стола и всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как прислуга.
Корольков лежал у себя в комнате на своем диване. Болело сердце, вернее, он его чувствовал, как будто в грудь положили тяжелый булыжник. Он лежал и думал о том, что вот уйдет, и они будут ругаться с утра до вечера, потому что Оксана не умеет разговаривать с матерью, а Надежда – с дочерью. Она воспитывает ее, унижая. И они зажигаются друг о друга, как спичка о коробок.
Корольков знал по себе: от него тоже можно чего-то добиться только лестью. Никаких правд. А тем более – унижений. Лесть как бы приподнимала его возможности, и он стремился поднять себя до этого нового и приятного ему предела.
Отворилась дверь, и вошла Оксана в новой кофте в стиле «ретро», или, как она называла, «ретруха». Хорошо исповедовать «ретруху» в шестнадцать лет.
– Пап, ну скажи ей, – громко пожаловалась Оксана. – Чего она мне нервы мотает на кулак?
– Как ты разговариваешь с матерью? – одернул Корольков.
– Ну, пап. Ну чего она сядет с нами? Я все время буду в напряженке. Она вечно что-нибудь ляпнет, что всем неудобно...
– Что значит «ляпнет»?
– Ну не ляпнет. Поднимет тост за мир во всем мире. Или начнет обращать на меня внимание... Или начнет всем накладывать на тарелки, как будто голод...
– Ты не голодала, а мы голодали.
– Так это когда было. Сорок лет назад голодала, до сих пор наесться не может. Хлеб заплесневеет, а она его не выбрасывает.
– Довольно-таки противно тебя слушать, – объявил Корольков. – Ты говоришь, как законченная эгоистка.
– Ну извини... Но ведь мой день рождения. Мне же шестнадцать лет. Почему в этот день нельзя сделать так, как я хочу?
Корольков посмотрел на ее чистенькое новенькое личико с новенькими ярко-белыми зубами и подумал, что ее перелюбили в детстве и теперь придется жать то, что посеяли. Он понимал, что нужен был дочери не тогда, когда носил ее на руках и посещал в пионерском лагере. Носить и посещать мог любой добрый дядя. А именно теперь, в шестнадцать лет, когда закладывается фундамент всей дальнейшей жизни, – именно теперь нужен родной отец. И не амбулаторно, как говорят врачи, – пришел, ушел. А стационарно. Каждый день. Под неусыпным наблюдением. Чтобы не пропустить возможных осложнений. А осложнения, как он понимал, грядут.
Позвонили в дверь. Оксану сдуло как ветром вместе с ее неудовольствием, и через секунду послышался ее голос – тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. С ней было все в порядке. Впереди праздник, и жизнь – как праздник.
Корольков представил себе Марго, как она там сейчас сидит и считает. Не живет, а отмеряет время. И понял, что сначала искалечил ее тело, а теперь душу. Сшиб ее на дороге. Хотя и не нарочно. Еще не хватало, чтобы нарочно.
Сердце рвануло и заломило. Боль пролилась в плечо и под лопатку.
Корольков поднялся и пошел на кухню.
Из комнаты Оксаны доносился галдеж.
– Мам! – крикнула Оксана. – Сделай нам вареньевую воду.
Надежда достала из холодильника банку засахаренного сливового варенья. Еще было клубничное варенье, но Надежда не расходовала его на гостей, а хранила для внутреннего пользования.
Корольков знал от Раисы, что Надежда звонила ночью в больницу и выяснила, что его там нет. Если его нет в больнице и нет дома, значит, он где-то в третьем месте. И Надежде, как жене, было бы естественно поинтересоваться, что это за третье место. Но она молчала – так, будто ничего не произошло.
– А ты хитрая, – сказал Корольков.
– Дай мне сахар, – велела Надежда и посмотрела на него. И он увидел ее глаза – серые, дождистые, без ресниц. Какие-то ресницы все же были – редкие и короткие, как выношенная зубная щетка. Корольков давно, вот уже лет десять, не глядел на свою жену. А сейчас он ее увидел. И содрогнулся от ненависти. И именно по этой ненависти понял, что никуда не уйдет. Если бы он решил уйти, то пожалел бы Надежду и увидел ее иначе.
– А ты хитрая, – повторил он, держась за сердце.
– Я старая, – ответила Надежда.
– Ты не всегда была старая.
– С тобой я с тридцати пяти лет старуха.
– Но ты всегда знала, что делала. Ты заворачивала меня, как мясо в мясорубку, и получала тот продукт, который хотела.
– Тише, – попросила Надежда. – У нас люди. Что они о нас подумают?
– За что ты меня так? Что я тебе сделал?
– Не вали с больной головы на здоровую. Я всегда все делала так, как ты хотел. И продолжаю делать, как ты хочешь.
– Я так не хочу.
– Конечно. Ты хочешь все сразу. Все себе разрешить и ни за что не отвечать. Кентавр!
– Кто? – удивился Корольков.
– Кентавр – полуконь-получеловек. А ты – полустарик-полудитя.
– Очень хорошо! – обрадовался Корольков. – Я ухожу.
– Иди! – спокойно ответила Надежда, и он поразился – насколько просто разрешаются, казалось бы, неразрешимые проблемы.
Корольков вышел в прихожую. Оделся и пошел из дома.
На третьем этаже он вспомнил, что забыл бритву и фонендоскоп. И поднялся обратно.
– Я забыл фонендоскоп, – объяснил он.
– Бери, – сказала Надежда.
Корольков взял свой старый, видавший виды портфель, который он приобрел в Чехословакии во время туристской поездки. Бросил туда бритву в чехле и фонендоскоп.
– До свидания, – сказал он.
Надежда не ответила.
Корольков вызвал лифт. Спустился вниз и вспомнил, что ничего не объяснил Оксане. Он вернулся.
– Я ничего не сказал Оксане, – объяснил он, стоя в дверях кухни.
– Скажи, – разрешила Надежда.
Корольков заглянул в комнату.
Девочки и мальчики сидели вокруг стола. Некоторых он знал – Федотову и Макса.
– Ты со своими тостами как грузин, – сказала Федотова.
– Я не «как грузин». Я грузин, – поправил Макс.
– Грузины берегут традиции потому, что они маленькая нация, – объявила Оксана.
– Грузины берегут традиции потому, что они берегут прошлое, – ответил Макс. – Без прошлого не бывает настоящего. Даже кометы не бывают без хвоста.