О любви (сборник) Токарева Виктория
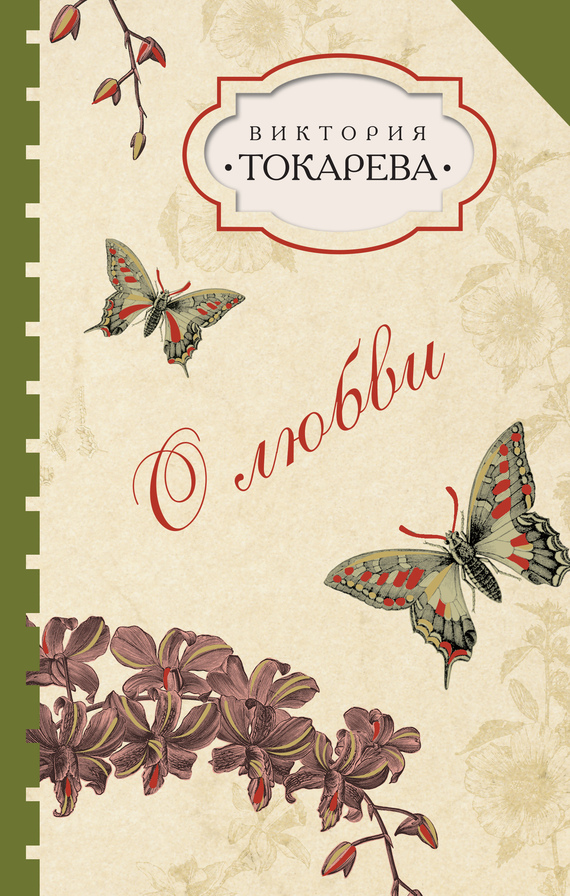
Бочаров вспомнил, как обходились, выкручивались коллеги-международники. Шурик Цыганов — с легкостью. Он был жадный человек. За границей все жадные, но Шурик обладал какими-то особыми талантами по этой части. Однажды упал в голодный обморок, как первый нарком пищевой промышленности. Но тот — от честности, этот — от жадности. Он мог бы умереть за деньги. Деньги — его идея, как свобода для Спартака. Если бы ему сказали: «Шурик, на миллион и выскочи с шестнадцатого этажа». Долго бы думал. Не сразу согласился. Все же думал. И выпрыгнул. Умирают же за идею.
Юра Крюкин — тихий человек в большом чине — не любил политику, прятался от нее за хрупкую спину Марины Цветаевой. Каждый день ходил в библиотеку, заказывал нужные книги, собрал все иноязычное творчество Марины Цветаевой, включая ее переписку на немецком языке. Собрал, откомментировал — получилась большая рукопись.
Крюкин не может бросить работу, его некем заменить. Оказывается, есть незаменимые. Незаменимый Крюкин мечтает стряхнуть с себя Запад и Восток, вернуться в родную Москву, а вернее, под Москву, на дачу, к деревьям, птичкам, к письменному столу. Но это можно только по выходе на пенсию. Настоящая жизнь начнется с шестидесяти.
Бочарову вдруг мучительно захотелось другой участи. Все бросить, уйти на вольные хлеба. Зачем врать индийцам, когда можно говорить правду своим. А сможет? Не разучился за двадцать лет? Это у индийцев двадцать лет — миг. А у него — половина сознательной жизни. Лучшие годы — на что потратил? На соковыжималку «Мулинекс».
Бессонница набирала силу. Мысли рвались, жевались, как советская магнитофонная пленка. Ни с того ни с сего вспомнилось, как комитетчик Боря Мамин увез жену у всех на виду. Открыл дверцу машины, сказал:
— Нина, поехали.
И она села в его машину и укатила. А все стояли во дворе и смотрели — русские и индийцы, шофер Атам и нянька — старая бенгалка, и все его бюро в полном составе. Все видели, как один белый господин увез у другого жену.
Комитетчики — каста неприкасаемых. Но в ином смысле, чем у индийцев: неприкасаемые работают в туалетах, к ним нельзя прикоснуться — противно. А к Боре Мамину нельзя — потому что нельзя.
Жена вернулась довольно быстро, через час. Хотя за час — он это знал — можно успеть многое. Жена сказала, что посидели в кафе. Никто не видел, как она вернулась, к этому времени все разошлись. Но все видели, как она уезжала. Бочарову казалось, что на него стали поглядывать иначе, чем раньше. Не в глаза, а чуть выше, на темя, где у молодых бычков зачинаются рога.
Жена обиженно таращила на Бочарова голубые глазки. Они были некрупные, но поразительно ясного, чистого тона. Сама ясность и чистота.
Потом Боря Мамин стал к ним заходить. Они даже подружились, Боря даже пытался приторочить Бочарова к своим делам, но Бочаров не стал приторачиваться. Он — средство массовой информации, и с него хватит простого вранья. Боря не настаивал. Дружбе это не повредило. Но Бочаров знал цену такой дружбе: у них могли быть самые искренние отношения, но если НАДО для дела, Боря мог в одночасье зачеркнуть и Бочарова, и его жену, и голубые глаза бы не спасли. НАДО — для таких, как Боря Мамин, — выше общепонимаемой человеческой морали. Если надо, он может мгновенно выключить прежние чувства и включить другие, как телевизионные программы. Раз! И уже другое изображение. Был концерт, стал футбол. Или ничего не стало. Какая-то неведомая Бочарову надчеловеческая или подчеловеческая мораль.
Но Мамин в отличие от Бочарова ни в чем не сомневался. Он верил в свое дело, а значит — в свою жизнь.
В спичечном коробке зашуршало. Бочаров поднял голову, прислушался. Может быть, от Бочарова шли волны бессонницы и это мешало заснуть божьей коровке. А может — коровка мешала Бочарову. Не спала, волновалась за детей и за родителей: не склевали ли их воробьи или вороны?
Бочаров посмотрел на часы. Четыре часа. Надо бы выключить лампу, но жалко коровку. Бочарову всегда кого-то жалко, только не себя. Это у него наследственное. От мамы. Бочаров положил на глаза рубашку и стал считать. На счете тридцать семь — точно знал. Его город — не мертв. В одном из колодцев есть хрустальная вода. Ее зовут Маша. О ней никто не знает, но она есть.
Маша — журналистка, молодая, коротенькая, как кочерыжка, с личиком ангела Возрождения. Умная, как мужик, и простодушная, как ребенок. Всему верит, будто вчера на свет родилась. Бочаров любит ей пожаловаться, это у них называется «булькать». Он булькает — она слушает, внемлет, сострадает до конца и душу свою подставляет, как таз. Хочешь — соверши омовение над сим сосудом. Хочешь — вытошни все, что в тебе лишнее. Примет — и будет счастлива, что тебе легче. Будет заглядывать в глаза.
Приходится, правда, удирать с работы. Опять врать: дескать, пошел на интервью или в библиотеку. Удирал, как правило, после обеда. В два часа. А вернуться домой надо в семь. Жена ждет, смотрит на часы. Если опоздаешь — не разговаривает, и духота в доме, как перед грозой. Дышать нечем. Однажды заявила: если что — отравится. У нее уже все приготовлено и спрятано в заветном месте. Бочаров отмахнулся: не говори ерунды. Но испугался. Знал — может. Войдет в запой и отравится. Назло ему, себе. Она такая. Максималистка. Ей все — или ничего. Войдет в черную спираль, откуда выход только один — в космос. И тогда — как жить? Как смотреть в глаза сыну? Поэтому лучше не опаздывать и возвращаться в семь. Чтобы попасть домой в семь, надо уйти от Маши в шесть. В пять Бочаров начинает поглядывать на часы, и настроение портится от скорой разлуки. Но с двух часов, когда едет к Маше, и до пяти три часа — ПРАВДА. Он говорит, говорит… Булькает обо всем: о том, что поменяет работу, уйдет на вольные хлеба, станет настоящим журналистом. Он обязательно вырвется из мертвого города и побежит, побежит… И ветер в лицо. Маша слушала и дышала этим новым ветром. Он накалывал ее, как стрекозу на иглу. И она трепетала и погибала. И улетали оба в ПОКОЙ — вся энергия уходит из человека, он умирает, душа высвобождается и летит. Этот полет и покой знают только что умершие люди: какое-то особое чувство освобождения, радостного растворения, слияния с космосом. Недаром индийцы обожествляют любовь.
Они лежали на самом дне Покоя. Потом она говорила: «Я люблю тебя». Он отвечал: «Я люблю тебя». Это был не диалог:
— Я люблю тебя.
— И я люблю тебя.
Это была перекличка. Позывные в космосе:
«Я люблю тебя…»
«Я люблю тебя…»
Правда. Бочаров чувствовал ее каждым своим человеческим слоем. Почему нельзя так жить всегда? Во всем. Почему он всегда чего-то боится? Врут, когда боятся. Чего? Что семья останется без средств, что друг обидится, жена отравится. Он учитывал всех, кроме себя. С этим ничего не поделаешь. Такая же была мама — жена Юхима, девушка из белорусского села. Ей казалось — все умнее ее, все больше знают. Хуже ее только кошка. И та не хуже.
Бочаров вспомнил, как умерла его мама. Хотя что значит «вспомнил». Он не забывал об этом никогда. У мамы появилась изжога. Районный врач предложил сделать рентген желудка. Мама панически боялась кабинетов и процедур, но неудобно было возразить врачу. Он может воспринять это как недоверие. Мама пришла в назначенный день. Хамоватая медсестра протянула пол-литровую банку с барием. Мама не могла пить барий, ей казалось, что это разведенный зубной порошок. Она замешкалась. Медсестра открыла рот, но в этом случае правильнее сказать — разинула хавальник, как говорит его сын. Молодежный сленг. Хавать — значит, жевать. Рот у таких людей только для пережевывания и хрюканья, как у свиней. Но свиньи — более человечны. Они не притворяются людьми.
Короче говоря, медсестра разинула хавальник на тему: больных много, а она одна, и каждый будет кочевряжиться, а она должна выдерживать за копейки. При этом глаза ее были набиты злостью, как стеклами, и волны ненависти окатывали маму.
Мама смутилась, что позволяет себе такое антиобщественное поведение. Ей стало жалко медсестру, и, чтобы не загружать собой, она поднесла банку ко рту. Мама знала, что не сможет проглотить. На какую-то секунду маму охватил ужас, она сделала глоток. И у нее случился инсульт. Два года после этого она лежала парализованная, а потом умерла.
А ведь все могло быть по-другому. Когда медсестра начала хамить, надо было плеснуть ей в рожу барием. Повернуться и уйти. Сестра пошла бы в туалет, умылась, утерлась казенным вафельным полотенцем. И через час — забыла. И мама бы жила до сих пор. И все было бы нормально, все хорошо. Но мама не могла вот так — решительно. И Бочаров — не может. И не сможет. Он вдруг понял, что не сможет, — и заплакал. Его никто не слышал, кроме божьей коровки. Бочаров плакал в подушку и звал: «Мама…»
А потом заснул в слезах, как в детстве, и ему снился странный беспокойный сон, как будто он увидел на лестнице жулье с крадеными чемоданами и впустил их в свою квартиру, чтобы скопом сдать в милицию. А жулье поселилось у него, и осталось жить, и устроило на кухне пожар. А он ничего не может сделать.
Проснулся Бочаров как всегда, в семь утра. Это было его время. Когда бы ни лег — просыпался в семь утра. Настольная лампа горела. Под ней лежал спичечный коробок.
Бочаров заглянул в коробок — он был пуст. Зеленая лапша на месте — а коровки нет. Бочаров оглядел пол, отодвинул кровать. Проверил подоконники. Заглянул в ванную.
«А была ли она? — усомнился Бочаров. Потом подумал: — А Бог с ней, была, не была — какая разница».
Он сделал жесткую гимнастику — приседал двадцать раз на подскоке. Выжимал свое тело, подскакивал и снова приседал до конца. Разрабатывал колени, накачивал ноги, давал нагрузку сердцу, возвращая телу силы и уверенность.
Нервный срыв остался в ушедших сутках. Начинался новый день, где все должно быть нормально, все хорошо.
А что плохого? Прочная семья, желанная возлюбленная, работа по специальности. О вольных хлебах — не может быть речи. В сорок пять лет он будет бегать по редакциям, как студент-стажер?…
Бочаров встал под душ: горячий, холодный. Холод жег. Он выскочил, растерся полотенцем. Увидев себя голого, подумал вдруг, что неандертал с дубьем выглядел так же и человек мало изменился за двадцать веков.
Бочаров надел свежую белую рубашку, повязал галстук. И пока выстраивал узел — придумал: можно связаться с миллионером Хаммером, предложить ему совместный советско-американский журнал. А Бочаров — во главе журнала.
Можно стать пресс-мэном, крутиться колбасой с утра до ночи, ездить в Америку, как к себе на дачу. А можно все бросить, отправить жену на работу. А самому засесть, как Юра Крюкин, и написать книгу о Попове, донести до сегодняшнего человека Вивекананду.
В тихий кабинет, один на один с Поповым, Вивеканандой. Другая жизнь. Иная участь.
Можно крутиться, крутиться, крутиться — взбить воздух до густоты — так, что ходить по воздуху. А можно осесть и замереть, лечь на дно, как подводная лодка.
Бочаров оглядел себя в зеркале: не неандертал. Современный человек. В расцвете сил. Живет в определенную эпоху, в 90-х годах двадцатого века. Каждое время предлагало своих лишних людей. Сегодня от тебя самого зависит — стать лишним или нелишним.
Бочаров вышел в коридор. Запер дверь.
Коридорная сменилась. Сидела другая женщина, не потерявшая доверия к жизни… В знак доверия ее веки были густо запорошены голубыми тенями.
Бочаров отдал ей ключ. В этот момент к коридорной подошел восточный человек в финском спортивном костюме. Дождавшись, когда Бочаров отошел к лифту, он тихо, озабоченно спросил:
— Девушка, вы, случайно, не знаете, чем питаются божьи коровки?






