О любви (сборник) Токарева Виктория
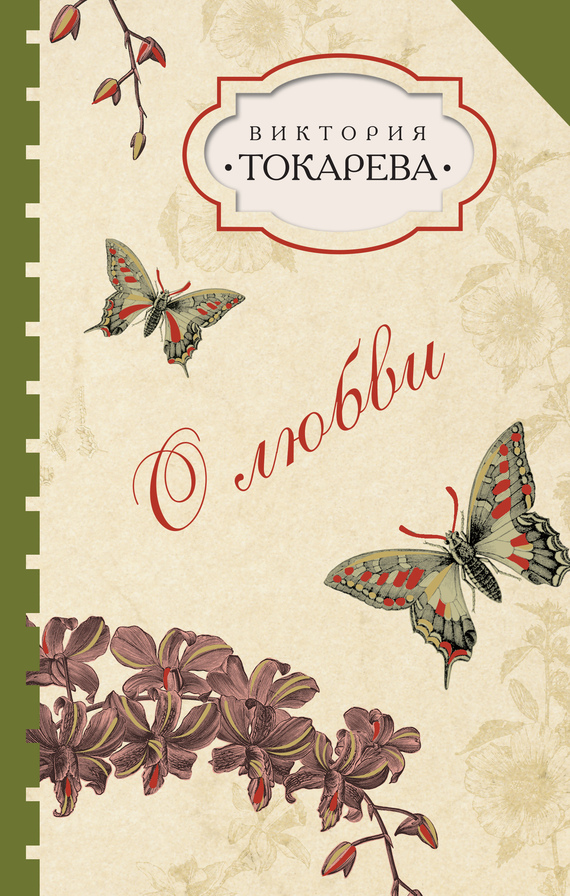
— Мы берем, — поспешно сказала Маруся.
Старуха сказала, что икона продается только вместе с домом.
— А сколько стоит дом? — спросил Ковалев.
— Не в деньгах дело. Здесь надо жить, — пояснила старуха.
Маруся сморгнула. Смешно слушать: она должна бросить Москву, квартиру, свое кино и переселиться в медвежий угол, чтобы жить при иконе. Но наметанным глазом она видела настоящую старину и настоящее богатство.
— Хорошо, — согласилась Маруся. — Мы согласны.
Ковалев с удивлением вытаращился на жену, но она приказала глазами: «молчи»…
Сговорились о цене. Старуха продала за копейки, даже неудобно. Маруся буквально совала деньги, но старуха не хотела брать. Для нее важно было пристроить икону к хорошим людям, как будто икона — не доска, а живое существо.
Все кончилось тем, что старуха уехала в конце концов, а Ковалевы остались ночевать в своей избе. Маруся не спала. Под полом бесились мыши, должно быть, мышиные дети. Николай Угодник смотрел из своего угла.
Рано утром вынесли из дома икону, положили в машину. Собрались в путь.
Потом Маруся натаскала из сарая солому, обложила дом, облила бензином из канистры и подожгла.
— Что ты делаешь? — оторопел Ковалев.
— Пожар, — объяснила Маруся. — Где же нам жить, если нет избы…
Дом занимался медленно. Стояла сырая весна. Дым стелился по земле. Но потом вдруг занялось, загудело, и мощный столб пламени пошел в небо. Дом трещал, огонь безумствовал. Стало страшно. Ковалев и Маруся отошли подальше. В лица тянуло жаром. Стихия огня, как всякая стихия, — жестока и красива. Пугала и завораживала.
Немногочисленные деревенские жители, в основном старики и старухи — серые в сером рассвете, стояли и смотрели, притихшие. И розовый отсвет лежал на их лицах.
Марусе исполнилось тридцать лет, когда к ней пришла ТАКАЯ любовь. Бог послал. С доставкой на дом. Его привели друзья на одну из Марусиных вечеринок. Представили: «Борис Мещерский. Художник». Длинными волосами, тонким неулыбчивым лицом он походил на Иисуса Христа, только в светлом варианте. Маруся тогда ничего не почувствовала, ей не был дан знак, что это ОН. Единственное, фамилия показалась знакомой. Потом выяснилось: Мещерские — старинный княжеский род, окончивший свое высокородие вместе с революцией. От всего рода осталась одна ветка, и та во Франции. А в России — только Борис. Отца расстреляли за фамилию. Считалось, что князь не компания рабочим и крестьянам. Мать с сыном уцелели, но это отдельная, вполне трагическая история. Борис продолжал фамилию, но его голубая кровь по тем временам — как козе баян, попу гармонь, рыбке зонтик, собаке пятая нога, и так далее и тому подобное.
Борис еще студентом участвовал в «бульдозерной выставке». Была такая выставка при Хрущеве, которую смели бульдозером. Но потом не преследовали. Хрущев не был злопамятным. Однако и не поддерживал. Живи как хочешь. Борис жил как хотел. У него были жена, дочь, мастерская на чердаке и талант. Он знал про талант. Во-первых, ему говорили в лицо. Во-вторых, он его чувствовал физически. Когда подходил к своему холсту, внутри что-то радостно переворачивалось. Наверное, талант и переворачивался.
Борис не думал о деньгах и не зарабатывал их. Он думал только о своих картинах. Купят — хорошо. Не купят — тоже хорошо, картина останется с ним, как непристроенное дитя. Этих «детей» скопилось у него в мастерской хоть складывай штабелями.
Практическая жилка — тоже талант. Но другой. У Бориса Мещерского был талант творца. Что касается «жилки», она оказалась полностью атрофирована. Возможно, в нем сказывалось генетическое пренебрежение к добыче хлеба насущного. Мещерские были богаты из поколения в поколение.
Жена Бориса громко жаловалась друзьям по телефону, и друзьям в гостях, и малознакомым людям. Она называла себя: «безлошадный крестьянин». Почему крестьянин? При чем тут лошадь? Но в общем смысл был ясен. Борис по гороскопу — Дева. А считается, что мужчина Дева все свои заботы складывает на плечи женщин, жен или подруг — не важно. Некоторые Девы складывали сознательно и даже подбирали себе таких тягловых лошадей. Борис ничего не подбирал и не складывал. Он женился по любви жены, так что можно сказать: она его выбрала, а он не возражал. А если быть совсем точным: она нравилась его маме.
Борис мог бы зарабатывать, если бы рисовал заказные портреты, как это делали известные придворные художники. Они — известные и придворные — рисовали жен иностранных послов и жен наших политических деятелей. Чуть-чуть утоньшали лицо, удлиняли шеи, увеличивали глаза, в глаза — драматический отсвет, — и вот портрет готов. И деньги готовы. Любая женщина хочет видеть себя именно такой: тонколикой, большеглазой, одухотворенной, с трагическим отблеском во взоре. Вместо этого Борис рисовал котов с человеческим лицом или человека в середине земли, у которого из глаз растут цветы.
Все кончилось тем, что жена его бросила, точнее, выгнала, и Борис ушел жить в мастерскую. Жена сама выбрала, сама бросила. Он подчинился и в первом, и во втором случае.
Жизнь его мало переменилась. Борис и раньше с утра до вечера пропадал в мастерской. Просто раньше он ходил ночевать домой и перед сном съедал тарелку горячего борща с большим куском мяса, розового от свеклы. А сейчас он ел консервы: кильки в томате, и его мучила изжога. Зато больше ходил по гостям и больше видел людей.
Так Борис попал в дом Ковалевых. Дверь открыла Маруся в бальном платье, с накидкой из страусовых перьев на дивных широких плечах, как будто сошла со старинного фамильного альбома Мещерских. Она протянула руку и назвалась:
— Маруся…
— Вы не Маруся, — сказал Борис.
— А кто? — Она удивленно подняла тонкие брови.
— Мария. Или Анна.
— Мое полное имя Марианна. Вы угадали…
Появились еще какие-то гости. Маруся отвлеклась на новых людей. Борис разделся и прошел в комнату.
Шли восьмидесятые годы. Все мы были бедны за редким исключением. Все были: Таньки, Гальки, Нинки в джинсах на каждый день и в джинсах на выход. А она была — Марианна, с нарядным именем в нарядном платье и настоящих украшениях.
Борис — художник, и в женщине он прежде всего ценил красоту. Красота на самом деле — такая же редкость, как талант. А в сущности, красота и есть талант самой природы.
В роду Мещерских мужчины были красивее женщин. И Борис тоже был хорош — с прямой спиной, большими синими глазами, с прекрасной манерой смотреть и слушать. Но он всегда чуть-чуть отсутствовал. Его чуть-чуть не было.
В доме Ковалевых он как будто очнулся и с огромным вниманием рассматривал иконы на стенах, живопись. Он без труда определял возраст иконы, школу иконописи и поражался ценности коллекции.
Потом отыскал удобную точку, достал блокнот и карандаш — это он всегда носил в боковом кармане и мог вытащить где угодно: в метро, на улице, в гостях. Стал набрасывать портрет Марианны, пристально вглядываясь в ее лицо. Овал не надо было утоньшать, а шею удлинять, а глаза увеличивать. Все было сделано Господом Богом. Между глазами Марианны зрительно можно было разместить еще один глаз. Идеальная пропорция. Она держала перед собой рюмку. Узкое запястье, стройные пальцы, тяжелый перстень с рубином. Борис так и рисовал: вначале рука с бокалом, а сквозь стекло, как в дымке — глаза.
Вокруг творилась вечеринка, а Борис сидел и работал. И когда уходил, вырвал рисунок из блокнота и протянул Марианне. Марианна показала Ковалеву. Ковалев смотрел довольно долго, потом cказал:
— А вы могли бы написать портрет моей жены?
Борис не делал заказных портретов, но в этот раз он задумался.
Когда все разошлись, Маруся долго смотрела на карандашный рисунок. Она как бы прятала за рюмку свою истинное лицо, и никто толком не знал ее лица. И она сама не знала, и погружалась в тоску, как в болото.
Она, как чеховская Нина Заречная, готова была жить в голоде и в холоде, но познать славу — настоящую, ошеломительную. У Маруси — все наоборот. Полный достаток, но никакой славы, даже простого узнавания. Ее никогда не узнавали на улицах, а когда она сообщала кому-то, что киноактриса и снималась, — тоже не припоминали. Это было невыносимо. Ординарная жизнь, без следа. Молодость, красота уходят, как дым в трубу.
Борис Мещерский взялся писать портрет и попросил Марианну приехать в мастерскую. Марианна отправилась, прихватив с собой собаку — не для охраны, а для компании. Как близкую подругу.
Марианна была уверена, что Борис начнет приставать, к ней приставали все и всегда. Но он не приставал, даже странно. На самом деле — не странно, нормально. Просто норма стала редкостью.
Борис писал Марианну вместе с собакой. Марианна — в старинном кресле, собака у ног. Борис мучился, не мог найти общее решение.
В середине дня предложил перекусить. На столе появились горячая картошка в мундире, квашеная капуста, масло и хлеб.
Марианна стала снимать с картошки кожуру, обжигаясь. А Борис ел прямо с кожурой и руками, как возле костра. Марианна посмотрела и тоже стала есть с кожурой, макая в соль. Это показалось так вкусно, что она спросила:
— Вы всегда так едите?
— А что? — насторожился Борис. Он боялся сочувствия.
Они смотрели друг на друга, задержались друг на друге глазами, и в этот момент Марианна впервые почувствовала какой-то вздрог, похожий на подземный толчок перед землетрясением. А Борис в этот момент увидел будущий портрет.
— Если можно, принесите завтра ваше платье, — попросил Борис.
Через неделю портрет был готов. Борис особым способом состарил холст, сделал его потемневшим и потрескавшимся. И было полное впечатление, что портрет написан во времена Крамского, а может, и самим Крамским. Лицо Марианны смотрело из прошлого века — бесстрастное и прекрасное, с чистым лбом и не пускающими в себя серыми глазами и плечами Наталии Гончаровой.
Портрет выглядел как подлинник, настоящее произведение искусства середины девятнадцатого века.
Марианна протянула конверт с деньгами.
— Нет, — испугался Борис. — Нет, нет…
— А как? — растерялась Марианна.
— Никак.
Надо было уходить. Марианна знала, что если она сейчас уйдет, то и уйдет. Он не будет ее задерживать. А она уже привыкла к неорганизованному пространству мастерской, к его синим пристальным глазам и своей роли. Пусть не в кино, а в мастерской художника, но она исполняла Главную роль. Происходило пусть не множественное, но тиражирование ее образа. А теперь кончилось и это.
— Поцелуйте меня, — тихо сказала Марианна.
Он поцеловал. Они стояли долго. Потом легли на жесткий диван. И когда он должен был погрузиться в ее прекрасное тело, Марианна вдруг проговорила испуганно:
— Не надо…
Марианна думала: он не сможет затормозить, и все случится как бы против ее воли. Она как бы ни при чем. Но Борис вдруг встал и быстро оделся. Марианна смотрела на него удивленно.
— Вы знали, что не отдадитесь мне. Зачем было начинать эти игры? — серьезно спросил он.
Марианна молчала. «Не надо» — это игра. Зачем он поверил? Он должен был сказать: надо! Или ничего не говорить, а овладеть ею здесь, в мастерской, пахнущей красками, с прекрасным деревянным столом, в присутствии собаки.
Борис обиделся и удалился к своим картинам. Она подошла к нему босиком, обнаженная, и стала целовать его обиженный рот. Он не уклонялся. Выражаясь высоким слогом, оба наполнились музыкой любви. Она в них пела, потом гремела и даже грохотала. Вдруг Борис отстранился и торопливо проговорил:
— Не двигайтесь…
Он отошел к мольберту и стал писать ее, обнаженную, во всем цветении красоты…
— Сделайте шаг вперед, — приказал Борис.
Марианна шагнула, как будто выходила из пены морской. Афродита семидесятых годов двадцатого века.
Он писал ее час, другой… Потом отложил кисть.
И они оба легли молча. Как будто это само собой разумелось. В момент любви Марианна не закрыла глаза, а смотрела, смотрела… Его лицо замкнула мученическая гримаса. Она услышала в себе эту блаженную пытку и застонала. Потом они лежали рядом — голые и теплые, одной температуры. А собака бродила вокруг, и томилась, и тоже, наверное, хотела любви.
Марианна не жила, а ждала. Если раньше она ждала роль в кино, то теперь она ждала встречи с Борисом Мещерским.
Каждый день она приходила к нему в мастерскую, он открывал дверь, и они сразу начинали раздеваться. Потом ложились на диван, обнимали друг друга, и Марианна понимала: вот ее место в жизни. Не надо ничего: ни кино, ни славы, ни гостей. Борис Мещерский — вот ее единственное самовыражение. Борис не мог привыкнуть к красоте своей Марианны, ему всегда хотелось ее рисовать: маслом, карандашом, углем, на холсте, на бумаге — живопись и акварель. Он делал одну работу за другой и развешивал в мастерской. Тиражировал ее образ. Это было совместное творчество. Борис был ее режиссер, и сценарист, и оператор. А она — его модель, его муза, его тема. Вот и все, что нужно для счастья: чердак, картошка в мундире и любовь.
Однажды я увидела их вместе в ресторане Дома кино. Они вошли. Марианна стала высматривать свободный столик. На ней был спортивный свитер, обтягивающий ее широкие прекрасные плечи, юбка в клетку. Она высматривала и вся была во внутреннем движении. На винте. В полете. А Борис — при ней, как партнер при балерине: поддержка, общий рисунок, общая внутренняя музыка. Когда любовь, это всегда видно.
Ковалев понял все и сразу. Но сказать, как раньше: «Люби, кто тебе запрещает», — он не мог. Он просто замер и выжидал. Если начать выяснять отношения, можно договориться до разрыва. А он не хотел. В любом качестве, но только рядом…
Они продолжали спать вместе, но Ковалев не касался жены. Понимал, что она — не с ним. И не надо притворяться. Он уважал ее состояние и не хотел мешать. Маруся отметила его деликатность и была благодарна за то, что он отпустил ее на столь длинный поводок.
Ковалев видел преимущества Мещерского. Вернее, не так… Он видел, за что его любила Маруся. Мещерский художник, а Ковалев естественник. У них работали разные центры мозга. У Маруси с Мещерским было больше общего, и даже визуально они смотрелись по-разному. Маруся с Мещерским в общем вальсе при свечах. А Маруся и Ковалев — двуглавый орел: неразделим, но головы смотрят в разные стороны.
Именно в этот период обозначилась трещина между ними и стало ясно, что эта трещина была всегда. Просто Ковалев поставил свой дом на трещине. А теперь она ширилась, и что будет с домом — не ясно.
Летом Марианна и Борис уехали на юг, к морю. Сняли комнату на берегу, не вылезали из теплого тугого моря. Потом сели на поезд и поехали в среднюю полосу.
Купили палатку и поставили ее в лесу. Ходили почти голые, как дикие люди. Жарили грибы на костре. Иногда выходили к людям за едой. Как лоси. Расплачивались акварелями Бориса. Он быстро рисовал пейзажи. Не халтурил. Даже в моментальных зарисовках было видно мастерство и вдохновение. За это им давали хлеб, молоко и яйца.
Марианна научилась разводить костер, ставить палатку, отличать съедобные грибы от поганок, спать на земле, переплывать неширокую реку. Но что бы она ни делала — ждала, когда настанет ночь, и они лягут рядом, и вытянутся друг возле друга, вздрогнут вместе и умрут, а потом заснут единой плотью, с одной температурой.
Борис никогда не снимал крест. Он был верующий. Марианна тоже хотела приобщиться к вере, но ей мешали некоторые непроясненные обстоятельства, которые она хотела прояснить.
— Иисус Христос — Бог или человек?
— То и другое, — отвечал Борис. — Богочеловек.
— Но для того, чтобы родился человек, нужны две половины: мужчина и женщина. А здесь только Дева Мария. А вторая половина кто? Голубь?
— Вера стоит над знанием, потому и называется вера. Или веруешь, или нет.
— Ну хорошо. Вот он воскрес. А куда он делся, когда воскрес?
— Его видели ученики. И Фома Неверующий его видел. И поверил.
— Предположим. А почему Иисус не остался на земле? Воскрес — и живи дальше.
— Он вознесся к своему отцу. К Господу Богу, — терпеливо объяснял Борис.
— Если Христос человек, если у него есть органы дыхания, пищеварения, размножения — ему логичнее остаться среди людей, а не на небесах.
— Он был послан для искупления грехов человеческих. У тебя такие иконы, а ты, выходит, ничего не понимаешь…
— Объясни.
— Веру не объясняют.
Солнце сеяло сквозь листву свой мягкий свет.
В лесу не было ни телефона, ни Дома кино. Только Он и Она. И им не было скучно. Они познавали друг друга как мужчина и женщина, как художник и модель, как человек и человек.
Борис много рисовал Марианну, по нескольку часов в день — в одно и то же время, писал свою картину. Ему было нужно определенное освещение.
После работы какое-то время Борис был опустошен, молчалив. Марианна не ревновала его к картине. Наоборот, только такой он и был ей дорог: глубокий, серьезно талантливый.
— Роди мне девочку, такую, как ты, — попросил однажды Борис.
— А где она будет жить?
— С нами. Ты уйдешь от Ковалева, и мы будем жить втроем.
— А как же Ковалев? — не поняла Марианна.
— При чем тут Ковалев? — обиделся Борис.
Действительно, при чем тут Ковалев…
А Ковалев делал вид, что ничего не происходит. Он знал, в медицине бывают такие состояния, когда лучше не лечить. Пустить на самотек. Положиться на Бога. Кризис пройдет, и больной поправится. Или умрет.
Ковалев работал, зарабатывал, строил дачу за городом. Те рабочие, которые строили больничный комплекс, отвлеклись и возвели загородный дом. Обошлось недорого, но кафель в ванной комнате был больничный, белый.
Дочь проводила лето у Марусиной мамы, но все время просилась домой. Спрашивала: где мама? Когда приедет?
Что Ковалев мог ответить? Он и сам хотел бы знать, где его Маруся. Когда приедет? Может быть, никогда…
Однажды в полдень Ковалев встретил на улице своего сына от первого брака. Они шли навстречу друг другу, узнавали друг друга. Сын дернулся в его сторону, хотел подойти, но Ковалев не знал, о чем с ним говорить. «Как ты? Как мама?» А дальше что? Все равно Ковалев пойдет своей дорогой, а сын своей…
На перекрестке зажегся зеленый свет — Ковалев резко свернул и перешел дорогу, почти убежал. Потом оглянулся. Сын стоял и смотрел. Интересно, что крутилось в его мозгах…
Маруся вернулась беременной. Она ждала ребенка от Бориса Мещерского и ждала удобного случая, чтобы сообщить Ковалеву о грядущих переменах. Но откладывала со дня на день. Ее мучил токсикоз. Тошнило от запахов и без причины. Хотелось все время лежать.
Маруся лежала в удобной и чистой постели, ее окружали красота и комфорт, и как-то не тянуло в палатку или в мастерскую на чердаке, куда надо было залезать по вертикальной металлической лестнице. Собака взвизгивала от счастья видеть хозяйку. Маруся запрещала ей шуметь, собака взвизгивала шепотом. Хотелось оставаться на месте, а не бегать на два дома.
Но хотелось и Бориса. Просто смотреть, как он ходит, как оборачивается, как смеется, как говорит «да». У него было целое множество этих «да». Когда слушал — поддакивал: да, да, да…
Когда удивлялся — одно глубокое, детски-изумленное: да-а? И одно испуганное короткое «нет», когда что-то падало. Однажды Марианна уронила мольберт в мастерской, он упал с грохотом. Борис побледнел и выдохнул: «нет»…
Потом объяснил, что они с матерью долгое время жили над участковым милиционером. Комнаты располагались одна над другой. Мать вздрагивала, когда что-то падало на пол. Боялась, что милиционер придет и отведет в тюрьму. Они жили тихо, как мыши. Страх стал привычкой.
Марианна любила в нем все — настоящее и прошлое. Если бы можно было отправить Ковалева в мастерскую, а Бориса взять на его место… Однако тоже не выход. Ковалев — добытчик, а Борис — нет.
Борис — свободный художник. Полузапрещенный. Один он проживет, но с гремучим прицепом из двух семей…
Марианна могла бы выбросить свои бредни о кино, заняться фарцовкой, как половина ее подруг. Она могла бы сама добывать деньги, но во что превратится ее жизнь…
Марианна молчала о беременности. Решила так: скажет, когда уже некуда будет деться. Ковалев спросит: «Ты что, беременна?» Она ответит легким голосом: «Да. А что?»
Такое время настало. Однажды утром, увидев ее круглый живот, Ковалев спросил:
— Ты что, беременна?
— Да, — сказала Маруся легким голосом. — А что?
Ковалев приехал на работу, закрылся у себя в кабинете и позвонил Борису Мещерскому. Попросил о встрече.
— Я могу подъехать к вам в больницу, — отозвался Борис.
— Нет.
— Тогда заходите в мастерскую, — пригласил Борис.
— Мы встретимся на нейтральной территории.
Они встретились у памятника Пушкину и разговаривали четыре минуты.
— Какие у вас планы? — коротко спросил Ковалев.
— Это зависит от Марианны, — ответил Мещерский. Он держался очень спокойно, с внутренним достоинством. Вел себя не как воришка, которого застукали, а как хозяин, который взял свое.
— Я прошу вас не забирать у меня жену, — сухо сказал Ковалев. — Я уважаю вас и ваше чувство и поэтому не приказываю, а прошу. Я готов вам отдать свою новую машину.
— При чем тут машина? — удивился Борис.
— Абсолютно ни при чем. Просто на машине вам будет удобнее передвигаться. До свидания.
Ковалев ушел, а Борис остался стоять. Он был раздавлен.
— Бери! — взмахнула руками Марианна. — Он себе еще купит.
— Но что это такое? Он дает мне отступного? Это что, сделка?
— Пусть все останется, как было, — спокойно и трезво предложила Марианна. — Крики и пеленки у Ковалева, а мастерская — для любви и творчества. Ты же не хочешь, чтобы среди твоих картин вопил младенец, висели пеленки, а ты бы был зеленого цвета от бессонных ночей.
Борис молчал. Такой период уже был в его жизни, когда родилась дочь. Рождение нового человека — большое счастье, но прежде всего — это большой труд.
Все осталось, как есть. Ковалев — на месте. Маруся — при Ковалеве. А та часть, которая звалась Марианна, — принадлежала Борису Мещерскому.
Борис машину не взял. На ней ездила Марианна.
— Все-таки ты — аристократ, — насмешливо заметила Марианна. — Мог бы и машиной пользоваться, и женой.
— Если говорить на твоем языке, я не хочу продешевить. Мое чувство дороже, чем машина. Оно бесценно. Или не стоит ничего.
— На моем языке? — насторожилась Марианна.
— На вашем. Твоем и твоего мужа. Он — страшный человек.
Борис услышал в себе неприязнь. Это было непозволительно. Его душа должна быть свободна от ненависти. Она должна быть чиста для работы.
Борис заканчивал свою картину. Странная была картина.
В небе самолет, как рыба в воздушном океане, внизу круглая земля, а в середине земли — человек, и из его глаз растут цветы.
Марианна долго смотрела на картину, потом спросила:
— Этот человек твой отец?
Борис долго не отвечал, потом проговорил:
— Когда Берию расстреливали, ему заткнули рот. У него от напряжения чуть не вылез глаз.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. Наверное, когда человека расстреливают — ужасное, нечеловеческое напряжение.
Марианна поняла: он думает не о Берии, а о своем отце, о его последних секундах.
Борис стоял к ней спиной. Лицом к своей картине. Марианна подошла, прижалась животом, обняла его сиротливые плечи.
— Если будет мальчик, мы дадим ему имя твоего отца. Как его звали?
— Дмитрий…
— Значит, будет Дмитрий, Митя…
Но родилась девочка. Назвали Анной.
Ковалев принес ребенка из родильного дома и просто сошел с ума от любви. Он мог часами смотреть на крошечную девочку. Даже не хотел по утрам уходить на работу. Зачем куда-то выходить и что-то делать, когда главное — в доме. Вот он — клад. Настоящее сокровище. Нашли няньку, деревенскую деваху. Она выстраивала на голове прически — кому это надо, но ребенка обожала. Девочка была ни на кого не похожа. На себя. Сама по себе отдельная девочка.
Борис заходил несколько раз, смотрел на дочь, но ничего не чувствовал. Он не любил таких вот, совсем маленьких. Он любил постарше, когда можно общаться. А здесь что? Тю-тю-тю, гу-гу-гу… Как дикарь. Марианна, напротив, вся ушла, просто рухнула в тю-тю-тю и гу-гу-гу. Марианна любила ребенка до самозабвения, может быть, потому, что от любимого человека, а может, просто созрела для материнства. Ей исполнилось тридцать два года. Марианну потрясала зависимость ребенка. Вот возьми, урони на пол — и убьешь. Надо просто развести руки, и нет человека. Никто, конечно, не собирался развести руки, но какая хрупкость… Говорят, только что вылупившиеся птицы — уже летают, волки — уже охотятся, утки — уже плывут. И только человеческие детеныши — беспомощны. Что у них есть для защиты? Обаяние и слезы. Вот и вся защита: хорошенький…
Марианна чуть-чуть свихнулась, сдвинулась. Ей казалось, что нянька утопит ребенка в ванне, выронит в окно, нечаянно, конечно. Или ребенок сам захлебнется во сне. Срыгнет — и захлебнется. Марианна просыпалась в холодном поту, всматривалась и вслушивалась. Но девочка росла, становилась крепкой, у нее были сильные руки, как лапы у щенка. И как-то казалось, что, если даже выпадет из рук, не убьется. И даже не ударится. Удачно упадет. Маленькая Анна любила поплакать, потому что все кидались к ней со всех ног и старались угодить. Обаяние, слезы и упрямство — вот три рычага, которыми она переворачивала весь дом, устанавливала свою диктатуру.
Когда Марианна уходила в мастерскую, она мысленным взором видела перед собой гримаску плача, выдвинутую вперед нижнюю губу, и ей хотелось домой.
Борис Мещерский обожал старинную архитектуру, предметы быта. Хорошо знал все это. Он вообще как-то больше принадлежал девятнадцатому веку, чем двадцатому.
Он увлекал Марианну в старые усадьбы, их сохранилось довольно много под Москвой. Обязательные аллея, купальня, барский дом. Марианна в отличие от Бориса была человеком сугубо современным, городским и не понимала: как можно было всю жизнь сидеть в поместье, в деревне, без телевизора и без работы. Только играть на пианино и разговаривать, разговаривать… Потом кто-нибудь стрелялся, тоже развлечение…
Однажды осенью они возвращались из Ясной Поляны, машина забуксовала в тяжелой грязи. Борис вышел, стал толкать машину. Марианна включала зажигание, машина ревела, Борис толкал, колеса прокручивались вхолостую, и у Марианны впервые возникла мысль, что их отношения тоже стали буксовать и вязнуть, потому что… А какая разница почему?
Запомнился случай, когда к ним подошла нищенка, попросила у Бориса денег. Борис вытащил кошелек и дал. Нищенка повернулась к Марианне и сказала:
— А теперь вы. Немножко он, немножко вы.
— И ты такая же, — вдруг сказал Борис. — Немножко тут, немножко там.
— ВСЕ тут и ВСЕ там, — поправила Марианна.
— А в результате нигде.
— Почему? — удивилась Марианна.
— Половинчатость — это дорога в никуда. Время работает против нас.
— Но я не могу без тебя, — испугалась Марианна.
— Ты не можешь без меня, без Ковалева, без его денег, тебе надо все. А так не бывает. Надо уметь от чего-то отказываться…
Через три года Борис Мещерский вернулся к жене. Вернее сказать, жена вернула Бориса обратно. За время разлуки жена поняла: с мужем ей плохо, но без него еще хуже. К тому же до нее дошли кое-какие слухи, и она сообразила: даже такого безлошадного мужа-Деву умыкнут и приватизируют. Хотя слово «приватизируют» появилось позже.
Так что жена сама бросилась, сама вернула. Борис подчинился. В его жизни почти ничего не изменилось. Он по-прежнему уходил на целый день в мастерскую, но ночевал дома. А перед сном съедал тарелку борща с куском мяса. Ничего не изменилось, но изменилось. Другим стал фон его жизни. Был цветной, стал серый. И пройдет еще много лет, прежде чем он привыкнет к этому новому фону.
Борис по-прежнему путешествовал по барским усадьбам. Любил бродить по старому парку, который помнил своих прежних хозяев. Борис ходил по их стершимся следам и казался себе одним из них…
Маруся первое время существовала со спокойным, бесстрастным лицом. Оказывается, она проигрывала варианты смерти. Мысли о смерти стали будничными, даже деловыми. Убить себя — это единственное решение, которое зависело только от нее. Это свобода. И месть. Она отомстит, всем сразу — и своей славе, и любви. Но время шло. Младшей дочери сделали прививку, от которой поднялась температура до сорока двух. А у старшей она нашла в сумке табак, высыпавшийся из сигарет. Состоялась большая разборка. Хотя слово «разборка» появится позже.
Марусе стало ясно: если не умирать, то жить. А жить — значит сражаться.
Когда Маруся назвала полный дом народу, Ковалев понял, что все вернулось на круги своя. Он понял также, что выиграл Марусю у жизни, и в этот вечер сидел за столом вместе с гостями и напился изрядно.
И Маруся отдалась мужу, а он обладал ею — ритмично и неистово, как сумасшедший, но алкоголь мешал доплыть до конца. Все это продолжалось, продолжалось, пока Маруся не сказала:
— Хватит. Надоело.
Ковалев послушно свалился и заснул. Перед сном ему показалось: так было когда-то…
Действительно, так было в начале их жизни. А потом пошла долгая хорошая полоса. И сейчас: тучи рассеялись и теперь взойдет солнце.
Но солнце не всходило. В Марусе образовалась пустота, и в эту пустоту немедленно стала просачиваться жажда кино.
Маруся просила меня посодействовать. Я содействовала. Звонила на телевидение. Мне отвечали:
— Зачем нам нужна двадцатирублевая актриса?
Двадцать рублей — ставка актрисы, не народной и не заслуженной.
Марусю не любили за богатство, за открытую смелую жизнь, которую она не скрывала от людей.
Это была пора нашей молодости, расцвета, гормональной бури. Вокруг меня многие заводили романы, я была набита чужими тайнами от пяток до макушки, но все было скрыто, все прятались, все должно быть прилично. «Без юбки, но прилично».
Семья Ковалевых — неординарное явление тех лет. Они не соблюдали условия игры. Может быть, это было безнравственно. А может быть, они шли впереди времени. Принимая жизнь как она есть. А это честнее и шире.
Дела у Маруси не двигались. Но вдруг проклюнулась роль. Сценарий был хороший, но режиссер какой-то вялый и совершенно не знал, чего он хочет. Режиссер был весь в долгах, его преследовали кредиторы, и голова была постоянно занята заботой: у кого-то срочно перехватить денег, чтобы кому-то срочно отдать.
Пригласив Марусю на роль, он терпел несколько дней, потом позвонил и сказал, что хочет поговорить с ней с глазу на глаз. Маруся ответила:
— Можно ухо в ухо. Нас никто не слышит.
— Нет, — не согласился режиссер. — Мы должны встретиться.
Режиссер приехал к ней домой и, буравя Марусю выразительными глазами, попросил в долг четыре тысячи рублей. Это был по тем временам годовой доход профессора или министра.
Маруся была ошеломлена. Для нее кино — святыня, как церковь для верующих. А режиссер — часть святыни, как Владыка в храме Божием. И вдруг «Его преосвященство» просит в долг.
Маруся постаралась скрыть разочарование, сухо сказала:
— Я могу дать сумму, с которой готова расстаться навсегда. Триста рублей. Могу дать прямо сейчас.
Режиссер обиделся и ушел. Но на другой день вернулся и взял триста рублей.
Начались съемки. Маруся увидела, что другого таланта, кроме как быть должным всем вокруг, у режиссера нет. Это был профессиональный одолженец. У одолженцев мораль плавает. А человек с плавающей моралью не может создать произведения искусства. Хотя как знать… Мусоргский был алкоголик. Эдгар По — просто сумасшедший…






