Комедия неудачников Бенаквиста Тонино
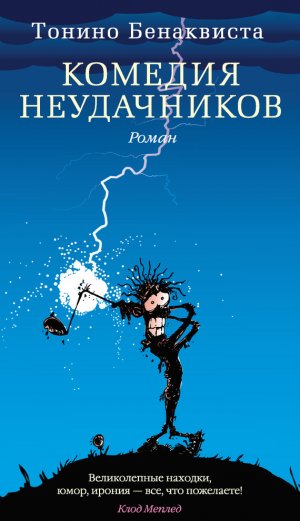
Детвора, галдящая на кухне, бутылочки с молоком на столе, семейные пары, перетаскивающие чемоданы…
— Это счастье, что Гонфаллоне всего раз в году, ammazza… Нет, эта мелюзга мне сейчас телевизор сломает!
Стоило ей заговорить о своем телевизоре, и я вспомнил про одну особую передачу, о существовании которой узнал в Риме. Своего рода хроника, которую не найдешь нигде, кроме Италии. Если мне удастся пробить себе дорогу сквозь группу карапузов, прилипших к экрану ради какого-то дурацкого мультика, может, я ее и не пропущу. Переключив телик на РАИ-1, Бьянка доставляет себе удовольствие по двум причинам: во-первых, тем, что приходит ко мне на помощь, во-вторых — демонстрирует свое всемогущество над волшебным ящиком.
Одиннадцать часов вечера. Городок затих, добропорядочные обыватели набираются сил перед завтрашним состязанием. Пусть себе спят спокойно. Силенки им завтра весьма понадобятся — распахнуть глаза пошире.
Я уже засекал по минутам, сколько времени завтра уйдет, чтобы добраться до виноградника неспешным шагом. Слепой ждет меня, как и договаривались, на том самом месте, где я его покинул в прошлый раз. Этот пьянчуга знает местность как никто другой. Но он ничего не может понять из того, что со мной произошло той ночью. Сам факт, что на меня кто-то напал, его не слишком удивляет, но он клянется головой Сант'Анджело, что уже совсем отключился к тому времени.
— Не дай себя запугать, хозяин. Завтра тебе уже никто ничего не сможет сделать.
Должен ли я верить ему? Быть может, завтра меня ожидает новый кошмар. Но пока надо твердо стоять на своем, да и слепой, кажется, на все готов, чтобы мне помочь. Мы остаемся там больше часа, чтобы в тысячный раз проверить все детали операции, начиная с кратчайшего пути, ведущего к винограднику через хлебное поле, минуя тропу. В часовне я направляю луч фонарика на голову святого и достаю аэрозольный баллончик, купленный в Риме.
— Ну, не бойся, это для твоего же блага… — Я покрываю источенное дерево статуи прозрачной жидкостью. Запах омерзительный, но меня успокоили, что он развеется за пару часов. Снова смотрю на лик святого заступника. Прежде чем расстаться, похлопываю его по щеке.
— Теперь твой черед! — говорю я ему.
— С кем это ты? С ним, что ли? Ты с ума сошел, хозяин.
— Хозяин тут не я. Он.
Перед уходом любуюсь еще раз, как Дарио обработал остов часовни, как ловко углублены настоящие трещины среди фальшивых, как оштукатурены одни участки стены, а другие, наоборот, ободраны, как толстые несущие балки укреплены хлипкими подпорками. Ей-богу, эта конструкция продумана лучше, чем проекты архитекторов, на которых я горбачусь. Ладно, поглядим.
Мы со слепым идем выпить по стаканчику. Он — чтобы отметить что-то, что и сам не знает, а я — чтобы набраться храбрости. Заодно обговариваем последние детали нашего безумного предприятия. Слепой напоминает мне о кое-каких мелочах, которые я упустил из виду. Дарио — тот все учел. Хитрости хоть и незамысловатые, но придадут сцене убедительность. Например, ведро вина, которое нужно приготовить с вечера и поставить рядом со статуей, чтобы выиграть время. Надеюсь, что мой покойный приятель подумал обо всем. Надо было ему помереть, чтобы я заметил его талант.
— У нас, у итальянцев, много недостатков, но есть все-таки одна вещь, которая нас выручает. Мы умеем выкручиваться. Мы безалаберны? Правда. Склонны к бардаку? Согласен. Но у нас есть дар импровизации. Импровизации! Это было у Дарио, это есть и у тебя, Антонио.
Я не уверен, что это комплимент.
— Мне пора возвращаться в Сору. Ты-то где заночуешь?
— Обо мне не беспокойся, хозяин.
Некоторое время мы молчим. Когда я думаю о нем, мне на ум приходит лишь слово «слепой». Я не знаю его имени.
— Как тебя зовут?
— Марчелло. Но так меня никто не звал.
— Что ты собираешься делать потом?
— А, ты все об этом… Жить буду. Куплю себе радугу.
В последний раз я прошелся по своей земле, прежде чем выбраться на тропу. Раньше этим самым путем мой отец гонял своих индюков, где-то тут неподалеку была его ферма. Больше ее нет.
…Однажды нам с компаре вконец обрыдло такое житье — шляться по окрестностям и подыхать с голоду. И тогда мы принялись обрабатывать землю у тех албанцев, которые соглашались нас нанять. И батрачили так больше года. Хотя глупо, конечно, работать на чужой земле, когда твоя собственная лежит в запустении. Капуста, кукуруза. И еще табачные плантации. Вот с этим нам действительно повезло — с табаком. Единственное утешение, которое у нас было. Ночью тайком от хозяев я сушил листья, но загвоздка была с бумагой. И вот однажды я нашел книгу на греческом. Хотел бы я знать, о чем там говорилось, да только я всю ее разрезал на полоски, чтобы цигарки крутить. Этой книжки хватило на шестнадцать месяцев. Это была единственная книга, которую я держал в руках за всю мою жизнь, и я ее всю искурил. Мясо-то там водилось — зайцы, кабаны, но албанцы к ним и пальцем не прикасались, им вера запрещает. Они даже огни по ночам зажигали, чтобы отгонять этих кабанов от посевов. Представляешь? Отгоняли, вместо того чтобы жрать! А однажды я втолковал одной ватаге мальчишек, что заяц хорош на вкус. Может, если они там сейчас едят зайцев, так это малость благодаря мне.
Бьянка делает вид, что смотрит телевизор. На самом деле она ждет меня. Я понимаю это по ее улыбке, которую она прячет сразу же, как только я вхожу, и еще по тому простому факту, что она все еще здесь, после такого тяжелого дня. Но особенно — по ее наивному и трогательному наряду. Стиль? Что-то черно-белое, среднее между пай-девочкой и маленькой плутовкой, и с немалым количеством помады на губах.
Она достает из морозилки два стакана и ставит на поднос рядом с диваном. Еще фруктовый шербет — дыня с тутовыми ягодами.
— Расскажи мне чуточку о Париже…
— Ну… Это не Бог весть что…
Говорю так, чтобы не спугнуть ее, но сам думаю совершенно противоположное. Звук ее телевизора мешает мне размышлять. Я щелкаю несколько раз, пока не натыкаюсь на какой-то черно-белый фильм вроде мелодрамы, на котором отдыхают и глаза, и слух. Потом ставлю поднос на пол, беру ее в свои объятия и заменяю своим поцелуем дыню с шелковицей. Мои губы остудили жар ее шеи.
Она не захотела, чтобы я ее раздел, и скользнула в постель первая. Мне было приятно, что темнота скрадывала убожество обстановки, и я подождал, пока ее тело избавится от претенциозных тряпок, попавших сюда явно из другой эпохи. И когда ее нагота, оттененная лишь белизной простынь, открылась мне наконец, я покинул и этот город, и эту страну и оказался там, где чувствовал себя как дома, — в каком-то другом месте, в незамысловатом сновидении, где все становится простым и ясным. Но однако, по мере того как наши тела изгибались и прижимались одно к другому в темноте, я догадывался обо всех взглядах, о едва уловимых жестах, о немых фразах, о робких ожиданиях, о мимолетных приключениях и подавленных желаниях. Как с ее стороны, так и с моей.
Когда прошло уже довольно долгое время, она сказала мне со смехом:
— Антонио… даже когда ты не хочешь… даже когда ты молчишь, ты все равно говоришь со мной о Париже.
5
Топот взад-вперед по коридору, кудахтанье капризничающей детворы и, для полноты картины, полувоенная побудка, которую устраивает мне Бьянка, барабаня в дверь. Все вместе принуждает меня открыть глаза.
— Я до последнего ждала, чтобы дать тебе выспаться. Но как бы тебе не пропустить начало.
— А ты пойдешь на праздник, Бьянка?
— Мне надо заняться моими стариками, да еще друзья подкинули ребенка. Кажется, местное телевидение будет снимать состязания. Так что я не все пропущу.
Не спеша, я принимаю душ и пью кофе, поглядывая из окна на площадь. Здесь толпится и гудит уже все население городка — мужчины, женщины, дети и все остальные. Кажется, одна Бьянка остается присматривать за Сорой. Впрочем, сторожить город ей будет особенно не от кого, так как все воры и мошенники тоже уйдут на праздник. Отец мне частенько о нем рассказывал, об этом Гонфаллоне. Раз в году жители пяти окрестных городков сходятся все вместе, под своими значками и цветами, словно индейские племена, и решают ненадолго объединиться в одну нацию. Шествие движется больше часа, пока не прибывает на перекресток пяти дорог. Там уже приготовлено огромное ристалище, где специально отобранные для этой цели мужчины приложат массу бессмысленных усилий, чтобы восторжествовало знамя именно их городка. Стрельба из лука, перетягивание каната и прочие мускульные подвиги. А вокруг трибун — столы, ярмарка, народное гуляние и пыль столбом до самой ночи. И когда город-победитель будет назван и ему будут отданы надлежащие почести, забудется все — и цвета, и знамена, и города, и игры. Останутся лишь тысячи пьяных, готовых колобродить до самой поздней ночи.
Толпа растет на глазах, и мэр с мегафоном в руках говорит всем «добро пожаловать». Я торопливо одеваюсь, чтобы не пропустить отбытие. С ходу врезаюсь в скопление народа и начинаю озираться по сторонам, спрашивая себя, куда мог подеваться Марчелло. Потом слышу, как он орет свою песню, будто оглашенный, всего в нескольких метрах от меня. Он дерет когтями струны своего банджо и импровизирует куплеты на какой-то местный мотивчик, чем несказанно веселит окружающих. Его черные очки по-прежнему внушают мне страх. Но, в конце концов, вносить оживление — это его профессия. Мэр подает сигнал к отправлению. Я в этот момент оказываюсь зажатым между двумя дамами с их корзинками. Вижу впереди Манджини, который беседует о чем-то с соседями; он оборачивается и приветствует меня. Слепца Марчелло тащит за руку какой-то молодой парень и вторит его песне словно эхо.
Меня охватывает страх.
Еще есть время положить конец этому фарсу.
Не отдавая себе в этом отчета, я начинаю приволакивать ногу. Идущие за мной тихонько меня подталкивают, словно утверждая: все, уже поздно, раньше надо было думать. И только сейчас я оцениваю степень риска. Слишком уж он велик. Если в плане Дарио что-то не сработает, меня ожидает не только тюрьма, но и пожизненное проклятье.
Выходим на дорогу. Тропа, ведущая к винограднику, совсем рядом. Мы шагаем слишком быстро, боюсь, я ошибся в расчетах. Сердце мое начинает колотиться сильнее, я стискиваю зубы. Повсюду ищу взглядом Марчелло и не нахожу. Молодой человек, тащивший его, разговаривает теперь с какой-то девушкой. Как и предполагалось, слепой уже потихоньку смылся. Смотрю на часы: через десять минут пройдем рядом с этой проклятой землей. Значит, или теперь, или никогда — самое время заговорить с туземцами. Прохожу мимо Манджини, который снова мне кланяется. Завязывается беседа, но о чем он говорит, понять никак не могу. Это страх. Я уже ничего больше не жду, ни на что не надеюсь. Он улыбается. Какого черта тянет слепой? Смотрю на часы. Три раза подряд. Люди вокруг меня чему-то весело смеются, меня все сильнее окутывает туман.
— Долго вы собираетесь пробыть у нас?
Марчелло, какого черта ты делаешь? Дарио, будь ты проклят, все это из-за тебя. Сине-желтые полотнища вот-вот проплывут мимо тропинки.
— Господин Польсинелли?.. Вы меня слышите?..
— А?..
— Я спрашиваю вас, долго ли вы собираетесь пробыть в Италии?
— …
А что, если вернуться? Дать задний ход, ни с кем не попрощавшись, даже не собирая чемодан, прошагать до ближайшего вокзала, дождаться ближайшего поезда на Рим… и вновь оказаться в Париже.
— Не заглянете ли как-нибудь на обед, а, синьор Польсинелли? Вы хорошо себя чувствуете?
Мое сердце сейчас лопнет, моя голова тоже лопнет. Я уже различаю первые ряды виноградника, минуты через две процессия пройдет мимо и двинется дальше своим путем. И все полетит к чертям. И Марчелло, и Дарио, и я заодно с ними. Святой заступник, почто оставил меня…
— Надо бы вам отдохнуть, господин Польсинелли.
Оставил…
Я сейчас еще чуть-чуть подожду, прежде чем выйти из колонны. В своем воображении я из нее уже давно вышел. Я ни за кем больше не иду. Я тащусь вперед как зомби. Я устал.
Я разочарован.
Не серчай на меня, Дарио.
Это была прекрасная идея, но и ее следует предать забвению. Я хотел сделать это ради тебя, ради памяти о тебе. И ради себя тоже. И еще ради моего отца. Ему бы это понравилось. Ему нравится все, что ломает заведенный порядок. Он бы нами гордился.
Вдруг какое-то оживление. Меня толкают. Я спускаюсь на землю и снова оказываюсь посреди толпы. Шествие растекается во все стороны, чтобы рассыпаться окончательно, словно охваченное паникой. Откуда-то спереди доносится крик десятков голосов:
— Fuoco! Fuoco![14]
Я поднимаю голову.
Огонь…
Да, огонь. Толпа стекает с дороги, чтобы хлынуть волной на мои земли. Я сам захвачен ее порывом. Огонь… Они увидели огонь… Словно еще не веря, я хватаю за рукав первого встречного и спрашиваю его, что случилось.
— Да вы посмотрите вперед, porca miseria! Смотрите!
Толпа вопит и устремляется в виноградник. Поднявшись на цыпочки, я наконец вижу.
Огненный пузырь. Один, прямо посреди моих арпанов. На диво круглый. Совершенно сказочный. Больше мне нечего тут делать. Разве что смотреть. Стараться не поддаваться всеобщей панике. И восхищаться огненным вихрем.
Вдалеке уже кричат в мегафон, что слишком поздно, что часовенке уже ничем нельзя помочь.
Огонь охватывает ее в один миг. Несколько человек суетятся вокруг, пытаясь как-то остановить пожар. Но очень быстро у них опускаются руки, и они лишь безучастно смотрят, как огненное чрево поглощает жалкую хибарку.
Крики смолкают, и толпа застывает в неподвижности, окаменевшая, загипнотизированная открывшимся зрелищем. На глазах жителей Соры сгорает часть их собственной истории.
Проходит несколько минут. Часовня вот-вот рухнет окончательно. О чем сейчас думают эти две тысячи крестьян, которые передавали историю этой развалюхи из поколения в поколение? Они стоят молча. Им стыдно, что по их вине она пребывала в запустении столько лет. В сущности, она мертва уже давно.
Внезапно раздается первый треск. Над толпой поднимается смутный гул. Они ждут — в волнении, с колотящимися сердцами… Они хотят видеть. Языки пламени вздымаются к самому куполу и охватывают его в несколько секунд. Пожар весело лижет руину, словно какое-то лакомство, леденец, прежде чем проглотить. Никакого сопротивления. Наоборот, совершеннейшая податливость. Высоко-высоко вздымается длинный огненный язык. Опять треск. Я стою, раскрыв рот, опустив руки, как и все прочие, в ожидании неминуемого.
Когда стены начали прогибаться, толпа резко подалась назад.
И сразу после этого две смежные стены упали со зловещим грохотом. Уступив натиску огня, они обрушились наружу, словно их нарочно растащили в противоположные стороны. Купол свалился далеко позади. Часовня раскрылась, словно цветок, и в этот самый момент толпа закричала.
Костер вспыхнул вокруг лежащих стен с новой силой, будто желая показать всю свою мощь. Но лишь на несколько секунд.
А потом…
Посреди пламени и черного дыма, когда все уже, казалось, было кончено… Нам явился святой.
Все такой же прямой на своем каменном постаменте.
Невредимый.
Со взглядом еще более суровым, чем когда бы то ни было.
Сант'Анджело испытующе глядел на толпу.
Какая-то женщина рядом со мной опустила голову и прикрыла глаза рукой.
Он стоит среди тлеющих и потрескивающих обломков, целый и невредимый, словно ни одна искорка не посмела коснуться его.
Он странно блестит.
Несколько человек в первых рядах пятятся задом.
Одна женщина теряет сознание, и ее относят в сторону без единого возгласа.
Метрах в десяти от меня какая-то чета преклоняет колена.
Дым рассеивается, костер агонизирует. На нас мягко нисходит тишина, леденящая душу. Под разверстыми небесами Сант'Анджело брезгливо глядит на нас с высоты своего величия. Именно таким мы его видим.
И я вместе со всеми. Я все позабыл.
Через какое-то мгновенье, точнее, целую вечность спустя, кто-то дерзнул нарушить молчание. Безумец. Вытянув руку, вихляясь, словно шут, он приблизился к статуе, и женщина рядом со мной поднесла руку к груди. Медленным шагом он приблизился к самому подножию.
Сант'Анджело весь лоснится и блестит.
Человек секунду колеблется, словно боится сгореть.
Потом его рука прикасается к статуе, гладит святого, он недоверчиво таращит глаза. Затем оборачивается к толпе и говорит:
— Е vino…
Струящийся шепот разносит его слова до самых последних рядов.
— Е vino! Е vino!
«Это вино!» Да, это вино. Сант'Анджело истекает вином — потеет вином и плачет вином. Своим вином.
Кричат женщины и дети, толпа приходит в движение, напирает чересчур сильно. Тот, кто первым коснулся святого, закачался и ничком упал на землю. Кто-то бросился к нему на помощь.
И вдруг душераздирающий крик перекрыл все остальные голоса. Кричит человек.
Вокруг него образуется круг. Я пытаюсь приблизиться, яростно расталкивая людей на своем пути. Я не хочу пропустить ни крупицы из этого зрелища. Человек стоит на коленях и, не смолкая, хрипло воет.
Падает на землю, закрыв лицо ладонями.
Никто не осмеливается прийти к нему на помощь. Из страха. Я хочу видеть. Он плачет и причитает, как малый ребенок.
Это Марчелло.
Он ползет на локтях и коленях к статуе. Люди расступаются на его пути. Он рыдает все сильнее и сильнее. Он влачится по грязной земле, пока не достигает наконец подножия. Над людским сборищем поднимается крик: «Lo cieco! Lo cieco!» Да, это он, слепой, разыгрывающий роль страдальца у ног святого. Он вскрикивает еще раз, отнимает руки от лица и падает, словно лишившись сил.
На всех нас опускается покров полнейшей тишины.
Марчелло лежит, оставаясь без движения довольно долгое время. Потом его руки скользят по лицу и опять падают на землю…
Он поднимает голову. Глядит на небо. Потом на нас. На нас.
Его глаза широко открыты.
Он поворачивает голову к святому и простирает к нему руки. И вновь падает замертво.
К нему подходит какой-то старик, теребит за плечо. Марчелло резко его отталкивает:
— Не трогайте меня! Не трогайте меня!
Я пробиваюсь в первые ряды. Марчелло обводит нас долгим взглядом. И снова оборачивается к святому.
— Мои глаза!.. Мои глаза!.. Сант'Анджело… теперь я тебя вижу…
Его глаза плачут и смотрят на толпу.
— Я и вас вижу… Всех вас!
6
Девять вечера. Днем их еще можно было сосчитать. Новость тотчас же разлетелась по окрестным городкам, и все, кто собирался на Гонфаллоне, теперь толпятся здесь. Две тысячи, потом три тысячи, потом шесть тысяч душ. Одни — преклонив колена, другие — в молчании, молитвенно сложив руки. Кто-то комментирует событие, рассказывая подробности вновь прибывшим, другие нервно бродят вокруг. Похоже, в этом году состязания не состоятся. Но от такой замены никто не проиграл, и люди приготовились к ночному бдению совсем другого рода.
Сант'Анджело вернулся.
Скоро ночь. Лотки и палатки уже перенесли сюда. Можно попить и поесть. Местное телевидение прикатило еще до полудня, чтобы сделать свой первый репортаж. Потом, ближе к вечеру, явилась команда РАИ, торопясь поспеть со своим прямым включением к двадцатичасовым теленовостям.
Я посмотрел одним глазком на монитор, другим — на тележурналиста с микрофоном наперевес в пятидесяти метрах от пепелища. Забавно, но именно на этом маленьком экранчике мне по-настоящему раскрылся истинный смысл события, словно все, что произошло здесь за это время, было лишь путаным сновидением, словно вещи видятся яснее, когда кто-то тебе их показывает. Бесстрастный комментарий, крупный план лица статуи, панорама на пепелище, наезд на коленопреклоненных, показ различных реакций «очевидцев чуда»… Чудо… Miracolo…
Немало времени прошло, прежде чем было брошено это слово. Надо быть по-настоящему в этом убежденным, чтобы решиться, как этот комментатор, поведать о случившемся на всю Италию. Напомнив о первом появлении святого в 1886 году, он протягивает микрофон одному из свидетелей со словами: «Итак, сегодня утром Сант'Анджело снова явился нам…»А крестьянин с открытым лицом искренне говорит, размахивая руками: «Вначале мы увидели огненный шар…»
Он соединяет кончики своих десяти пальцев, делая из них подобие сферы, и раскрывает ладони: «…и часовня развалилась надвое, вот так… словно ореховая скорлупа».
Мне вспоминается Бьянка, прикованная к своему телевизору.
Чуть поодаль группа людей, одетых по-городскому, обсуждает техническую сторону вопроса. Меня это заинтересовало. Я подошел поближе. Почему свод не обрушился на статую, откуда взялась эта винная пленка? Все они говорят одновременно, понизив голос, потом вдруг замолкают без всякой видимой причины.
Меня так и подмывает прийти им на помощь — поразить, показав чертежи с отмеченной трещиной, разделяющей часовню пополам, а также все стратегические точки на каркасе здания и несущей балке, которая была зажжена в первую очередь, чтобы избежать обрушивания вовнутрь. Но все чертежи тоже обратились в пепел, сгорев в пепельнице моей комнаты. Или, может, поведать им, хвастовства ради, то немногое, что я узнал в Риме о способах придания дереву огнестойкости? Но я зарыл аэрозольный баллончик глубоко в землю, где-то в винограднике. Что же касается вина, которым сочилось тело святого, то об этом я тоже мог бы немало порассказать. Начиная с технической стороны всех тех чудес, которыми пестрели газетные хроники последних лет и которые я внимательно изучил. Самовозгорающиеся церковные врата, потеющие оливковым маслом иконы, плачущие статуи Христа и святой Лючии, кровоточащие изображения святых и даже смешение того и другого — бюсты, плачущие кровавыми слезами. Так почему бы и нашему Сант'Анджело не вернуться к нам в спасительной оболочке из вина, которое он сам же и назвал своим и на которое век спустя все дружно наплевали?
Мой взгляд блуждает по сторонам. Я подмечаю, как различно ведут себя люди. Вот священник Соры, дон Николо, в сопровождении двух молодых семинаристов. Его преследуют, стараются ухватить за руку, просят высказаться, но, по всей видимости, он к этому отнюдь не стремится. Вне моего поля зрения комментатор РАИ рычит на ассистентку, которая только что сообщила, что ей так и не удалось после долгих часов уговоров склонить к интервью единственного свидетеля чуда, которого хотелось бы увидеть и услышать всем. Вот камера наезжает на него:
«Еще не оправившийся от шока, господин Марчелло ди Пальма пока предпочитает удалиться с места событий. Но сейчас рядом со мной находится один из его ближайших друзей, который присутствовал при исцелении».
«О, Марчелло… конечно, как не знать, его все тут знают, это наша местная достопримечательность. Он всегда жил подаянием. А глаза, это у них семейное, болезнь то есть. Еще его отец… добрая душа… он тоже ею болел… Я-то хорошо старика помню, мы ведь с Марчелло погодки, сами понимаете… И Марчелло тоже ослеп, как и отец, когда ему было лет двенадцать-тринадцать…»
«Ближайший друг» мямлит, подбирая слова на диалекте, недоступном для понимания слушателей на половине национальной территории. Единственное, что при этом чувствуешь, это те колоссальные усилия, которые он затрачивает, чтобы не произносить слово «слепой», рассказывая о Марчелло. Но историю слепого я знаю получше, чем любой из здешних уроженцев.
На самом деле никуда он отсюда не удалялся, просто ему отгородили утолок в амбаре, чтобы он мог оклематься немного. С тех пор как его коснулась благодать, только дону Николо и доктору удалось с ним поговорить. Уже договорено, что через несколько дней он пройдет полное медицинское и психологическое освидетельствование. Но, нравится это кому-то или нет, все вынуждены примириться с очевидностью — он теперь зрячий.
Журналист прервал свою передачу, потом возобновил четверть часа спустя, и первая картинка, которая появилась на мониторе, — это вид моего виноградника.
Мой виноградник показывают по телевизору…
Малый вещает в микрофон официальным тоном:
«Мы с минуты на минуту ожидаем интервью с виноделом, который в течение многих лет производил вино Сант'Анджело…»
Ах да, этот Джакомо… совсем про него забыл. Вот уж не знаю, как он справится с этой задачей — говорить перед микрофоном, — это он-то, который глаз не поднимает от своих сапог, а рот открывает только для того, чтобы извиниться.
Продолжаю свою прогулку по этому гигантскому живому полотну, словно по какой-то постапокалиптической фреске Джотто — массы людей, сидящие, коленопреклоненные, сбившиеся в кучи, разговаривающие, прикрывая рот рукой. И еще истоптанная и местами развороченная земля.
Опускаются сумерки. Появляются светящиеся точки — свечи, лампады, не знаю, что там еще. И все остальное, невидимое, но давящее на плечи, тишина, которая исходит с высот, ледяное дыхание иррационального, сосредоточенность верующих, выжидание скептиков, страх, как бы опять чего-нибудь не случилось. Кто знает? Ведь вера творит чудеса. Без этих людей и без их желания уверовать ничего бы не произошло.
Время от времени в толпе украдкой показывают на меня. Этого тоже следовало ожидать. Я их почти слышу:
«Вон тот тип, там… да, тот самый… это и есть хозяин виноградника… Француз. Сын одного из местных, из Соры… В Париже живет… Вино нашего святого… оно все ему принадлежит… ему одному… Ammazza!»
А ты, Дарио? Что ты на это скажешь? Ведь все произошло именно так, как ты и предвидел, не так ли? Ведь мы с тобой тысячу раз прокрутили этот фильм, а? Надеюсь, что оттуда, где ты сейчас пребываешь, тебе видно все. Потому что, в конце концов, именно ты осуществил постановку этой эпопеи. Хотя стоит мне только подумать о той цене, которую я вынужден был заплатить, чтобы разгадать твое загробное послание… Ты мог бы выражаться и яснее. Но чудо все ж таки произошло. Хотя и помимо него случилось достаточно других чудес, помельче, которые касались уже только меня одного… явлений, которые видел только я, событий, о которых, кроме меня, никто никогда не узнает. Ты многих надул со своим пресловутым возвращением на родину — свою мать, мадам Рафаэль, — они до сих пор твердо в него верят. Хотя повстречать тебя здесь как-нибудь погожим октябрьским утром, согнувшимся под тяжестью корзины, полной гроздьев, и было бы настоящим чудом. Я горд собой, горд, что почуял подвох с самого начала. Но признаюсь, что такого грандиозного финала даже я не ожидал.
Телевизионщики упаковали в автобус свой багаж. Местные возвращаются в город, но со всех сторон продолжают прибывать на машинах любопытные. Среди них есть и настоящие паломники, которые торопятся занять место уставших и лишившихся праздника поселян. Если бы попытаться сейчас установить цену за один только взгляд, брошенный на святого, то он обошелся бы недешево. Движимый этой же мыслью, ко мне явился робкий Джакомо, сразу же после своего телевизионного дебюта. О чем он со мной будет говорить, я знаю еще до того, как он откроет рот. Но прикидываюсь простачком. Сегодня я заставлю этого малого пережить такое, что перевернет вверх дном всю его спокойную и размеренную жизнь.
— Синьор Польсинелли, меня тут все спрашивают насчет вина… Лоточники говорят, что хотели бы прикупить у нас немного. А я даже не знаю, что делать. Вот я вам и отдаю ключ от амбара.
— Знаете, Джакомо, сегодня столько всего случилось, что у меня сейчас сердце не лежит этим заниматься. Может, завтра…
— Но… хозяин. Многие, очень многие просто требуют… Вы представляете, хозяин… Я уверен, что мы могли бы сейчас запросто продать мерок десять… а то и вдвое больше.
Он склоняется к моему уху. Выражение наивности в глубине его глаз исчезло, испарилось. И, может быть, навсегда.
— И мы даже можем запросить за литр на тысячу лир больше, все равно уйдет.
— Вы думаете?
— Уверен. Даже две тысячи.
Лишь какая-то лицемерная щепетильность помешала мне ухмыльнуться. Оказывается, этот робкий господин весьма силен в устном счете. Прямо самородок какой-то. Кто бы мог подумать, что еще вчера он чуть не даром сбыл бы бочонок вина любому, кто не поднял бы его на смех. С другой стороны, это прекрасно решает мои проблемы. Вот он — готовый коммерческий директор. Он и так уже на верном пути, достаточно лишь чуть подтолкнуть его.
— Сегодня мы вино из погреба брать не будем, но мне кажется, что у входа в амбар оставалась одна бочка… Назначьте цену сами.
Он благодарит меня с понимающим видом и уносится к своему бочонку со всех ног.
В толпе нарастает волна перешептываний и докатывается наконец до меня. Вижу вдалеке врача, прокладывающего себе путь.
Одной даме стало нехорошо… головокружение…
Не думал я, что такое все-таки случится. Честно говоря, я на это устал надеяться. Хотя, если судить по всей той литературе, которую я прочел по данному вопросу, то нет ничего легче для объяснения, чем феномены подобного рода. Они почти неизбежны. Нервное напряжение, усталость, людская скученность, общее настроение, экзальтация — все вместе порождает у некоторых особо ревностных верующих что-то вроде желания пострадать. Внезапная боль, которую вдруг испытывает впечатлительный человек, действительно заставляет его качаться из стороны в сторону. В нашем случае речь и вправду идет об одной верующей, которая тут с самого утра. После ужасных судорог во всех членах у нее теперь сильная слабость. Пострадавшую относят к машине «скорой помощи». Похоже, еще одно чудесное исцеление не состоится. Но этот случай оживил толпу. Она волнуется. Сейчас достаточно малейшего знака, чтобы ее потребность веровать усилилась в несколько раз.
Что касается меня, то я от всего этого начинаю уставать. Отправляюсь съесть жареное баранье ребрышко и запить пивом. Я в одной только тонкой рубашке и поэтому немного дрожу. Дорого бы я дал, чтобы вернуться сейчас к Бьянке и наблюдать за событиями по местному телевидению, сидя в тепле, в мягком кресле.
Джакомо опять разыскивает меня повсюду и наконец находит. Сам он чуть не плачет, поэтому наверняка недоумевает, как мне удается сохранять такое спокойствие.
— Я больше не могу их сдерживать, хозяин… Они там все разнесут, если я им не открою еще одну бочку… За сегодняшний вечер я мог бы продать все… Все!
— Продашь завтра.
— Но зачем же ждать до завтра? Из одного только бочонка я выжал такую цену, что даже не осмеливаюсь вам сказать, хозяин…
Он протягивает мне пачку банкнот. Сам не знаю почему, но я отвожу взгляд.
— Сохрани пока все у себя, Джакомо. Но храни хорошенько.
— Что вы хотите сказать, хозяин?
Молчание. Я выдерживаю паузу. Потом спрашиваю у него, не найдется ли в амбаре чего-нибудь теплого, свитера например. Он говорит, что есть старая куртка. Благословляю за это небеса.
Ночь, похоже, будет долгой.
7
Вчера их было семеро. Некоторую надежду я смог оставить только троим. Остальные уехали несолоно хлебавши, хоть и явились в виноградник раньше меня. Сант'Анджело принялся за работу всего-то девять дней назад, а я уже с ног валюсь под натиском этих типов, которые понаехали сюда со всех концов Италии с предложениями гиблых идей и гнилых контрактов.
— Господин Польсинелли, вы подумали над моим вчерашним предложением?
— Послушайте, господин Польсинелли, вам же обязательно надо подать жалобу!
— Можно вас на секундочку, господин Польсинелли? Вы подумали об экспорте? Скорее всего, в Европу, но будьте осторожны!
— Я покупаю у вас тридцать черенков. Ровно тридцать! Назовите вашу цену!
Мне предлагают все, что угодно, — от скупки всего урожая на корню, попросту и без затей, до увеличения выпуска продукции впятеро, с какими угодно наклейками. Что касается наклеек, то их притащили два каких-то типа в галстуках, и я долго смотрел, как они с ними мудрят.
Сначала были только виноторговцы, скупщики винограда, коммерсанты и производители дешевого красного вина. Потом к ним добавилась целая когорта дельцов, занимающихся выпуском благочестивых картинок и прочим барахлом, с намерением запечатлеть Сант'Анджело. Они хотят поставить вдоль границ участка цепь киосков. Дескать, виноградник от этого не пострадает. Все, что мне останется делать, это прийти и собрать с них арендную плату в разгар сезона. Не знаю, что об этом и думать.
Меня быстро завалили делами подобного рода. По счастью, через три дня после чуда явился предложить свои услуги некто вроде бухгалтера, похожий на Лаки Лучано. Джакомо тотчас же прозвал его dottore из-за его маленьких очечков, многочисленных дипломов и упорного нежелания улыбаться. Это настоящее сокровище. Он занимается всеми встречами и не пренебрегает ни одним предложением. Когда он показывает мне свои выкладки с плотными рядами цифр, можно подумать, что это план наступления, подготовленный генеральным штабом.
Однако все расчеты, которые производил я в своей маленькой голове, были просты. Правда, только до тех пор, пока это не закрутилось. Тридцать тысяч литров из непроданных запасов по пятьдесят франков за бутылку емкостью 0,75 дают нам два миллиона франков плюс рента — получается порядка пятисот тысяч франков в год за вычетом издержек. На этом я вполне мог бы остановиться и жить припеваючи на лоне природы до конца своих дней. Но с тех пор как бизнесмены всех мастей сунули в это дело свой нос, мои примитивные прикидки забылись сами собой.
Джакомо сделался превосходным заведующим производством. В ожидании сбора винограда он нанял шестерых подручных. А пока один из парней откомандирован им встречать прибывающих паломников — в среднем три сотни за день. Другой заправляет автостоянкой. Третий торгует в розницу из расчета: одну бутылку в одни руки в один день. Джакомо следит и за прочими работами — постройкой каменщиками алькова, который защитит святого на будущие века, реставрацией самой статуи выписанным из Милана специалистом, прокладкой к святому месту асфальтированной дорожки и установкой вокруг виноградника электрифицированной ограды. Я провожу свой день, дирижируя этим бардаком, выслушивая предложения всех доброхотов и подводя баланс вместе с дотторе, который разделывается с подсчетами, как пулемет Томпсона с камамбером. Бьянка будит меня каждое утро в шесть часов и видит — загнанного, разбитого, умирающего от голода — в одиннадцать вечера. Кое-кто из этих хищников тоже снял угол у нее, чем пользуется вовсю, чтобы не давать мне покоя даже в моей комнате, и пытаясь вынудить меня что-то подписать в обход дотторе. Именно благодаря их проискам я понял, что этот парень для меня просто незаменим.
Сора стала центром притяжения для паломников и любопытных. Торговля идет бойко, рестораны и гостиницы полным-полны. Некоторые из них даже сменили название; так, одну тратторию перекрестили в «Трапезу Сант'Анджело», и у нас теперь есть даже отель «У виноградника». Но когда я вечерами возвращаюсь домой, на меня смотрят недобрым взглядом. Может, они злятся на меня за то, что я все тут перевернул вверх дном к концу лета?
Явился мэр пригласить меня на заседание муниципального совета. С какой стати, я так и не понял. Нотариус просит заглянуть к нему в контору, чтобы подетальнее разобраться с каким-то там пунктом. Когда я прохожу через рынок, меня хлопают по плечу и поздравляют со скрежещущим смешком. Явился какой-то старикан и заявил, что был близко знаком с моим отцом в те поры, когда тот еще пас своих индюков. Другой выдавал себя за отдаленного родственника. Пятнадцатилетние девчонки свистят мне вслед, когда я прохожу мимо, и пытаются в меня плюнуть. Все тут меня зовут lo straniero. Иностранец. Мне всегда раньше говорили, что эмигрант останется эмигрантом, где бы он ни был. Теперь я начинаю это понимать. Но дело осложняется тем, что этот иностранец заставил плодоносить их собственную землю. Я чувствую, как тучи сгущаются надо мной, и Бьянка все время умоляет меня быть поосторожнее.
Но по сравнению с тем, что случилось на следующий же день после чуда, все это кажется пустяками. Вот когда я струхнул по-настоящему.
По просьбе епископа Фрозинонской епархии Ватикан назначил расследование и выслал двух своих эмиссаров, чтобы те изучили явление на месте.
В общем, обычная процедура. Я знал, что это должно было произойти рано или поздно, я их почти ждал. И все же к появлению черной «ланчии» с номерными знаками государства Ватикан я оказался не готов.
Представьте себе две гранаты в штатском. Два молчаливых субъекта, таких серьезных, будто вот-вот предадут кого-то анафеме. Скромные и вежливые, но при этом обладающие достаточной решимостью, чтобы расчистить себе проход в любой толпе. Стоило только им ступить ногой на землю, как толпа верующих тут же расступилась, словно воды Чермного моря перед Моисеем. Тут-то до меня и дошло, что шутки кончились. Они копались на пепелище добрую неделю, пытаясь извлечь оттуда неведомо что с помощью замысловатого оборудования, которое с каждым днем становилось все замысловатее и замысловатее. Не произнеся ни единого лишнего слова и не пытаясь вступить в контакт со мною или с Джакомо. Две хладнокровные ищейки, роющиеся в горячих камнях и обнюхивающие статую с ног до головы. Два папских нунция с повадками частных детективов — безмолвные, сосредоточенные на тайне, ищущие малейший просчет, сомневающиеся во всем, даже в очевидном. Наблюдая, как они рыщут повсюду, я понял, что им нужен виновный. Они навели в городе справки и по поводу Марчелло. Доктор, который к ним присоединился, пытал исцеленного два дня подряд. И в течение всех этих сорока восьми часов никто не мог с бывшим слепым и словечком перемолвиться.
Ты-то все это предвидел, верно, Дарио? Хотя нет, конечно же нет, ни одного из последствий твоей блестящей идеи ты и вообразить себе не мог.
И теперь тебе на это плевать, да? Ты ведь не подозревал даже, что такие типы, как эти двое сыщиков, существуют на свете.
Сегодня утром прибыли трое других. В «Мерседесе-600», тоже с ватиканскими номерами, который они оставили, не доезжая до виноградника. Три седока, один водитель. Но из машины вылез только один из них в сопровождении молодого священника-секретаря. Те два эмиссара, которые рыскали неподалеку, чуть не на брюхе поползли, завидев эту фиолетовую тень, медленно приближающуюся к статуе Заступника. По рядам паломников пробежала смутная волна, и они дружно устремились навстречу. Дон Николо побледнел. Они все преклоняли колени, прежде чем поцеловать его перчатку. Потом они около часа о чем-то переговаривались в машине, и никто не осмеливался даже близко к ним подойти. Долгое время спустя за мной явился секретарь, чтобы представить епископу. Я не знал, как себя держать, и встал на одно колено перед его сутаной, сверкающей на солнце. Странно, но лишь когда я коснулся его перчатки, до меня дошло, что все это уже чересчур. Добром это не кончится, и не миновать мне тюряги.
Месса?
Да, они хотят отслужить мессу послезавтра утром прямо под открытым небом. Официальную мессу, которую почтит своим присутствием сам епископ. Такова традиция. Мне не о чем беспокоиться, секретарь и дон Николо все возьмут на себя. Разумеется, земли не пострадают.
— Они ведь для нас слишком ценны, не правда ли, монсеньор? — сказал секретарь, улыбаясь своему начальнику.
В течение всего того времени, что длилась наша беседа, я косил глазом в сторону силуэта, который по-прежнему маячил в машине. Загадочный пассажир вылез наружу лишь после того, как я довольно далеко отошел по тропе, ведущей из виноградника.
На дороге мне повстречался Манджини с ружьем в руке. Из его ягдташа свешивались кроличьи лапы. Взамен вежливого обращения ко мне в третьем лице он перешел на «ты». Мне показалось, что он почти до крайности обеспокоен.
— Не дай им себя запугать, всем этим, Антонио. Я их тут понавидался, этих проныр, которые наобещают с три короба, да и попов тоже. Говорю тебе: не дай им себя облапошить. Видишь там свет, за теми деревьями? Там мой дом. И вот что я хочу тебе сказать… Хотя даже не знаю, зачем я это говорю… Но если тебе понадобится совет… или нужно будет укрыться… Ты всегда можешь зайти, когда захочешь.
Я не пытался понять. Я только протянул руку, а он открыл объятия и прижал меня к себе.
Проходя по Неаполитанскому мосту, я увидел группу мопедов, выставленных вдоль террасы последнего открытого кафе Соры. Приметив меня, компания молодых парней, развалившихся на оранжевых пластмассовых стульях, вдруг перестала горланить. Последовали несколько секунд гробового молчания, пока я проходил мимо. А потом сзади меня раздался настоящий концерт — гудки и рев моторов. Вскоре мальчишки, сидя верхом на своих машинах, стали шнырять вокруг меня, пытаясь толкнуть или преградить дорогу. Они развлекались, обзывая меня stronzo, disgrazzlato и выкрикивая кучу других ругательств. Я ускорил шаг, сожалея о ружье Манджини, единственном орудии, которое могло бы выравнять соотношение сил. Какой-то курчавый коротышка на полном газу шлепнул меня по затылку — я не сумел вовремя увернуться. Меж тем заметно было, как в темноте закрываются ставни и приоткрываются двери.
— Чего вам надо, кретины? — заорал я.
Они притормозили метрах в десяти от меня. Я пересек улицу, они тоже свернули к противоположному тротуару. На какой-то момент игра возобновилась. Не знаю точно, чего они хотят. Наверняка они и сами того не знают. Конечно, им хочется подразнить меня — из ревности, из мести. Я у целого города вызываю раздражение, и к этому надо быть готовым. Но пока только молодежь осмеливается проявлять его столь явно, да и то вдесятером против одного и среди ночи. Один из них, наверняка самый отчаянный, перегораживает мне путь и окидывает насмешливым взглядом.
Эти несколько дней по-настоящему меня утомили. С меня, пожалуй, хватит. Самое время возвращаться.
— Эй ты, хватит выпендриваться! Если хочешь, чтобы я убрался из вашей дыры, дай пройти!
Он поворачивается к остальным и вопит во всю глотку, повторяя мои слова. Они гогочут все вместе, передразнивают, повторяя мои ошибки в произношении. Заводила говорит со смехом:
— Тебе?.. Убраться?.. Да что ты! Мы тебя тут все слишком любим, чтобы отпустить.
При этом он, раскачиваясь, сидит на своем драндулете. Улучив момент, когда он обернулся к остальным, чтобы посмеяться вместе с ними, я влепил ему увесистую затрещину, свалившую его наземь, и бросился бежать к Бьянкиному дому под рев акселераторов.
На последнем издыхании я захлопнул за собой дверь. Они еще долго молотили в нее, прежде чем убраться восвояси. Бьянка вся дрожала.
— Хочешь, я пойду спать в какое-нибудь другое место?






