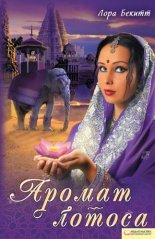Клуб неисправимых оптимистов Генассия Жан-Мишель

– Мы во Франции, значит говорим по-французски. Хочешь говорить по-польски, возвращайся в Польшу. Я – русский. Я хочу понимать твои слова.
Они выбрали свободу, покинув жен, детей, семьи и друзей. По этой самой причине в клубе не было женщин. Своих спутниц они оставили на родине. Они были тенями, париями – без денег, с дипломами, которых никто не признавал. Жены, дети и родина жили в их памяти и сердцах. Они хранили им верность. Редко говорили о прошлом, занятые тем, чтобы заработать на жизнь и найти в ней хоть какой-то смысл. Уйдя на Запад, они отказались от удобных домов и успешной карьеры. Они не думали, что день завтрашний окажется таким невыносимо трудным. Некоторые за несколько часов превратились из высокопоставленных функционеров и руководителей крупных предприятий в бездомных бродяг, и это падение было столь же невыносимым, как одиночество и ностальгия. Многие находили политическое убежище во Франции, помыкавшись и постранствовав по миру. Здесь было куда лучше, чем в отвергших их странах, здесь была родина прав человека, конечно, если ты умел помалкивать и не предъявлять слишком высоких требований. Они все время повторяли, как заклинание: «Мы живы и свободны». Однажды Саша сказал мне: «Разница между нами и остальными заключается в одном: они – живые, мы – выжившие. Если ты выжил, грех жаловаться на судьбу, это было бы оскорблением тех, кто остался там».
В клубе им не нужно было ничего объяснять или оправдываться. Они были среди своих, среди изгнанников, и понимали друг друга без слов. Они находились в одинаковых условиях, переживали одни и те же невзгоды. Павел не раз повторял: «Мы можем гордиться, ребята, нам наконец-то удалось воплотить в жизнь идеал коммунизма – всеобщее равенство!»
– Чего же еще хотеть, мой милый?
Первым со мной заговорил румын Виржил, чей раскатисто-певучий акцент вызвал у меня улыбку. Акцент был еще одной общей чертой этих людей. Они «съедали» половину слов, употребляли глаголы в инфинитиве, ставили их в начале фразы, игнорировали местоимения, путали омонимы, плевать хотели на род существительных и вставляли их в более чем смелые словосочетания. Время от времени кто-нибудь начинал поправлять ошибки в речи остальных, читая импровизированную лекцию по французской грамматике, которая наверняка привела бы в ужас почтенного лицейского преподавателя. Тем не менее они хорошо понимали друг друга и, говоря о политике или событиях в мире (что было их главным занятием), ухитрялись ругаться на французском.
– Можно мне остаться?
– Если ты молчать, можно кибиц[69].
Он увидел, что я не понял смысла сказанного, и пояснил:
– Смотреть игру молча. Не встревать.
Тишина была неотъемлемой составляющей клуба. В действительности людям нужна была не столько тишина, сколько покой. Было слышно, как игроки передвигают по доске фигуры, как они дышат, вздыхают, перешептываются, хрустят пальцами, а выиграв, издают победный смешок… Иногда раздавался шелест газетных полос и мирное посапывание уснувшего игрока. Догадаться, что два человека разговаривают, можно было только по движению губ и подставленному уху. Некоторые даже прикрывали рот ладонью, чтобы никто не смог прочесть слов по губам. Выглядели они при этом как заговорщики. Игорь объяснил мне, что это давняя, неизжитая привычка, приобретенная на другом конце света, там, где одно слово могло отправить человека в тюрьму или в могилу, там, где следовало опасаться лучшего друга, брата, собственной тени. Если кто-то повышал голос, остальные изумлялись, через секунду вспоминали, что они в Париже, и тоже начинали говорить громко, но возбуждение спадало так же быстро, как возникало. У меня появилась привычка бесшумно пробираться между столиками, молча сидеть в своем углу, говорить тихо, почти неслышно, выражать свои мысли взглядом, движением бровей, взмахом ресниц.
Бывали вечера, когда тишину в клубе сменял оглушительный смех.
Игорь, Павел, Владимир, Имре и Леонид были веселыми людьми, они ничего не принимали всерьез, объектом их насмешек становилось все и вся и в первую очередь – они сами. Они не давали спуску ворчунам, требующим тишины, и без устали хохотали над коммунистическими анекдотами, коих знали без счету. Я не сразу понял, что их абсурдистские шутки не так уж далеки от реальности. Будничную жизнь этих людей никто не назвал бы легкой, но они не грустили и не предавались меланхолии, не теряли чувства юмора и выглядели беззаботными – так, словно никакие воспоминания не мешали им жить. Того, кто впадал в уныние и не мог скрыть тоску, немедленно призывали к порядку: «Не доставай нас своими проблемами. Ты жив, так живи!»
Отношения между ними бывали либо благостно-дружелюбными, либо запредельно враждебными. Одни ненавидели систему, другие верили в будущее рода человеческого – поддерживался нейтралитет, и вдруг – по непонятной причине – происходил взрыв эмоций. Они забывали французский и нарушали установленное Игорем правило, переходя на родной язык. Следом в перепалку включались все присутствующие – даже те, кто понятия не имел о причинах стычки. Минут десять они орали друг на друга, выкрикивали чудовищные оскорбления. Больше всего это напоминало вавилонское столпотворение. Когда я просил Игоря перевести, он улыбался и отвечал: «Не стоит. Ничего хорошего ты не услышишь. Что поделаешь: мы либо живые, либо выжившие».
Однажды Игорь снизошел и объяснил мне, по какому принципу члены клуба раз и навсегда разделились на два непримиримых лагеря: одни ностальгировали, но окончательно порвали с социализмом, другие по-прежнему верили в доктрину и пытались разрешить не имеющие решения дилеммы. Незажившие раны ныли и болели. Ругань была жестокой, как ураган, сметающий все на своем пути, но успокаивался скандал так же быстро, как начинался, и никому не наносил увечий. Наружу вылезали древние конфликты и стародавние споры Центральной Европы. Поляки ненавидели русских, те питали к ним отвращение, болгары терпеть не могли венгров, которые их игнорировали, немцы гнушались чехами, которые презирали румын, которые плевать на это хотели. Здесь те и другие были апатридами и равными соперниками. Высказав наболевшее, задиры, как по волшебству, успокаивались и продолжали отложенную на время перепалки партию. Через пять минут после жаркого спора они все вместе искренне смеялись чьей-нибудь шутке. Они пили, не зная меры. Любые новости – хорошие и плохие – становились поводом для застолья с выпивкой. Водка в те времена стоила непомерно дорого, и они употребляли «местные» напитки, любили кальвадос, арманьяк и коньяк, залпом пили «102-й» – двойной «Пастис-51»[70] и всегда чокались. Когда Леонид Кривошеин приехал в Париж, он совсем не говорил по-французски и, если хотел сказать: «Приглашаю тебя выпить по стаканчику», говорил: «Уроним бутылочку?» Завсегдатаи клуба взяли эту фразу на вооружение и с тех пор так и «роняли бутылки». По всеобщему признанию, никто не мог выпить больше Леонида и никто никогда не видел, чтобы он шатался. Даже когда «уговаривал» один или два «204-х».
На родине они могли выписывать одну-единственную газету и потому высоко ценили право выбирать прессу по собственному вкусу и усмотрению. Они читали все, что попадалось под руку, удивляясь, как может журналист критиковать министра и оставаться в живых и на свободе, почему газету, заподозрившую правительство в обмане, не закрывают. В среду был день «Канар аншене»[71]. Владимир, Имре или Павел читал вслух статью Морвана Лебеска[72], которого превозносили до небес за пыл, неиссякаемую жажду протеста и «задиристую поэтичность». Его обозрения и литература боя вызывали их единодушное одобрение.
– Этого типа следовало бы объявить «общественно целебным», – утверждал Вернер.
Мне доподлинно известно, что выживали они благодаря деньгам, которыми их снабжали Кессель и Сартр. Богатые, знаменитые, великодушные и умеющие хранить чужие тайны, Кессель и Сартр рекомендовали своих приятелей Гастону Галлимару и другим издателям, и те иногда давали им переводы. Я много лет жил среди них и ничего не видел, а правду узнал случайно, через пятнадцать лет после закрытия клуба, когда встретил Павла на похоронах Сартра.
Я стал самым молодым членом клуба и больше не общался с друзьями по настольному футболу. Подружился с Игорем Маркишем, русским врачом, и он научил меня играть в шахматы. В Ленинграде у него остался сын моего возраста. Игорь представил меня своему приятелю Кесселю, с которым он говорил по-русски. Там же я познакомился с Сартром. Мои воспоминания о нем противоречат всем его официальным биографиям. Сартр шутил, он был веселым, забавным, жульничал в шахматах – крал с доски фигуры – и хохотал, когда Кессель ловил его за руку, заметив отсутствие коня на f5. В «Бальто» Сартр бывал редко. Он чувствовал враждебность некоторых членов клуба, обвинявших его в симпатиях к коммунистам, но не гнушавшихся его деньгами. Он мог весь вечер писать, не поднимая головы, много курил, докуривая сигарету до самого фильтра, и никто не смел нарушить его покой. Окружающие взирали на него издалека, испытывая священный трепет: не каждому дано лицезреть, как творит гений. Даже те, кто его не любил, следили за соблюдением тишины:
– Не будем шуметь. Сартр работает.
11
Конец декабря выдался ненастным, небо над Парижем было серым, холод стоял ужасный. Мы впервые не праздновали Рождество всей семьей. Какая-то связь, удерживавшая нас вместе, порвалась. Франка, готовившегося к поступлению в Школу офицерского резерва, призвали на месяц в армию, и он совершал марш-броски по заснеженным провинциям Германии. О положении в Алжире ходили немыслимые, противоречивые слухи. Дедушка Филипп решил отправиться на место, чтобы составить собственное мнение о происходящем. Ходили разговоры, что все газеты подкуплены и доверять им нельзя, всем – за исключением «Л’Орор», да и то с натяжкой. Мама решила сопровождать своего отца, оставив на время надзор за работами в магазине: ей очень хотелось повидать любимого брата и насладиться синевой африканского неба. Жюльетту они взяли с собой, а я ехать не захотел, «прикрывшись» необходимостью заниматься.
– Дело твое, – ответила мама и не стала меня уговаривать.
Мы с папой остались холостяками. Я заботился о нем, покупал продукты, а вечером заходил за ним на авеню Гобеленов, где он руководил масштабными работами, обещавшими потрясти основы семейного предприятия. Он брал меня с собой в овернское бистро на улицу Фоссе-Сен-Жак, где был завсегдатаем. В задней комнате играли в таро[73]. Сначала правила игры до меня не доходили, потом в голове вдруг щелкнуло, и я все понял. Когда игроки садились за стол, я устраивался на стуле у отца за спиной, и он советовался со мной взглядом, пасовать ему или вистовать, торговаться, объявлять «приз» или «гарде» или делать уже ставку на бонус «петит о бу»[74].
– У Марини семейный подряд! – язвили папины партнеры, но он пропускал их шуточки мимо ушей.
Мы часто выигрывали, а потом шли ужинать. Папа обожал китайскую кухню, и мы каждый вечер ели в ресторанчике на улице Мсье-ле-Пренс.
Мы впервые пропустили рождественскую службу в церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Площадь перед Пантеоном превратилась в каток. Мы провели вечер у телевизора, объедаясь рождественским «поленом» с пропиткой «гран-марнье», шоколадными конфетами от Мюрата, глазированными каштанами, и хихикали, представляя, как будут мерзнуть наши соседи по кварталу, выйдя с полуночной мессы. Злословить о добрых католиках было не слишком по-христиански, зато очень приятно.
– Твоей маме не нужно знать о «прогуле», пусть думает, что мы стояли в задних рядах.
– Зачем нам врать?
– Чтобы избавить себя от ненужных споров и обсуждений.
– Можем сказать, что я заболел, а ты за мной ухаживал. Она поверит, в Париже сейчас эпидемия гриппа.
В конце декабря папа сделал себе лучший из подарков. Купил «Ситроен-DS19 Prestige». Разговоры об этой машине он вел целый год. Маме идея не нравилась, она отдавала предпочтение более надежному «пежо» 403-й модели. Папа нарушил мамино вето и однажды вечером между делом объявил о покупке:
– Будет так, и никак иначе.
Он приложил максимум усилий, чтобы ускорить доставку, и получил машину на три месяца раньше обычного срока. Мы отправились за ней на бульвар Араго. Церемония передачи ключей больше напоминала вынос Святых Даров в церкви. Машина в салоне была одна – черная, сверкающая глянцем, как зеркало, изящная, похожая на живое существо. Мы ходили вокруг, пытаясь осознать, что она наша, и не смея до нее дотронуться. Директор салона начал объяснять тонкости управления, папа много раз переспрашивал и повторял за ним, чтобы лучше запомнить. Масса кнопок, автомагнитола стерео, мягкие, как кресла, сиденья. Поначалу у папы возникли некоторые трудности – он не мог справиться с рычагом переключения скоростей. Машина двигалась рывками, как норовистая лошадь, и то и дело останавливалась, папа нервничал. Но в конце концов он освоился, и «ситроен» поехал. Он сам вел, ускорялся, тормозил, обгонял. Водителю оставалось только не мешать. На бульварах Марешо люди оборачивались нам вслед. У Итальянских ворот мы выехали на шоссе. «DS» летел, свободный, как птица в небе. Ни одна другая машина не смела бросить ему вызов. Он легко обгонял их. Папа был самым счастливым человеком на свете. Он принялся передразнивать дедушку Филиппа, говоря с габеновским акцентом, который имитировал невероятно искусно. Я расхохотался, и он совсем разошелся, стал изображать Пьера Френе[75], Мишеля Симона[76] и Тино Росси[77]. Я смеялся до слез. Папа включил радио, и мы принялись подпевать Брассенсу:
- Сидят, целуясь, парочки, как голубки,
- Голубки, голубки.
- Им плевать на злые языки
- И косые взгляды.
- Сидят, целуясь, парочки, как голубки,
- Голубки, голубки.
- Клятвы их так жарки и легки,
- Рука касается руки[78].
На Рождество папа приготовил мне сюрприз – он повел меня в оперу. Идея пришла ему в голову в последний момент, так что за билеты в театральном агентстве пришлось заплатить бешеные деньги. Папа прифрантился и, увидев меня в потерявшем «товарный вид» костюме, был неприятно удивлен:
– Тебе больше нечего надеть? Мы все-таки идем в оперу…
– Это мой единственный костюм.
– Я скажу маме, чтобы обновила твой гардероб. Поторопись, иначе опоздаем.
Мы сидели на балконе второго яруса, на боковых местах. Я уступил папе кресло, несмотря на его протесты, а сам устроился на откидной скамейке. Чтобы видеть авансцену, приходилось все время тянуть шею. Зал был полон: дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах. Папа сиял.
– Твой дедушка продал бы душу за возможность послушать «Риголетто», – сказал он, сгорая от нетерпения.
Свет погас, зрители откашлялись. Оркестр заиграл увертюру. Музыка была прекрасна, но на сцене ничего не происходило. Наконец занавес открылся, и взорам публики предстал дворец герцога в Мантуе. Слава богу, что я догадался прочесть либретто, иначе ничего бы не понял. Исполнители пели на итальянском, но мне показалось, что все, кроме меня, понимают смысл слов. Папа был на седьмом небе от счастья. Я заметил, что он неслышно подпевает герцогу. Читать программку в темноте я не мог и ужасно скучал. А певцы всё пели и пели.
– Долго еще, папа?
– Наслаждайся, сынок, слушай, сейчас будет красивейший пассаж.
Проблема заключалась в том, что я не знал, чем именно должен усладить свой слух, путался в персонажах, которые сначала слушали чужие вокализы, застыв на месте как полные дураки, а потом начинали завывать сами – и так до бесконечности. Сиденье было неудобное, и я без конца ерзал, соседка даже одернула меня строгим шепотом. Папа наклонился и сказал мне на ухо:
– Закрой глаза, Мишель. Слушай. Следуй за музыкой.
Он был прав. С закрытыми глазами получалось лучше. Я мысленно переместился в «DS», а когда проснулся, не понял, где нахожусь.
– Тебе понравилось?
– О да, очень. Может, чуть-чуть затянуто… Особенно финал.
– А по мне – пусть бы длилось всю ночь.
Первого января мы собирались навестить в Лансе дедушку Энцо, но за два дня до Нового года он все отменил, сославшись на недомогание бабушки Жанны. Папа расстроился – не только из-за болезни матери, но и потому, что сгорал от нетерпения продемонстрировать родителям новую машину и уже проложил маршрут. Ему хотелось навестить старых друзей, а теперь он остался ни с чем. На звонок Батиста ответил я, думая, что это мама, и очень удивился: дядя никогда нам не звонил. Они с папой не очень-то ладили. Приглашение брата застало отца врасплох, но он его принял. Один чувствовал себя обязанным сделать дружеский жест, другой – ответить на него. Батист был старше моего отца всего на год, но выглядел намного хуже. Глядя на них, никто бы не поверил, что эти люди – братья, такими разными они были. Папа купил подарки племянникам и замечательную вересковую трубку с красивой резьбой для Батиста. Дядя нам ничего не приготовил, стал упрекать брата за то, что тот якобы хотел его унизить, и запретил детям разворачивать свертки.
– Нужно было предупредить, я бы тоже озаботился! А ты… ты… все как всегда.
Папа сдержался и не вспылил. Мои кузены умирали от желания посмотреть подарки и ждали отцовского разрешения.
– Не будем ссориться, Батист, сегодня все-таки праздник.
– Тебе хорошо известно, Поль, что у меня нет лишних денег, вот ты и решил меня уколоть.
– Я хотел порадовать детей. Ты не должен, не смеешь лишать их радости.
– Ты своей щедростью отравляешь нам жизнь. Что ты пытаешься доказать? Что богат? Ладно, ты победил! Думаю, у тебя серьезная проблема – не знаешь, что делать с деньгами.
– Перестань нести чушь!
– Ты забыл о своих корнях, Поль, в этом твоя проблема.
– Я живу в ногу со временем. Я современный человек, люблю жизнь, пользуюсь ее благами и стараюсь сделать все для своих близких. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Что в этом плохого?
– Ты перешел на другую сторону, стал буржуем!
Папа побагровел и сжал кулаки. Я испугался, что он сейчас ударит дядю.
– По-твоему, чтобы быть хорошим человеком, нужно получать нищенскую зарплату, иметь жалкую работу и…
Он не закончил фразу – мы почувствовали какой-то странный запах. Пока папа с дядей препирались, индейка продолжала жариться. Черный дым вернул нас к реальности. Папа кинулся к окну и распахнул створки. Батист обжегся, доставая блюдо из духовки. Птица сгорела. Обуглившиеся каштаны напоминали шары для игры в петанк. Индейка почернела, и Батисту удалось вырезать лишь тонкие серые ломтики совершенно несъедобного вида.
– Если бы ты не выпендривался и принял подарки, мы бы спокойно насладились едой. До чего же мне надоела эта грошовая мораль! Душите нас своими принципами!
– Если бы ты остался таким, как мы, ничего бы не случилось.
Папа выплюнул в тарелку сгоревший каштан.
– Я не изменился! Меняется мир. Неужели ты не можешь этого понять своим убогим коммунистическим умишком? Ну все, с меня довольно, мы уходим!
Он встал, бросил салфетку на стол, сдернул пиджак со спинки стула и пошел к двери. Батист кинулся следом, схватил его за рукав:
– Брось, Паоло, вернись, я приготовлю нам спагетти.
– Никогда больше не называй меня Паоло! Слышишь? Меня зовут Поль! С Паоло покончено! Ты испортил мне аппетит! Знаете что, ребятки, если мои подарки вам не нужны, выкиньте их в помойку! Ноги моей больше не будет в этом доме.
Взбешенный, папа покинул квартиру. Я последовал за ним. Батист и кузены тащились следом по лестнице:
– Ну же, Поль, кончай дурить.
Папа ничего не желал слушать. Он почти бежал по улице, я пытался его остановить, Батист тщетно молил о прощении. Папа шарил по карманам в поисках ключей и никак не мог их найти.
– Что это за машина?
– Хотел похвастаться, а теперь вот испытываю стыд.
– Знаешь, сколько мне нужно работать, чтобы купить такую? Лет пять, не меньше.
– Мне понадобилось три месяца. В этом и заключается разница между нами. Если бы ты увидел мой магазин – я сейчас его перестраиваю, – вообще сдох бы от зависти.
Мы сели в машину. Папа хлопнул дверцей. Тронулся с места, притормозил рядом с Батистом, опустил стекло и сказал:
– Это не просто машина, это – «DS». Если ты не способен понять, так и останешься придурковатым пролетарием!
Мы рванули с места, как будто убегали от погони. Папа гнал как сумасшедший и выглядел не слишком счастливым. Мы пообедали у китайца на улице Мсье-ле-Пренс. Ели молча, только в самом конце он вдруг спросил:
– Я не прав, Мишель?
– Кузенам подарки очень понравились.
– Бедняги. Батист всегда был брюзгой. Теперь я многое начинаю понимать.
– О чем ты говоришь?
– Да так… Дело прошлое. Оставим это.
– Расскажи.
– Расскажу, когда подрастешь. Кстати, чем бы ты хотел заниматься, когда вырастешь? Будущее за телевидением и электробытовой техникой. Подумай об этом.
Однажды вечером Батист позвонил, чтобы поздравить папу с днем рождения. Когда Жюльетта хотела передать ему трубку, папа ответил – достаточно громко, так чтобы услышал брат:
– Скажи, что меня нет. И пусть больше не звонит!
Папа не пригласил Батиста на открытие магазина. В следующий раз они увиделись на похоронах матери, но и в этот печальный день постарались свести общение к минимуму.
12
Я не хотел уезжать из Парижа. Из-за Сесиль. Франк покинул ее, чтобы стать офицером, она осталась одна, и я пригласил ее к нам на ужин. Сесиль не желала встречаться с моим отцом. Я настаивал. Она наотрез отказывалась придавать своим отношениям с Франком статус официальных. Одиночество не тяготило Сесиль, совсем наоборот. Она хотела поработать над диссертацией, чтобы через год представить ее на обсуждение, и целыми днями сидела дома, не высовывая носа на улицу. Я ходил для нее в магазин, покупал молоко, кофе в зернах, сыр грюйер, пряники, яблоки и шоколад «Пулен», не понимая, как она может поглощать его в таких количествах. Меня бы стошнило. Я пытался выманить Сесиль из дому, предлагал сходить в кино, но она отказывалась, говорила: «Там холодно» или «Ненавижу зиму». Она дала мне ключи от квартиры, но пользоваться ими я не любил, рано старался не приходить и часто подолгу жал на звонок, чтобы разбудить Сесиль. Она открывала – заспанная, одетая в толстый белый свитер Пьера и закутанная в одеяло.
– Который час, маленький братец?
– Одиннадцать.
– Не может быть!
Она принимала душ, пока я готовил ей завтрак. Сесиль весь день литрами пила кофе с молоком. Каждый месяц она писала мне короткий список продуктов, давала деньги и отказывалась брать сдачу. Сесиль была мерзлячкой, поэтому мы топили камин и проводили всю вторую половину дня в огромной гостиной-столовой окнами на Дворец правосудия. Время от времени Сесиль давала мне какую-нибудь книгу и требовала, чтобы я немедленно ее прочел и высказал свое мнение. Когда я через несколько дней делал попытку поговорить, она успевала забыть о своем поручении или ей было не до того. Я проводил время в кресле, за чтением. Как только выглядывало солнце, Сесиль тянула меня гулять. Мы бродили по набережным Сены, где она искала у букинистов раритетные издания, сидели в Люксембургском саду – ее тянуло туда как магнитом. Мы устраивались под платанами у фонтана Медичи. Это место Сесиль любила больше всего, здесь она пряталась от мира, здесь работала. Мы старались сесть на отшибе, как правило справа от фонтана, чтобы поймать солнце. Сесиль считала фонтан Медичи лучшим парижским памятником и могла часами смотреть на него, как будто пыталась разгадать тайну пропорций. Для меня это был просто красивый фонтан.
– Этот фонтан – недостижимая мечта, сотканная из воды, камня и света, – произносила она тихим нежным голосом. – Он – услада для глаз. Можно пройти мимо и не заметить его, но, если уж заметил, сразу попадаешь в плен. Флорентийская богиня завораживает тебя своими чарами. Его пропорции идеальны, перспектива совершенна. Она делает тебя романтиком, даже если ты не таков. Вглядись в Ациса и Галатею, разлученных и воссоединившихся навек любовников. Фонтан – маяк для влюбленных и поэтов, хранитель нежных признаний и свидетель вечных клятв. Однажды ты приведешь сюда любимую женщину и будешь читать ей стихи.
– Это вряд ли.
– Будет жалко, если не приведешь.
– Неужели Франк читал тебе стихи?
Сесиль загадочно промолчала.
– Что, он написал стихотворение? Не верю. Только не Франк.
– Запомни – этот фонтан наделен властью. Он делает нас лучше.
Я фотографировал фонтан. С близкого расстояния, издалека. Детали. Колонны. Скульптуры. Много снимков. Я потратил кучу денег. И все зря. Мне никак не удавалось поймать перспективу фонтана, она стиралась, и я не понимал почему.
Сесиль читала горы книг и делала выписки. Бывали дни, когда мы сидели каждый в своем углу и даже не разговаривали. Я не уставал смотреть на Сесиль, ловя малейший жест, но стоило ей шевельнуться – и я прятался за книгой. Я пытался представить, что она читает, о чем думает, что напишет. Проведя много часов за изучением своих лекций, она вдруг поднимала голову, обнаруживала мое присутствие и улыбалась:
– А не выпить ли нам кофе с молоком?
Каждый день она с нетерпением ждала прихода почтальона. Ключ от ящика был у меня, и утром я первым делом проверял его. Нет ли письма? Пьер писал раз в неделю. Франк за месяц прислал одну черно-белую открытку с видом Рейна в Майнце, на обороте он вывел: «Целую тебя, Франк».
– Он не слишком себя утруждает.
– Франк терпеть не может писать, – сказала Сесиль и улыбнулась, чтобы скрыть смущение.
– Как насчет математики? Может, позанимаемся?
– Если хочешь…
Мы погрузились в изучение «Дополнительных примеров по алгебре и геометрии» Лебоссе и Эмери. Попробовали решить несколько задач. Фантазия этой парочки мучителей была безгранична. У Сесиль имелись собственные критерии отбора: из множества примеров она выбрала задачку с велосипедистом.
– Представим себе, что мы за городом.
– Я думал, ты не любишь деревню.
– Так будет веселее, разве нет? Бассейны с вытекающей водой наводят тоску, а идущие навстречу друг другу поезда интересны лишь тем, кто работает в Национальной компании французских железных дорог. Начинаем, это будет нетрудно: «Велосипедист должен преодолеть по ровной местности 36 километров, совершить 24 подъема и 48 спусков. На подъемах его скорость снижается до 12 километров в час, на спусках вырастает до 15 километров в час. Приняв за данность тот факт, что отрезок пути на ровной местности составляет треть от общей протяженности пути, а окружность колеса равна 83 сантиметрам, определите: 1) с какой скоростью велосипедист едет по ровной поверхности; 2) за какое время велосипедист проедет весь маршрут, какой будет средняя скорость, сколько оборотов совершат все колеса».
Мы слегка запаниковали. В условии задачи не сообщались ни возраст велосипедиста, ни час отъезда, мы не знали, есть ли на его машине трехскоростной переключатель и крутил ли он педали на спуске.
– Что, если нам взять мишленовскую карту? Может, так будет понятней?
Мы корпели над цифрами, взвешивали все за и против. Пришли к согласию насчет методики и остались довольны собой. Этот велосипедист не доставит нам никаких хлопот. Мы выиграем пари и станем математиками. Сесиль поручила мне перемножения и деления – я был силен в счете и с легкостью совершил все операции.
– Он едет со скоростью… 4645 километров в час!
– Ты, наверное, забыл поделить на сто. Где-то должно быть правило трех.
Мы искали. Не нашли нигде. Начали все сначала и получили тот же результат. Сесиль решила пересчитать сама и получила результат – 4,316 километра в час. Я предложил передвинуть запятую. Сесиль отказалась. Я не видел смысла упорствовать. Возможно, этот проклятый велосипедист едет со скоростью 46,45 километра в час даже на подъемах, что объясняется его исключительными атлетическими качествами и некой математической извращенностью.
– Никто не узнает.
– Я узнаю!
– Важен результат.
– Важно найти верное решение!
– Это одно и то же.
– Как раз наоборот!
Я не видел разницы. Сесиль видела, да еще какую. Она выглядела озабоченной:
– В этом и заключается разница между мужчинами и женщинами, маленький братец. Мы по-разному рассуждаем.
Традиционные методы не сработали, и Сесиль решила проверить на мне новую педагогическую методику, призванную совершить переворот в образовании и превратить тупиц вроде меня в математических гениев. Ее теория обучения математиков базировалась не на рассуждении и накоплении знаний, а на аналитической памяти и подсознании. Нужно отставить в сторону ум и действовать помимо себя. Если математики – логики, значит должна быть другая дверь, ведущая в подсознание. Остается ее найти. Идею Сесиль почерпнула из американского курса обучения иностранным языкам во сне. Записанный на магнитофон голос без конца повторяет фразы, и те оседают в подсознании. Можно попытаться проделать то же самое с математикой. Я читал вслух учебник, Сесиль пересказывала, запоминая его со слуха наизусть. Потом мы менялись ролями и в конце концов заучивали теоремы механически, как таблицу умножения. Должен признать – частично это сработало. Мой преподаватель математики мерзавец Лашом обалдел бы, услышь он, как непринужденно я излагаю теорему.
– Если фигура F симметрична с фигурой F' относительно плоскости Р и в то же время симметрична с фигурой F'' относительно точки О, лежащей в плоскости Р, то фигуры F' и F'' симметричны относительно оси, проходящей через точку О и перпендикулярной к плоскости Р.
Мы выучили учебник алгебры и геометрии наизусть. Излагали теоремы убедительным тоном, но, по сути, этот метод ничего не дал. Сесиль утверждала, что наше подсознание заблокировано, но это не такая уж редкость, а значит, наше обучение может свестись к раскупориванию забитых каналов. Нужно провести сантехнические работы по очистке собственных мозгов. После нескольких недель переливания из пустого в порожнее стало ясно, что аналитический метод был неудачной идеей. Это не означало, что метод плох сам по себе, с другими он мог бы сработать, но либо мой мозг и математика были совершенно несовместимы, либо мне не подходили психоаналитические методы изучения математики. Сесиль не хотела сдаваться, убежденная, что необходимо дать нашему подсознанию время на усвоение теорем и что рано или поздно знания пробьются наружу, как подземные воды или световая вспышка. Увы, ни щелчка, ни сцепления не произошло. Прошло две недели, я легко пересказывал наизусть учебник математики, но не мог решить ни одного примера. Хуже того (и необъяснимей!) – скорость велосипедиста увеличилась с 4,645 километра в час до 4,817 километра в час! Мы пересчитали и получили тот же результат: велосипедист ехал со скоростью 4,817 километра в час. Мы долго искали вход в психологическую математику. И не нашли. Сесиль была раздосадована – она очень верила в эту методику. Я утешал ее, как умел, но выходило не слишком хорошо. Психология не имеет ничего общего с математикой, а вера не способна сдвинуть гору. Сесиль пришла к выводу, что блок у меня в мозгу имеет психоаналитическое происхождение.
– У тебя проблемы с отцом, верно?
– Мы хорошо ладим.
– Математика – это власть, авторитет. У того, чей мозг категорически не воспринимает математику, проблемы либо с отцом, либо с властью.
Я задумался, пытаясь проникнуться всей глубиной идеи, но чем дольше думал, тем больше запутывался.
– В нашем доме правит, скорее, мама.
– Хочешь сказать, у вас матриархат?
– Папа совсем не властный человек. Всем управляет мама. А ему и дела нет. Его главный принцип – получать удовольствие от жизни. Он рассказывает анекдоты, шутит, продает что хочет. Если ты права, у меня не должно быть проблем с математикой.
– Значит, у тебя проблемы с матерью?
– С некоторых пор стало легче.
– Авторитет в вашей семье не отец, а мать. Произошла подмена образов. Она заняла его место, отсюда и твой блок. По-моему, тебе стоит выбрать литературное поприще. Нравится идея?
– Хочу стать фотографом. А ты когда поняла, чем будешь заниматься?
Сесиль задумалась. Молчала и щурилась, как будто пыталась вспомнить.
– Не знаю.
– Преподавание тоже неплохое дело.
– Мне почему-то вдруг стало страшно. Ты только представь, маленький братец, – всю жизнь иметь дело с болванами вроде нас! Стараешься, из кожи вон лезешь, а они тебя ненавидят.
– Забавно, в воскресенье отец задал мне тот же вопрос. Он хочет, чтобы я поступил в торговую школу, потому что будущее – за электробытовой техникой.
– Какой ужас! Нельзя питать любовь к продаже ванн и стиральных машин.
– Он зарабатывает много денег.
– Вот, значит, чего ты хочешь?.. Не верю, Мишель! Только не ты!
На следующий день Сесиль объявила, что бросает учебу, потому что не хочет вечно быть преподавателем литературы.
– Может, стану психологом.
Я не был уверен, что это хорошая идея, но промолчал.
– Спасибо тебе, маленький братец.
– За что?
– За то, что мы поговорили. Ты единственный человек, с которым я могу поговорить по-настоящему.
– А с Франком не можешь?
Она улыбнулась так печально, что мне стало не по себе, пожала плечами, словно все это не имело значения, потом, в одну секунду, горькая складочка у рта исчезла, лицо просияло улыбкой.
– Можно тебя сфотографировать, Сесиль?
– Валяй. Ты не представляешь, какое это облегчение – избавиться от диссертации.
– Мне казалось, тебе нравится.
– Мой научный руководитель – коммунист и хочет порадовать Арагона – они иногда пересекаются. Будь он марешалистом[79], предложил бы мне взять Клоделя. Я люблю литературу, но не преподавание. К этому нужно иметь призвание, которого у меня нет.
Вскоре после этого разговора она получила открытку от Франка все из того же Майнца-на-Рейне, в которой он все тем же телеграфным стилем сообщал о скором возвращении. Пришло и длинное письмо от Пьера. Сесиль аккуратно вскрыла конверт и осторожно достала два листка. Я читал по ее губам и слышал голос Пьера:
Моя дорогая Сесиль,
мы вот уже две недели не видели и не слышали ни одного партизана. Наша система слежения и обнаружения так хорошо отлажена, что мы пресекаем практически все попытки проникновения. Им удаются прорывы с побережья или со стороны Тебессы, чуть дальше на север, но на нашем участке и в районе Сук-Ахрас все спокойно. Одного из наших ранили – этот придурок упал с крыши, куда залез, чтобы установить радиоантенну. Большую часть времени мы занимаемся разминированием подступов к линии Шалля. Иногда находим пару-тройку мин. Мы остаемся в засаде по два дня кряду, но еще ни разу не сумели сцапать повстанцев. Они боятся нас как чумы, а если и обстреливают, то с такого далекого расстояния, что мы этого даже не замечаем. Никто не жалуется. Лучше уж быть здесь, чем поддерживать порядок в Алжире или Оране. Если бы правительство отдало приказ перейти границу, мы бы давно всех их покрошили. Они по ту сторону, напротив нас, и им известно, что мы за ними не придем. Мы отсиживаемся за нашей колючей проволокой, под сторожевыми вышками, отделенные от врага границей, простой линией на песке пустыни, а они преспокойно возвращаются в Тунис и отсиживаются там. Они трусы, только и умеющие, что пытать и убивать фермеров и беззащитных крестьян, а увидев нас, разбегаются, как кролики. Была надежда, что с появлением де Голля все изменится, мы их сделаем, прихлопнем как мух раз и навсегда, но ничего не происходит. Никакой ясности нет.
Ты поймешь, как глубоко я увяз в этом болоте, если я скажу, что провожу дни за игрой в белот[80] с тремя парнями, которых полгода назад записал в слабоумные. Сегодня они – мои лучшие друзья. Я решил опробовать на них фундаментальные принципы сенжюстизма: раз уж собрался биться за права угнетенных, почему бы не поинтересоваться их мнением и желаниями. Это поможет избежать очередных досадных ошибок. Мне повезло, со мной служат образцово-показательные французские пролетарии из глубинки: сын фермера из Ардеша, наладчик с механического завода в Сент-Этьене, дальнобойщик из Гавра. Уровень образования – бакалавриат минус шесть[81]. Говорят они о девушках, футболе и тачках. Больше всего на свете любят пожрать. Плюют на политику. Лишний повод, чтобы попробовать выяснить, что у них в голове.
Моя книга продвигается. Я дописал третью тетрадь. Еще две – и моя теория станет идеально логичной, последовательной и непробиваемой. Темп замедляется. Мне предстоит решить сложные проблемы причинно-следственных связей. Я не понимал всей глубины фразы Сен-Жюста: «Чтобы наша борьба увенчалась успехом, придется убить немало противников». Я надеялся, что удастся ограничиться несколькими непримиримыми символами старого режима. Нельзя строить иллюзий относительно способности врага к сопротивлению – он пустит в ход все средства, чтобы удержать власть. Произойдет настоящая революция – или не произойдет ничего. Будет много погибших, и я не уверен, готовы ли мы сегодня пролить реки крови. Стоит ли оно того? Конечно стоит. Поддержит ли нас народ? В этом я не так уверен. Народ порабощен и не осмелится восстать, из страха потерять свои жалкие льготы – подачку с барского плеча буржуазии. К чему драться за рабов, лижущих хозяйскую руку? По правде говоря, на этот вопрос я ответа не нахожу. Как далеко можно зайти в попытке сделать людей счастливыми помимо их воли? События в Китае поучительны и многообещающи, они послужат нам ориентиром. Происходят глубинные перемены, последствия которых мы не в силах оценить. Когда демобилизуюсь, поеду в Китай, чтобы увидеть все собственными глазами. Допускаю, что примкнуть к революции мне мешает чувствительность западного человека. Не исключено, что понадобится промежуточный этап.
Напомни этому маленькому дурачку Мишелю слова Альберта Эйнштейна: «Не беспокойся насчет трудностей с математикой, уверяю, у меня их гораздо больше». Здесь снова открыли школу, которая не работала целый год, и командование попросило меня заняться с маленькими туземцами математикой. Один лейтенант из Пуатье учит их французскому и надумал поставить «Беренику»[82]. Детишки очень хотят учиться и все схватывают на лету. За месяц мы прошли программу целой четерти. Мы даем образование детям наших врагов. Насколько это логично, как ты думаешь?
Я умираю от смеха, представляя себе Франка, замерзающего в снегах Германии. Война закончится до его приезда. Я ему написал, но он мне не ответил. Не знаю, дошло до него письмо или нет…
Сесиль замолчала и задумалась. Я взял у нее из рук письмо и перечитал, что оказалось непросто: почерк у Пьера был «докторский».
– Тебе не стоит волноваться. Там, где сейчас находится Пьер, все спокойно.
– Что-то не так. Должен быть другой вход. Нужно только найти правильный ключ. А пока попроси отца, чтобы оплатил тебе репетитора.
Сесиль решила выпить кофе с молоком, зарядила кофейник и составила список продуктов.
– Могла бы и сама сходить в магазин.
– Ты больше не хочешь мне помогать?
– Не в этом дело. Ты целую неделю не была на улице.
– Так ты сходишь за покупками или нет?
Она протянула мне список и две купюры по десять франков.
– Список не понадобится. Я и так все знаю: кофе, молоко, пряники и яблоки. Будешь так питаться, заболеешь.
– Не начинай…
Сесиль взяла меня за плечи и прижала к себе. Она была неожиданно сильной для своего хрупкого телосложения.
– Вот что, маленький братец. Я не нуждаюсь ни в помощи, ни в защите. Ни от тебя, ни от кого другого. Я достаточно взрослая и могу справиться сама. Если хочешь, чтобы мы остались друзьями, никогда больше не говори мне, что я должна делать, ясно?
– Ясней некуда. Но ты слишком худая.
Сесиль толкнула меня на диванчик и принялась щекотать. Она обожала это делать, зная, как сильно я боюсь щекотки. Мы хохотали, я защищался, она нападала. Ответить я не мог – Сесиль щекотки не боялась. Я икал и вскрикивал, потом мне удалось оторвать ее от себя и поднять на вытянутых руках. Я весь взмок и задыхался, Сесиль пыхтела как паровоз. Руки у меня дрожали от напряжения, я продержался десять секунд, потом ослабил хватку. Сесиль рухнула на меня. Мы долго лежали и смеялись, выдохшиеся и счастливые, потом выпили уж не знаю какую по счету чашку кофе с молоком с бретонскими хлебцами и пряниками.
– Ты не сказала, что думаешь о теории Пьера, об этом сенжюстизме.
– Он тысячу раз прав.
– Это будет диктатура!
– А сегодня у нас что? Демократия?
– Нельзя планировать бойню.
– Нужно знать, чего хочешь в жизни!
Тема была опасная. Вступать в спор с Сесиль мне не улыбалось.
– Мне пора. Сегодня вечером возвращается мама.
В субботу мы устроили фотосессию в Люксембургском саду. У меня была всего одна пленка. Сесиль позировала перед фонтаном Медичи, парковыми скульптурами, рядом с музыкальным киоском. Погода была замечательная. Я не торопился, долго выбирал ракурс, ловил свет. Сесиль раздражалась, подгоняла меня, говорила, что, если выйдет ужасно, она порвет снимки, потом присела на край фонтана, и я снял ее с близкого расстояния – до лица было сантиметров тридцать, не больше. Волосы Сесиль растрепались, солнечный луч осветил ее сбоку, и в этот момент она улыбнулась – одними глазами. Лицо Сесиль выделялось на фоне неба и деревьев. Она выглядела умиротворенной и очень красивой. Мне удалось поймать ее убегающий взгляд. В тот день я сделал лучшие за всю мою карьеру фотографа снимки Сесиль. Она не стала их рвать, когда увидела.
13
Мама и Жюльетта вернулись из Алжира с изумительным загаром. Над городом нависало свинцово-серое небо, парижане мерзли, а они вволю погрелись на жарком солнце. Мы стали задавать вопросы о тамошних событиях, но они мало что видели. Не они – мама. Жюльетту переполняли впечатления, но папа запретил ей открывать рот.
– Мне что, уже и слова нельзя сказать?
– Я не желаю тебя слушать.
– Вот и не узнаешь, что я видела.
Мама рассказала, что на каждом перекрестке дежурят парашютисты, что несколько раз они с Жюльеттой просыпались среди ночи от грохота и пытались по звуку определить, в какой части города произошел взрыв. Однажды они с Луизой ходили по магазинам на авеню Бюжо. Какой-то тип в белой кепке дважды выстрелил в мужчину, который сидел на скамейке и читал газету, прыгнул в «стоявший под парами» «Рено-203», машина сорвалась с места, взвизгнув шинами, и скрылась из виду. Застреленный человек повалился набок, но никто не кинулся ему на помощь. Прохожие обходили скамейку, как будто ее и вовсе не существовало. Струйка крови бежала по тротуару в водосток, а люди спешили по своим делам. Но в остальном, по маминым словам, все было спокойно. Дедушка Филипп вернулся из Алжира, уверившись в том, что французская армия контролирует ситуацию и граждане могут доверять и ей, и де Голлю. Очень скоро все придет в норму.
– Мы никогда не уйдем из французского департамента. Мятеж выдохся. Главари в тюрьме.