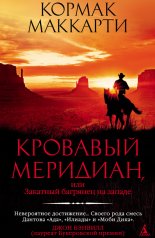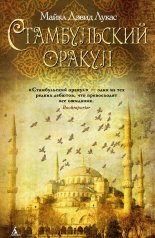Небесная черная метка Кусков Сергей

Небесная черная метка
«Нам книги вырыли могилу»
Э. Верхарн
В вечерних сумерках сыпал крупный жемчужно-белый снег. Взъерошенные снежинки величиной с жухлый березовый лист в пору золотого листопада, суматошно проплясав долгий путь с небесных круч, мягко ложились на стылую твердь. Точно неисчислимые вассалы грянувшей зимы, торопились выбелить цепенеющий окрест: землю, деревья, высотные дома, фонари, дороги – очертания которых растворялись в снежной кутерьме, и желтые пятна окон мерцали как далекие звезды неопознанных миров.
Два уличных фонаря на автобусной остановке были окутаны оранжевым облаком искусственного света, казалось бы, безмятежно разлившегося и уходящего вдаль бесконечной гирляндой желто-белых шаров. На этот крохотный оранжевый островок света вдруг вынырнул длинный грязный автобус с озабоченно рыкающим мотором и встал, как вкопанный. Открылись двери, и из темного нутра битком набитого салона выскочил юноша. Он был одет в черную дубленку до колен, над поднятым воротником которой возвышалась черная норковая шапка. А из-под шапки выглядывало тонкое усталое лицо присмиревшего от каких-то нелегких и тягостных мыслей совсем еще молоденького паренька.
И в тоже время любопытство и надежда, с чем ждут чудес в новогоднюю ночь, временами оживляли грустные глаза. В один из таких моментов, когда между плечами и спинами юноша узрел в заиндевелом окне обшарпанного салона что-то, разительно отличающееся от сутолоки хмурых пассажиров, и в мгновение решил нарочно выйти из автобуса за несколько остановок до своей. Выйти, чтобы поглядеть на роскошный снегопад в фиолетовой мгле, побыть наедине в самой гуще снега и найти окончание пытавшим его мыслям.
Тогда, еще в автобусе, взглянув на странное смешение как будто бы хаотичного движения тончайших кристаллов воды, вбирающих краски уходящего сумрачного дня, юноша подумал, что не иначе как в этот снегопад произойдет нечто значительное, и что никак нельзя упускать эти мгновения. Надо вдоволь нагуляться в торжественном падании снега так, чтобы почувствовать себя, скажем, одиноким деревом, которому выпала злая доля выдержать натиск нашествия снежной армады – не согнуться и не сломаться, в корнях сохраняя жизнь. Сравняться с самим снегом и постигнуть его мертвящее великолепие. Стать безымянной частицей творившегося природного действия.
Подобные редкостные снегопады происходят исключительно накануне чего-то примечательного, важного, таинственного – не такого, как прежде. Это редкая минута откровения и познания одной из граней великой тайны бытия, где любовь, возможно – краеугольный камень. Но какая она, эта любовь, к чему и к кому?
И, когда он уже шагал среди бешено кружившихся снежинок, необычная тревога живо будоражила воображение. Верилось, что еще одно мгновение, еще один шаг – и ясность придет во все его дела и мысли. «Хотя, это очень уж наивно. Разве может быть такое, чтобы одно мгновение вызвало к жизни какую-то чудодейственную мысль – и былое, мрачное и мятущееся, прахом разлетелось бы в тартарары? Нет, это невозможно. Слишком много скопилось неприятностей, и слишком большая из них лепится беда. Почему, осторожно оглашая в себе это, как будто бы благодатное слово – любовь, все во мне отзывается ноющей болью?.. Как удивительно, – думал юноша, – и это в такую пору, в такую погоду, когда холод, злой хозяин, озабочен лишь тем, как скорее уничтожить малейшие признаки исчерпавшей себя жизни, и этот удивительный снег есть всего лишь результат охлаждения перемещающихся воздушных масс. Но это же не так! Ах, этот снег! У снега тысячи лиц и названий. Крохотные физиономии снежинок строго индивидуальны. С чего бы вдруг, именно в эту пору, я жажду красоты и спешу искать ее следы в обледенелом заснеженном царстве. Это, скорее, какая-то чудная блажь. Не лучше ли подумать о домашнем тепле, о чашке чая, о искусственном свете, о вечерней газете, о простой и милой девушке Тане, недавно поступившей к нам на работу – поискать удовольствие вот в этих понятных занятиях, а не бежать сломя голову за какой-то чистой и возвышенной радостью в жестокий мир, объятый холодом и хаосом. Господи, как я хотел бы забыть эту тревогу и жить привычной канителью: работа, дающая материальные средства, часть из которых пустить благоразумно на сбережения, другую часть ухлопать на все, что может занять и развлечь: книги, музыка, театр, путешествия и пр. и пр.; разрабатывать перспективу создания семьи и подыскивать себе достойную девушку – это хорошо, это понятно. Да вот стоит начать жить по такой схеме как старая подружка хандра погрузит то в сон, то в беспокойство, подтолкнет повыть на холодную никчемную луну, ехидно напомнит, что самое главное, самое ценное, подлинное – упущено. Упущено! Почему я тревожусь тем, что не могу понять? Что не дает покоя: неуемная гордыня? Сомнение в правильности выбора объекта своего внимания? Откуда ощущение, что занимаюсь несусветной чушью, и никогда мне не полюбить по-настоящему простую и милую девушку Таню. А я, отрекаясь от нее и собираясь, к тому же, уволиться с работы на механическом заводе, верно, менее всего годен на изобретательство чего-то качественно нового, недостающего. А вдруг его и выдумывать не надо – оно рядом, протереть глаза получше, сердце открыть настежь, пнуть ногой комок снега и невзначай обнаружить в поднявшемся снежном вихре – клад золотых монет! Тайный старинный свиток с утерянной истиной! Придирчиво рассматривая, анализируя вехи истории, без особого труда можно сразу отметить, что тысячи лет человечество добивалось того, что называется гармонией, и вся история – история попыток ее создания. Где-то щепок нарублено больше, чем построено; где-то крови пролито больше, чем рождено новой. Различные идеи, коллизии, планы, проекты, институты мировоззрений; беспощадные баталии как мировоззренческие, так и реальные с ужасающе смертоносным и разрушительным как оружием, так и сознанием. Зыбкая вера, что, якобы, есть новая парадигма, контур которой вот-вот обрисуется. Негативное последствие грубых ошибок, просчетов, неудач собираются в угрожающую силу, готовую не то, чтобы потрепать миллиардное население новыми эпидемиями и катастрофами – саму планету превратить в облако пыли. Сколько исполинских умов тонкой вязью изощренной мысли пробовали объяснить вековечную загадку гармонии! И, между тем, если бы им сполна это удалось, мне не было бы нужды бродить здесь в кромешной тьме. Да что там! В самом деле, правильно мне говорят мои немногочисленные друзья: выбрось этот невнятный туман, эту дурость из головы, живи просто, как мы, довольствуйся уже тем, что есть, мол, каждому сверчку свой шесток. Будет горько – выпей стопку. Приземли свою мечту. Может быть, я так и сделаю… причем сегодня. Вот приду домой, сожгу все свои записки, томики любимых писателей, зарекусь никогда не думать о том, что лучше не знать. Баста! Работа у меня уже есть, есть и возможность перейти на более респектабельное место. Подыщу какое-нибудь увлечение, и не одно сыщу хобби. Останется изыскать способ, как снова подступиться к Тане. Она будет мой самый близкий человека, который и дополнит, чего мне недостает. Еще лучше суметь оставить Таню в прошлом – найти другую представительницу женской половины человечества. Не столь важно конкретное имя. Она – женщина! Великое, благодатное создание природы! Она сможет заслонить своим богатым естеством тот дальний свет, что непонятно тревожит и восхищает. Ее осторожность, внимательность, чуткость, мягкость, ее строгая изобретательность и инстинктивное влечение к дому, теплу, ласке – вот, что мне нужно и что я смогу обрести, поселившись с ней под одной крышей. Я ее буду любить и в одеянии нимфы, и кормящей наших детей, и с веником и тряпкой, прибирающей наш дом. Как бы только скорее увидеться, встретиться! Я хочу верить, что отчасти она такая же мечтательница, как, по большей части, и я. Это важно, потому что главное в семье – единомыслие и единодушие. Она уже имеет первый опыт реальной жизни, Она жаждет мужчину в постоянное пользование, чтобы утвердиться и раскрыться самой полностью. Я уверен, что она ждет меня. Ее щеки пылают от нескромных желаний и, вместе с тем, ее девический стыд стоит на страже и, как верный пес, гонит прочь чуждых временщиков, похотливых и самодовольных, снедаемых гадкою страстью сорвать и смять цветок вместо того, чтобы холить и нежить. Моя милая, я чувствую, час нашей встречи настал. Наверняка сейчас по моему тысячекратно повторенному желанию разверзлись врата сокровенных высших сил, и всемогущая главенствующая сила творит телесную форму моего мысленного образа. Еще мгновение – из снега, ветра и мороза сотворится самое желанное. Еще несколько шагов – я увижу тебя, моя женщина. Как по таинственному зову собираются весной и осенью птицы, так и мы вышли оба погулять в этом фантастическом снегопаде. Мы сразу узнаем друг друга, никогда прежде не видевшись. Мы обнимемся, как после долгой-долгой разлуки, расскажем, что было в неуютные годы одиночества, и навсегда соединим наши руки… чу! Что это? Что за странное движение там, вдали, у поворота? Верю я – это ты! Я бегу!»
Юноша решительно ринулся в снежную кутерьму. Вдруг – о небо! – послышался слабый вскрик и вслед за ним пронесся шум, какой бывает, когда падает человек. «Ага! – воскликнул юноша. – Я не ошибся. Она здесь! Мои позывные услышаны». Юноша живо подбежал к лежавшему неподвижно человеческому телу, предвкушая многорадостную встречу, схватил за обшлага шубы, приподнял, глянул нетерпеливо в лицо и – отпрянул. Увы! То была не она. В его руках была не прекрасная дева, но маленькая ссохшаяся старушка, похожая на восставшую из небытия мумию.
Он со смущением поставил старушку на ноги, на всякий случай извинился. Реликтовая бабулечка пугливо оглядела незнакомого парня и засеменила мелкими шажками скорее прочь, охая и слабо причитая. Заспешила наперво к детским санкам, на которых лежал засыпанный снегом большущий мешок, взялась за веревку, привязанную к передней поперечине своего неказистого железного помощника, и черепашьим ходом поволокла поклажу.
Неудачливый искатель внимательно, ни на минуту не отрывая глаз, наблюдал за старухой. Что-то в ее облике поражало. Он вдруг захотел дознаться, что же его потрясло. Когда он поднимал старуху и обратил горящий жадный взор на ее лицо – холод прошел по жилам. Жуть! Никогда не приходилось видеть столь обезображенного увяданием лица: казалось, оно давно уже умерло, и бедная бабушка таскает на себе посмертную маску.
Кожа была пергаментного оттенка, высохшая и стянутая глубокой сеткой морщин. Закостеневшие морщины рассекали и стягивали синевато-черные губы так, что три кривых зуба выдавались над ними буграми. Шамкающий рот поминутно обнажал остальные редкие гнилостные обломки, за которые зацеплялся то ли язык, то ли сами губы и щеки – голос дребезжал, шипел и потрескивал, как раритетная виниловая пластинка, которую давно пора выбросить. Брови и ресницы, похоже, напрочь выпали, что и следа нет. Глаза, как у рыбы, неподвижны, круглы и таинственны.
Должно быть, падение старухи, ее испуг исказили и сверх обычного обезобразили лицо, которое в дневном свете, пожалуй, не содержало бы такой уж умопомрачительной доли леденящего и омерзительного. Но в эти минуты… «Ну, ровно Баба Яга, как и Дед Мороз, спешат с одних зимних праздников на другие!» – подумал он. Это непритязательное полушутливое сравнение неожиданно тронуло самые глубины, самое основание сегодняшнего настроя юноши и вызвало целую – вереницу фантастических образов.
Ведьма! Да это же ведьма! Настоящая ведьма!
– Эй, ты! – окликнул юноша. – Ты кто? Почему шастаешь по такой непогоде?
Старуха оглянулась и что-то глухо буркнула. Юноша слов не разобрал – голос ее шипел и скрежетал. «Полно!
Разве это благочестивая бабушка? А что, если нет вранья в старинных преданьях. В какой-то неведомый никому час восстают мертвые из гроба, в полнолуние перед Рождеством собираются ведьмы на шабаш. Земля, ее ноосфера, так пропитывается злом и отчаянием, что происходит обвал неудач, ссор, конфликтов, катаклизмов. А что, если сама верховная ведьма, сама Смерть пожаловала ко мне. Пришла, чтобы посмеяться надо мной, являя собой знак высшего предначертания, толкующего и внушающего, что все мои желания тщетны, что одна Смерть придет однажды и скажет: «Здравствуй, голубчик! Умаялся, поди-ка, бедняжка? Пора и помирать, дружок». Смерть одна – чего нельзя отрицать, что есть непреложная правда жизни. Видение Смерти – это намек на мое будущее. «…И тот, пред кем вся жизнь, расслышал зов могилы. Судьба счастливая дала мне первый день. Судьба жестокая второй мой день послала. И в юности моей не мед я знал, а жало…»[1]
- «…Чьи-то вздохи, чье-то пенье,
- чье-то скорбное моленье.
- И тоска, и упоенье, —
- точно искрится звезда,
- Точно светлый дождь струится, —
- и деревьям что-то мнится,
- То, что людям не приснится,
- никому и никогда.
- Это мчатся духи ночи,
- это искрятся их очи,
- В час глубокой полуночи
- мчатся духи через лес.
- Что их мучит, что тревожит?
- Что, как червь, их тайно гложет?
- Отчего их рой не может
- петь отрадный гимн небес?
- Все сильней звучит их пенье,
- все слышнее в нем томленье,
- Неустанного стремленья
- неизменная печаль, —
- Точно их томит тревога,
- жажда веры, жажда Бога,
- Точно мук у них так много,
- точно им чего-то жаль…»
Если мне и впрямь довелось раньше моего часа узреть Костлявую, сделаю же доброе дело: в обмен на свою жизнь вырву у Костлявой тайну гроба рокового. Удача! Удача! В жизнь входит высший свет!.. Однако, это всего лишь очередная чушь, бред, пустая фантазия… и также, однако, истина чаще является, когда разрушен привычный порядок вещей, как ломают скорлупу ореха, чтобы добраться до ядра. Что порой вдохновляет и побуждает творить, создать реальное как будто из ничего? Пустота, оказывается, есть квинтэссенция энергии. И то, что не видит и не слышит один – прекрасно видит и слышит другой. Так же, как разная палитра чувств, развитость и способность улавливать тончайшие движения человеческой души. Бывает, что невидимое и неслышимое оживает и путаешься: это ли голос рождающихся мыслей? Это ли голос высших сил? Или достигших совершенства человеческих душ? Что, если это все одно целое, единое одной природы, и дремлет до поры во вселенских просторах мозга? Войти в такое откровение, как добиться нирваны – сложно и дано не каждому. Я помню сеансы спиритизма. Я присутствовал на них. Присутствовал как раз, чтобы найти опровержение в творимом медиумами действии, уличить в подтасовке, в невежестве и тут же разнести в пух темное суеверие. Дело в том, что моя сестра и ее подруга могут гадать по блюдечку, легко его оживляют, что никак не получается у других. Промежуток времени между Рождеством и Крещением был самый удобный, результативный для гадания. Не было отбоя от желающих задать вопрос и узнать судьбу у всезнающих духов. Вопросы писали на листочках и с умоляющим видом всучивали сестренке-медиуму. Так вот, когда в кромешной тьме, при слабом отблеске дрожащего пламени свечи, блюдечко начинало вращаться, я ощутил присутствие вызванного духа, и даже без блюдца в голове моей проносился ответ на заданный вопрос. И я сверял ответ по написанному блюдечком – ужасался, потому что ответ был один в один с моим, уже присутствующим в моей голове. Оказалось, что способностей к медиуму во мне больше, чем у сестры. Пустота, окружающая нас, на поверку есть бушующий океан. Странное чувство восторга и ужаса потрясло меня. Я быстро вышел из комнаты и никогда больше не участвовал в спиритических сеансах… Однако, я снова отвлекся. Где же старуха? Неспроста она мне здесь попалась. Вдруг да разрешится одна из моих тайных дум».
Юноша догнал старуху и снова ухватился за рукав ее шубы.
– Привет, Костлявая! – крикнул ей в ухо с напускным нахальством.
Старуха разом вытаращила на него свои рыбьи глаза.
– Как дела на том свете, ведьмочка ты распрекрасная? – продолжал юноша, несколько куражась. – Хватает ли огня на адской сковороде? Ароматен ли дух поджаривающихся человечков? В чем справедливость Всевышнего суда?
– В своем ли ты уме, паря? – изрекла, наконец, разом посуровевшая старуха. – Пьян? Мухоморов наелся? Чего курил?
– В своем, своем уме. Не боись, Костлявенысая. Настрой у меня, может быть, не совсем обычен – соответственно расшалившейся природе… так здравствуй же, Костлявая!
– Зачем обзываешь? Для чего обидеть хочешь?
– Да нет же, кикимора ты болотная! Ты же ведьма, признайся. А ну, признавайся… дружище, как я рад этой встрече. Дай обниму.
– Обижаешь ты старого человека, – отстранилась старуха.
– Зачем мне обижать тебя. Напротив, я бы многое отдал, ежели бы это было правдой. Очень уж ты смахиваешь на воплощение нечистой силы, которую кличут в простонародье – Смерть или Костлявая. Расскажи-ка, сколько жизней отняла, сколько свечей задула? Сколько глаз молили о пощаде, сколько рук цеплялось в надежде выпросить лишнюю минутку жизни, не зная даже, зачем она ему. Скажи, знаешь, зачем мгновения жизни даны? С какими словами переходят в мир иной? Поведай, какие предсмертные тайны ты знаешь. Ну, начинай.
Юноша грозно подступил к старухе. И распростерся над нею, как непоколебимый светлый ангел высшего правосудия. Она попятилась, судорожно глотая воздух. Молодому человеку вдруг стало смешно: страх старухи был столь неподделен, а он сам – отчаянный, неисправимый фантазер. Пелена, в которую тщился поверить, в мгновение слетела.
– Прошу извинения. Великодушно простите. Я, кажется, вас напугал. Это было маленькая не совсем уместная шутка. Но, все-таки, ты разве не ведьма и тебе не тысячу лет?
– Я не ведьма… я пенсионерка. Бывшая колхозница.
– Почему же другим является нечисть: черти, ведьмы, приведения, и даже владыка темного царства, предлагают сделки, – примеров тому немало – мне достаются отбросы и остатки, нелепица. Кабы в самом деле ты была из мира теней… Не бойся меня: на твой взгляд я немножко странен – это ерунда, ведь у каждого свои причуды. Как мне хочется встретить живое осязаемое существо – хранителя великих и чудесных тайн. Я бы отдал все, что у меня есть: голову, душу, эту классную дубленку… невзирая на лютый мороз. О, я многое хочу изведать, объять взглядом пространство времени.
- «Во всем мне хочется дойти
- До самой сути:
- В работе, поисках пути,
- сердечной смуте…
- До сущности протекших дней,
- До их причины.
- До оснований, до корней,
- До сердцевины.
- Все время схватывая нить
- Судеб, событий,
- Жить, думать,
- чувствовать, любить,
- Свершать открытья.[2]
Юноша перевел дыхание и продолжил:
– Чу, воплотитесь силы потусторонние. Случись так, ты – лучший вариант для воплощения!
– Никакая я не ведьма, и никогда мне ею не быть. Нечего мне на себя напраслину возводить. Я пенсионерка, бывшая колхозница, – твердила уязвленная старуха.
– Это всего лишь твое внешнее лицо. Известно, как у любого тела есть лицо и задница, так у души есть внешность и изнанка. Та изнанка, которую многие тщательно скрывают, в отличие от меня. Показывай-ка и ты, что ты скрываешь?
– Ничего, ничего я не скрываю, – быстро проговорила старуха.
Юноша приметил испуг и воодушевился.
– Ты упорствуешь! Напрасно. Ты умопомрачительно стара, и точно направилась в музей этнографии, чтобы застыть там навечно, среди прочих восковых фигур. Не поверю, чтобы ты не думала о конечной черте, за которой иная жизнь. Призрак в белом саване должен быть твоим частым гостем. В полуночный час он зримее, он уже хлопочет тебе место в своем таинственном мире. Он ведет с тобой переговоры и приоткрывает завесу, эдакую маленькую щелочку, в мир другой по сути, где живут и здравствуют тени умерших. Скажи, старый мудрый человек, доведен ли до твоего сведения один из постулатов вечности… вечности, равной для всех? Скажи, что царит за порогом земной жизни: блаженный почтенный покой? Тени умерших создают питательную силу нашего бренного мира? Все миры подвластны тлению, равно особой метаморфозе – и ты, прожив там какую– то новую жизнь, наделенную новым смыслом, либо снова возвращаешься к нам и воплощаешься, реализуешься лучшим образом, либо переходишь в мир еще выше, отдаленнее, противоположнее, совершеннее. А вдруг из наших душ зиждется галактическая праэнергия: вспыхивают звезды, и первородная космическая энергия начинает свой новый путь самопознания и самоусовершенствования на ступень выше. А что, если, умирая, вы присутствуете во всем как воздух, как стихия разнополюсных сил, бесконечно творя и разрушая земную обитель, а мы – куклы, орудия, игрушки в ваших трансформированных руках. Что нас ждет?.. Слыхала ли ты об энтропии? Есть энтропия изолированной физической системы, есть энтропия замкнутого сообщества, энтропия социума… Ладно, это слишком мудрено, но ты такая старая, хоть что-то должна знать. Я никогда не смогу поверить, что живем мы семьдесят-девяносто лет, что со смертью ставится жирная точка, тело весело поедается червями и микробами, размывается грунтовыми водами, а душа – это бред поэтов, искателей мистического неведомого. Я не верю! Законы материального мира этого объяснить не могут. Скажи мне что-нибудь. Почему молчишь? Посвяти меня в тайну, у края которой ты стоишь.
– Ничего я не знаю, паря. Я пенсионерка, бывшая колхозница. Я иду домой. Непонятны мне твои талмуды.
Юноша сразу как-то сник, отступил от старухи на шаг, нахмурился и спросил:
– Пенсионерка говоришь?
Старуха с живостью согласно кивнула несколько раз.
– Чего же ты тут делаешь? Все благоразумные люди, тем более пенсионерки и бывшие колхозницы, сидят по домам, отдыхая, кто – после трудового дня, кто – после трудовой жизни. Смотрят развлекательные передачи, сериалы, ток-шоу. Прихлебывают чай с лимоном и сладкой ванильной булочкой или что-то около этого, – сообразно финансовым возможностям.
– И я иду домой, везу картошку. Глянь, целый мешок на санках.
– Что! – вскричал юноша. – Картошка!? В этом мешке у тебя картошка? Ты занята лишь тем, что везешь какую-то банальную картошку. Бог ты мой! Какая низость и пошлость! Какое убожество! Послушай, старый человек, в твои ли годы последние мгновения жизни тратить, понимай – губить, на какую-то обыденную картошку. Когда же думать о душе? Когда же насыщать жизнь вечным и прекрасным?.. Брось немедленно эту дрянную картошку! Освободись от этих дурацких пут. Проклятый быт! Суета сует! «Суета житейская похищает душу человеческую…» Кабы ты знала, бабулечка, что это – самый подлый и коварный враг. Под его сладкой приятельской личиной прячется ехидное чудище, похабное, грязное, вонючее, которое умерщвляет самую главную суть и превращает в тупое животное любого, кто поддался его наркотическим чарам… Старый человек, посмотри на чудный снег, на пленяющие тайной звезды, на искусственный свет рукотворных фонарей – скажи: зачем это? для чего? Зачем я, ты? Просто так, чей-то глупый каприз?
– Я не понимаю тебя, еще раз тебе говорю, – сухо и даже враждебно сказала старуха, взяла веревку, привязанную к санкам, напряглась и поволокла.
Юноша остался один. Было вновь досадно, обидно и горько. Он не высказал и крохотной доли того, что скопилось в душе, все эти ужасные и прекрасные смятения и волнения, предвкушения и предвосхищения. Единственный свидетель его спонтанного откровения оказался ужасно и убийственно чужим. Старуха уходила и сливалась со снегом.
«Я снова обманулся, – вновь обратился в тревожные думы юноша. – Опять неудача. Вторая за вечер. Выходит, я несчастный человек. Мудрые, впрочем, учили не унывать и не отчаиваться. Только вера в победу зиждет энергию, которая верно и неуклонно ведет к желанному счастью. Не беда, что моя далекая и еще не познанная подруга не явилась. Не беда, что старуха не оказалась Костлявой. Почему бабулька и тьма-тьмущая подобных ей уверились, что так и надо так и должно быть: запрячься и тянуть вечную лямку обывательских забот и тягот?.. Она несчастнее меня. Да-да! Хотя бы тем, что, надрываясь, тащит картошку. Ей бы помог кто… Точно, следует немедленно ей помочь. Ура! Я бескорыстно помогу беспомощной слабой старушке и тем самым оправдаю сегодняшний день. Ибо день, прожитый во имя высшей идеи делать добро, благо, сделать хоть шаг в познании и утверждении нового – есть первейшее условие моей душевной успокоенности, есть маленький кирпичик моего личного счастья. Счастья, когда целиком отдаешь себя, свое. Я хочу отдавать, не жалея. Итак, решено: старушка слаба и беспомощна, не встреть меня – ее бы точно занесло снегом… беспощадным холодным снегом. Но я подоспел вовремя: я помогу несчастной болезной бабушке, чем спасу и свой день, насытив его и облагородив добрым делом. Какая удача! Каждое мгновение посвящать утверждению добра и справедливости. Наставления типа «падающего – толкни… пусть гибнут слабые и уродливые» не должны стать первыми заповедями нового человеколюбия».
Юноша догнал старушку и участливым, потеплевшим голосом сказал:
– Бабушка, давай я тебе помогу, устала ты, да и метель разворачивается, и мороз крепчает.
Он взял из рук старушки веревку, за которую она тянула санки. Старушка искоса пугливо посмотрела на нежданного помощника, который, между тем, мягко ее отстранил и потянул санки.
– Ого! Тяжеловатенько! Ты не бойся, я тебе помогаю просто так, по доброте сердечной… Где живешь?
– Недалече, сынок, – подобрела и бабуля. – Прямо до кольца, потом налево в первую улочку, второй дом.
– Вот и прекрасно, нам почти по пути, идем же.
Визгливо хрустел уминаемый ногами и полозьями санок снег. Метель стихала, ветер становился порывистым и слабел с каждым новым порывом. Некоторое время они шли молча, ровно шли поодиночке. Юноша рассеянно спросил:
– Картошки куда тебе столько? Наверное, живность какую держишь?
– Что ты! Стара уж, да и в городе где скотинку держать.
– Бывает, что в гаражах держат кроликов, а то и свиней. У гаражей сколько будок! И кто-то в них гавкает, воркует, чавкает, пыхтит и хрюкает, стонет и воет. И ты, пожалуй, такую же мини-ферму имеешь.
– Куда мне! Ноги еле таскаю.
– А живешь с кем?
– Одна и живу. Комната у меня невеликая есть. Дом у нас не как у всех – гостиничного типа общежитием прозывают. Почитай, живут в нем одне старухи как я, да молодые, только что поженившееся. Энти недолго: квартиру заимеют – и поминай, как звали. Своих деток у меня нет. Был мальчонка, как ему два годика минуло – так и помер: время голодное было, война с лютым фашистом шла. Война и мужика моего забрала, погиб он, на третий год войны. Я тепереча соседкам говорю: кабы был у меня жив сын, разве я жила бы тут, хотя и не охаешь шибко дом наш. Неужто он тогда, сыночек мой, кровинушка моя, мне уголка махонького не нашел бы у себя дома. Срамота тем детям, что матерей, корни свои забывают… Не сберегла мальчонку. Когда он помер, вроде и не так жалко было: у всех почти каждый божий день кто-то да помрет – то с холоду или голоду, то похоронка придет. Ох, и время тяжкое было, не дай Бог испытать. После войны дом я справила… построила значится. Где-то колхоз помог как солдатке, но боле сама. Дом срубила сама не хуже мужика заправского. Крышу ставить и крыть нанимала работников: куплю водки, самогона нагоню – они и рады пособить. Плохо одной хозяйство вести: тяжело, рук не хватает. Но ничего как-то управлялась. Корову держала, овец, огород был. Не токмо кусок хлеба с маслицем всегда был, денежку про запас откладывала. Копеечка по копеечке складывала – и тыщи получились. А под старость сила уходить стала, тут и беда недалече: незамогу я, кто печь затопит, кто по хозяйству стряпать будет, кто воды принесет из колодца, когда ноги у меня, не приведи Господи, откажут, а то ослепею – это и есть горе. Что мне тогда? В постели помирать от голода в холодной избе. Кому я такая старая и никчемная нужна буду?.. Поди, и вонь от меня пойдет. Денежки все мои, тыщи мои, с которыми доживать хотела в тепле и заботе – пропали. Пропали, когда эта проклятая инфуляция началась. Ведь чего только не придумают, чтобы нас, простой народ, грабить… И налогами нас, крестьян, кукурузник душил. Паспортов не давали, чтобы из деревень не сбежали. Ох, рассказать бы тебе всю нашу жизь бедовую… ну, да ладно. Корову продала за бесценок, потому что невмоготу стало держать ее. Козу завела. Так с козой и до смертушки моей дожила бы. А тут вдруг деревеньку нашу нарушать вздумали: места у нас шибко красивые: речка с лугами, рощи березовые, чуть повыше – вековые сосновые леса кругом. И новые бары-бояре у нас свою деревеньку учредили с высоченными кирпичными домами за каменными крепостными стенами. Нас, пригоршню старух, кто не успел помереть вовремя, отселили в город. Ох, как мне уезжать не хотелось, воем ревела. Все мне в избе моей знакомо и родно. С козлухой как жалко расставаться было! Начальник или прислужник тех, кто деревеньку нашу ломать придумали, пришел ко мне в избу, уважительный такой и хороший дядечка, поговорил со мной, обсказал, посулил, документ показал на снос избы и еще документ на комнату в городе. На другой день машина прикатила с дюжими ребятами, быстро они погрузили мои пожитки и свезли на новое место. Скажу честно, комната мне приглянулась: сухо, тепло, места хватает, топить не надо, вода какая хочешь из крана течет. Хочешь – горячую наливай, хочешь – холодную. Телевизор есть, холодильник, плитка электрическая.
– Не жизнь, а малина! Но чего-то тебе не хватает. Может, денег?
– Денег, известно, всегда не хватает. Пенсию вроде исправно платят, да мала пенсия, гроши какие-то. Как ее получу, пенсию, делаю расчет в тот же день, как дожить до следующей пенсии, сколько в день тратить рубликов будет позволительно. Еще и в заначку положить требуется… хоть самую малость, но положить.
– Хозяйственная ты, бабушка, предусмотрительная. А я было подумал, что спишь целыми днями, с боку на бок переворачиваешься.
– Сплю поболе, сынок, чем раньше. Молодой была – целыми днями робила, думала, отосплюсь на старости. Вот пришла старость – спится, да не так. Жить осталось, может, несколько годков… жалко умирать, хотя и жизнь подлючая чаще. Раньше сила была, так копейки получали и в одежке одной десятками лет ходили, война, разруха, потом вроде как жизнь справилась – опять какая-то инфуляция! Откуда она взялась, кто ее придумал? Говорят, чтобы русский народ по миру пустить все это придумано, чтобы сгинули; так фашисты от евреев освобождали землю… Однако и ее пережили, нынче гляди: машин сколько, ровно ходить разучились, через дорогу не перейдешь. Соседка моя шкаф деревянный купила, дак он дороже коровы!.. Скоро уж придем, вот и улочка наша началась.
– И часто картошку возишь? – зачем-то спросил юноша.
– Да где часто! Нет, не часто, – сказала старуха и, помолчав, лукаво прищурилась, воровато насторожилась, успокоено обмякла и тихо прошамкала:
– Картошечку энту я с базы слямзила… стибрила – получается. Мы с Анисьей, соседкой моей, на четвертой овощной базе, на сортировке картошки робим. Я смекнула: на воротах сегодня как раз Дашка стоит, соседка тоже наша, прихвачу с собой мешочек картошки – что мне, грешной, за него будет? Семь бед – один ответ. Зато с картошкой пол зимы буду. Ноне картошка пятьдесят рублев за кило! А водка – девяносто рублев! Когда такое было? В войну токмо было такое.
Неожиданная откровенность старухи, ее признание в воровстве на грани бахвальства снова жутким холодом покоробило юношу.
– Так значит, картошка ворованная! – заволновался он, распаляя себя. – Ты, старая перечница, ты – божий одуванчик, своровала картошку! Ты, оказывается, гнусная воришка! И меня втянула в это грязное дело. А я, дурак, тащу, стараюсь. Гуманизм. Милосердие. Сострадание… эх! Слова эти не для нас с тобой. Да и вообще – для кого эти слова!? У тебя наверняка на десяток таких мешков денег хватит! Но ты – ив самом деле расчетливая и бережливая, хозяйственная и смекалистая – предпочла просто-напросто стащить, что плохо лежит. Неужели так просто можно нарушить закон? Не мучаясь, не тревожась. Нет и тени переживаний! Знай же, одна из бед в том, что все мы, люди, живем не по закону, но по понятиям! Мы делаем то, что выгодно в данный момент, но не как дОлжно по закону, по установленному порядку, по правилам, у которых нет исключений! Понимаешь, нет у закона исключений, – с благородным гневом выпалил юноша.
Несколько мгновений он пристально смотрел на старушку – резко повернулся и решительно зашагал в обратную сторону. Старушка громко и спешно побежала за ним, причитая:
– Сынок, соколик, куда ты?! Разворачивайся. Что за напасть такая!
– Картошку я свезу на склад. А тебя следовало бы сдать в полицию. Вот куда!
– Что ты, сынок? Очумел? Да что убудет с мешка что ли! Пожалей ты меня, старую.
– Ты можешь говорить что угодно. Мне все равно, что ты скажешь. Я знаю: самое главное – справедливость. И никогда не лгать.
– Ну, чего ради ты взялся мне пособить! Шел бы своей дорогой.
– Дорога у всех одна. Идти по ней надо вместе – иначе будет катастрофа!
– Какая корова? Я ничего не знаю. Я-то причем тут. Да за что мне на старости… да и всегда, всегда горе такое! Почему одни несчастья у меня да труд каторжный, всю-то жизнь маюсь! Ты знаешь, что пенсии у меня только-толечки на квартплату и хватило бы, ежели не субсидии. Ихнею субсидию чтобы получить – сто раз вспотеть придется, в ножки не одному покланяться. Все мои сбережения сгорели в одночасье – заграбастал рыжий чуб с уральским пельменем, с кого спрашивать? Малая моя заначка уйдет сразу, как заболею по-праски. Ты бы посмотрел как в мои годы робили, и не платили ничего. Нас, баб, на лесоповал гоняли. Окопы рыли в полный рост. Мужика у меня убили, брата в лагерях сгноили, из избы моей выгнали новые бары-бояре, землюшку кормилицу отобрали, чтобы хоромы свои барские построить. Козу милую продать пришлось. Скажи, где твоя справедливость? Эх, что говорить, что говорить…
Тут старушка села на снег и заревела навзрыд, как малый ребенок, размазывая ссохшимися ладонями слезы по лицу, причитая и жалуясь на свое неприкаянное сиротство, на раздавленные каторжным трудом годы жизни, на свое вековечное несчастье, горе и обиду. Слова тонули в горьких всхлипываниях.
Невыносимо острая жалость к плачущей, сгорбленной бабушке невольно охватила юношу. Он скорее подошел к ней, взял за руку и попросил:
– Не плачь. Ну, пожалуйста, не плачь. Будь по-твоему: отвезу я картошку тебе. Отвезу, честное слово. Пойдем же. Хрен тут разберешься с вами со всеми…
Сказав это, юноша несколько пал духом: тогда и он, получается, вор, соучастник хищения. Каковы бы ни были его размеры – это мерзко, гадко… это падение! В чем же честь?«Во имя чего поступить? – мрачно соображал юноша. – Во имя некоей правды, справедливости? Но где она и в чем? Я был убежден: совесть, честь – это важно. Прежде всего – совесть! Прежде всего – честь! Что в совести – суть гения человеческого существования, его происхождения и развитие. Отступать от своей главной сути – значит отступать от данного Богом и равнозначно природой предначертанного. О, жизнь! Как могут быть запутаны твои дороги! Какое мучение может быть жить! Боюсь разувериться в главной идее. Иначе останется – тихо умереть, сгнить заживо. Всегда умирают, когда уходит вера, за ней покидают силы. Мне кажется, я близок к этой черте. Дело, безусловно, не в картошке. Но бывает последняя капля, что переполняет чашу. Считается шизой своею волей навсегда остановить сердце. А не шиза ли жить и знать, что в тебе умерло все человеческое я, угасла божественная искра. Зачем пустая надежда, сопровождающаяся до гробовой доски…Что, если здесь существенен и второй момент: часто бывает и так, что для понимания исключительно важного надлежит испытать смертельный ужас, почувствовать дыхание могилы. Если я возьму в руки пистолет и поиграю им, с взведенным курком, у виска – похожу мгновения по шаткой дощечке над пропастью царства Аида. Пойму ли я еще что-нибудь? В тот момент, когда уже готов буду спустить курок – вдруг отложу выстрел… скажем, до утра. Утром погляжу: не дрогнет ли рука по-настоящему нажать на курок. Возможно, вместо былой решимости самоустраниться придет некое философское понимание какой-то истины. Я обрету вновь равновесие и перспективу».
– Бабушка, – тихо и проникновенно произнес юноша. – Раз я дал слово, я сделаю, что обещал. Тебя же попрошу сделать одно одолжение. Скажи сначала, не завалялся ли где у тебя пистолет?
– Чего, чего? Пистолет!?.. Откуда у меня и зачем тебе?
– Я, пожалуй, перемещусь в другую реальность: схожу в гости к Богу… или к дьяволу – к кому попаду. Мне многое здесь противно и гадко. Я, как ни прилаживайся, чужой всему. Еще, знаешь ли ты, что когда что-то не сделал, но должен или обязан был сделать – уже падший, уже подлец и вор. И все это копится, подобно катящемуся снежному кому. Из мелочей, якобы незначащих, скапливается лавина едкой мути, которая и сама отравится, и погубит твое естество. Во времена былые, частично и ныне, делом чести считалось смыть позор несостоявшейся жизни, конкретных ее обстоятельств, ставящих человека на колени, с помощью пули, отправленной в собственный висок.
– Эх, сынок! Жизнь тебя еще не таким навозом накормит! – качая головой, с укоризной сказала старушка.
– Замолчи, бабуля. Я не хочу приспосабливаться. Да и скоро приспосабливаться будет невозможно: мутации не поспеют за изменением окружающего. На вас уже направлен пистолет, собранный из вашего невежества, сиюминутности, кичливости, самообожания, нескончаемых речей, обдуривающих и усыпляющих истину, рвачества, хамства и прочее. Достаточно еще жирной дурости, которая грузно ляжет на курок – последний выстрел будет неумолим. В какой форме он будет? Всемирный мор от новой чумы, голод, война, глобальный взрыв… Тебе не понять, бабуля, что именно так взыскательно следует жить; не мириться со злом и иже с ним – уничтожать, невзирая на лица. Именно так только и можно что-то улучшить реально… Что ты молчишь, бабушка? Еще раз спрашиваю, есть ли у тебя пистолет или нет?
– Есть! – схитрила старуха.
– Не может быть! – опешил юноша и остановился, посмотрев в упор на невольную свидетельницу его душевной распри. – Откуда?
– От батьки моего остался. Он вишь, в гражданскую Колчака громил… или с Колчаком кого-то громил – запамятовала. Тогда знаешь, было такое: сегодня красные придут, завтра белые… Потом время было смутное, что никак нельзя без оружия: то комиссары прискачут, то бандиты наведаются. Вот он приберег пистолет… аккуратный, ладненький такой пистолетик, в деле проверенный.
– Врешь ты! Не верю.
– Вот те крест! – она перекрестилась. – Однако особливо не разбираюсь, пистолет ли то? – она еще раз перекрестилась, шевельнув губами. – Думается мне, что пистолет. Придешь и сам увидишь
– Может быть, у тебя и пулемет есть?
– Пулемета не было. А вот винтовка-трехлинейка была. Я ее на две машины дров выменяла, совсем недавно, когда еще в избе жила; охотник выклянчил винтовку. Вобче-то был, вспоминается, пулемет – Максимкой отчего-то звали. Как начнет палить: тра-та-та-та – умрешь со страху. Потом начальнички в кожаных тужурках по-доброму пулемет забрали. Остальную мелочевку батяня утаил.
– Ну и ну! Какой системы пистолет?
– Не пойму – о чем ты?
– Пистолет – общее название, есть точнее: маузер, браунинг, револьвер, кольт, вальтер, наган…
– А!.. Вон о чем ты! Как будто слыхивала я такие словечки. А вот какая ситсема моего пистоля – запамятовала, прости уж старую. Но ситсема хорошая у пистолетика: самая что ни на есть убийственная – бьет прямо в лоб без промаха и осечки.
– Даже так! Самонаводящееся?.. Тьфу, ты! Шутки в сторону. Значит, договорились: картошку заношу в квартиру тебе, и ты даешь мне пистолет. Кстати, пули– то есть у тебя?
– Есть! Как же им не быть. Этого добра целая коробка.
– Какой калибр?
– Что-что? Опять я тебя не понимаю.
– Размер какой пули?
– О! Размер подходящий: такую дыру, соколик, в башке сделает, что не зашьешь и не заткнешь, все мозги разом вон вылетают.
– К твоему пистолету эти пули подходят?
– Обижаешь, сынок. Есественно подходят!
– Пуль-то много. Впрочем, много и не надо. «Жизнь! – воскликнул в душе юноша. – Возможно,
скоро придется прощаться… Возможно, и нет. Я все еще не знаю. Грустно уходить из этого мира, не изведав любви прекрасной, любимой и любящей женщины, не испытав себя мужем и отцом, не снискав воинской доблести, не возвысив себя храбростью и отвагой, не узнав восторга победы и горечи поражения. Проклятый вечер! Не знаю, способна ли пуля умиротворить, утишить мучения. Подозрительна сама старуха: пистолет с гражданской войны, хранимый для чего то. Невероятно! Да, верно, и заржавел пистоль этот… Столько лет лежал без дела. А ну, спрошу».
– Бабуля, пистолет твой скорее на ржавую железяку похож?
– Нет, соколик. Как можно такое допустить! Что я, не понимаю – такую вещь губить разве дозволительно. Отчего ему ржаветь?
– Все ржавеет, повсюду кислород, который окисляет. Смазываешь ли свою огнестрельную реликвию?
– А ты как думал! Смазываю, дружок, обязательно смазываю.
– Чем смазываешь? – строго спросил юноша.
– Вот каким маслом машинку швейную смазываю, тем и пистоль мажу.
– Пойдет. В технике, смотрю, смыслишь малость.
– В деревне у нас ходила такая пословица: я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык!
Старушка уже повеселела, раздумывая о смешном нечаянном попутчике. «Каким бы был мой умерший сынок? – внезапно подумала она. – Без отца бы вырос сиротиною. Ходил бы, мой сердечный, также в сумерках, как несмышленый кутенок, выискивая что-то утерянное, также выдумывая себе какие-то небылицы… Паренек этот хороший: добрый, жалостливый, разговорчивый. Зачем он так шибко думает обо всем, так не ровен час глупость отчудить можно, а там – и вовсе с хорошей дороги сбиться. Сыщу-ка я ему девку умную, простую и честную. Да и искать нечего! Вот, месяц назад заехала к нам на этаж милая дивчина Таня. Из другого города приехала – видно, здесь у нас с работой получше. Вечерами все дома сидит, в копютир уставившись. Мне она очень помогает: в магазин сходит, в бумагах все обстоятельно растолкует. И просто так приветит улыбочкой и словом добрым – тоже сердцу отрада. И какая отрада!.. Сведу я их вместе. Семьей станут жить, чтобы и детки были. Ежели он за общее дело радеет, какую-то правду правильную хочет вызнать – так и здесь семья лучшая опора, не то один добесится до худого конца, или тоска лихая возьмет, затоскует люто: жизнь вкривь да вкось пойдет. Тут и до большой беды недалеко. Нет, лучше уж плясать от печки. Сначала оженись, обеспечь семью. После уж и думай, для чего еще родился. Домой сейчас придем, скажу ему, что пистолет соседка забрала, орехи расколоть… или нет! Скажу, что перепрятала подальше от глаз, – в сарайке, что в подвале дома, схоронила, а подвал на ночь запирается, ключи у старшего по дому; значится, с утра надо приходить. Дескать, прости старую, потерпи до завтра, попрощайся со всеми ладом, и вечерком ко мне приходи: к этому времени пистолетик и будет готов. Сама я Танюшку приглашу, скажу – пособить требуется малость. Пока она хлопочет у меня по хозяйству, паренек этот придет. С ним обмолвлюсь, мол, не гневись на старую – ну никак не могу пистолет отыскать: не девчонке ли дала, под подолом поискал бы у нее (шутка!). Танюшке баю – паренек что-то вроде краеведа, собирает старые вещи, предметы старины, ценности добронравных времен. Вот умора будет! Сведу их, столкую – пусть хоть будут упираться, а усажу рядышком и чаем ароматным напою. Скажу, мол, сама я вам хочу что-то рассказать, простое и народное. А там и он зацепиться с дивчиной слово за слово, глядишь – приладятся тесно; окажется она лучше всякого пистолета. Влипнет в нее по уши до конца дней своих, и себя прежнего забудет. Столкуются, обязательно столкуются, чует мое сердце, что будет так. У Танечки ох, какое сердце доброе! Сама она шустрая и пригожая! Осиротела недавно: родителей схоронила. И паренек замечательный, нельзя таким пропадать. Мне однажды также помогли в трудную несчастливую минуту, очень помогли не сгинуть и не пропасть. И я помогу… так-то лучше будет».
Снег все сыпал и сыпал. Так плавно и безмятежно кружились снежинки, что мягкий нежащий покой проникал и покорял приунывшего юношу. Шаг за шагом, минута за минутой – и пропадала вся суровость снега и колючесть стихающего ветра. Ничего не напоминало о течении времени, о большом городе, заполненном суетными заботами. Как будто ширилась ночь, светлела и вспыхивала чудесным светом. И стали понятны и снег, и ночь. Вдруг в какое-то неуловимое мгновение согласие внутри и вне себя почувствовал юноша, что-то открылось и упало на дно памяти, как падает проросшее зерно в тучную землю… что-то, чему еще нет слов, и что вскоре вырастет и станет ясной строкой в самостийной судьбе… В чистой, словно бы в первозданной, тишине воскрешалась чудесная музыка в кружеве плывущих и сцепляющихся снежинок – эта удивительная музыка, напоминая забытые звуки клавесина, прогоняла смуту и открывала простую и милую красоту в этом обыкновенном снеге, серебристых небесах с блистающими звездами и в свежем морозном воздухе… а сколько же ее прибудет – простой и милой красоты – когда сойдут снега и засияет весеннее солнце! «Зачем я иду за этой бабушкой? Что за чушь я напридумывал!.. Разве мало безупречной красоты, что хранит природа, что разнесено по частям, по предметам, по людским поступкам, – взволновано думал юноша. – Как сохранить эти осколки прекрасного? Как собрать из них добрый радостный мир, пусть для начала в душе моей и близких моих? Как уберечь оставшееся, сохранить, развить, умножить?.. Сразу и не ответишь. Видно, надлежит еще многое понять и пережить, чтобы выкристаллизовался внятный ответ. Пожалуй, так приходит мудрость.
А пока… пока я сделаю вот что. Приду домой, беру блокнот и записываю несколько правил для себя, чтобы приземлять мечты-фантазии-желания. Основными пунктами будут:
1. Ложиться спать в одно и то же время, и спать не менее семи часов.
2. Больше физических движений: два раза в неделю встаю на лыжи, покупаю абонемент на теннис. Утром обливание холодной водой.
3. Прежде, чем что-то сделать из желания, основанного на мечте и фантазии, анализирую:
– как должно быть; что хотелось бы видеть;
– что есть на самом деле;
– что можно изменить, приспособить.
4. Любое свое мероприятие планирую с карандашом на листке бумаги. То есть ставлю цель краткосрочную и перспективную. Разбиваю на этапы и определяю, что еще надо, чтобы задуманное осуществилось – развить новую потенцию, изучить и перенять опыт других и т. д. Результат каждого этапа сверяю с задуманным эталоном – при большом расхождении делаю корректировку.
5. Снова регулярно в театр!
6. No cigarettes and alcohol.
7 …………………….
Что же добавить в седьмой пункт?
И только он подумал о седьмом пункте, как небо озарилось вспышкой, словно разорвалась звезда; словно комета, осколки метеорита ворвались в плотные слои атмосферы огненным дождем. Юноша протянул раскрытые ладони навстречу падающим сгусткам небесного света. Вдруг обе ладони обожгло. Он увидел темное пятно на правой ладони. Словно это и был седьмой пункт, отменяющий первые шесть. Это черная небесная метка точно была послана, чтобы сказать, что он навсегда умер для реальной жизни. Но это не значит, что он самовольно может лишить себя жизни. Это значит, что душа его открылась, чтобы прочитать до конца одну из глав небесной книги мудрости, данную в чудесных ощущениях, чем обогатит себя и своих окружающих.
Наконец, ему стала понятна фраза: «Нам книги вырыли могилу».
Просто, живи и не мучайся своей непохожестью, не подгоняй себя под общие стандарты. Тогда в реальной жизни для счастья будет достаточно глотка свежего воздуха и солнечного лучика – всего этого добра предостаточно. Вслед за этим придет человеческое тепло от самых неожиданных людей.
Ее сто первый мужчина
«Египту угрожало нашествие чужеземцев и, неспособный более отразить их, он готовился достойно погибнуть. Египетские ученые (по крайней мере, так утверждает мой таинственный информатор) собрались вместе, чтобы решить – каким образом сохранить знание, которое до сих пор ограничивалось кругом посвященных людей. Как спасти его от гибели.
Сначала хотели доверить это знание добродетели, выбрать среди посвященных особо добродетельных людей, которые передавали бы его из поколения в поколение.
Но один жрец заметил, что добродетель – самая хрупкая вещь на свете; что ее труднее всего найти; и, чтобы сохранить непрерывность преемства при всех обстоятельствах, предложил доверить знание пороку. «Ибо последний, – сказал он, – никогда не исчезнет, и можно быть уверенным, что порок будет сохранять знание долго и в неизменном виде»…»
из книги «Цыганское Таро». Д-р Папюс
Лариса шла быстро, украдкой бросая короткие взгляды на отдаленные силуэты прохожих, замедляла или наоборот – ускоряла шаги, если вдруг усматривала знакомые черты. Ей совсем было некстати столкнуться лоб в лоб со своим сумасбродным начальником и иже с ними. Великим благом было бы прошмыгнуть мышкой в помпезную дверь с невозмутимым и важным охранником и юркнуть в маленькую каморку в конце коридора служебных помещений, названной гардеробной уборщиков служебно-бытовых помещений. Сама же каморка располагалась в лучшей стоматологической клинике города.
Лариса, разумеется, была здесь уборщиком, что чрезвычайно ее забавляло, словно судьба прикалывалась в очередной раз… Всего их было трое, почти одного возраста, – трое симпатичных молодых женщин только что отметивших свое тридцатилетие или бывшие накануне этого знаменательного события.
Тридцать лет! Магический рубеж. Уже так много позади: уже познана и влюбленность, и любовь, и разлука, и материнство. Испита горечь и сладость измен, мимолетных увлечений. И все под соусом молодой горячности, свежести и веры в свою исключительность. Что еще такого-растакого осталось впереди? Лариса легко могла ответить за других, предугадать чужую судьбу, но о своей узнать не желала. Так гадалка и ведунья, разбирая по косточкам чужую вневременную жизнь, к своей относится с предощущением соприкосновения с великой тайной бытия.
Кажущаяся нелогичность поступков Ларисы была за правило. Вот сейчас она по каким-то своим непонятным соображениям опаздывала на работу, потеряв которую, осталась бы совершенно без денег. Голодная нищенская смерть вряд ли грозила: на худой конец была мама-пенсионерка, друзья-знакомые… Лариса вообще слыла компанейской девчонкой. Даже суровый охранник в ответ на веселый приветственный взмах ее руки расплывался в улыбке. Вторым движением Ларисы часто был недвусмысленный вопросительный жест: свободен ли путь ее, нет ли в холле завхоза, ее непосредственного начальника? Охранник легким кивком головы разрешал сомнения девушки.
Сегодня Лариса действительно опаздывала: обычно приходила на 15–20 минут позже положенного, и выловить и уличить ее было затруднительно; но чуть более этого времени – и она пробиралась по коридорам клиники, как по раскаленным углям. Вот она проскочила охранника, холл, повернула в вестибюль и – е-мое! – услышала вдогонку хриплый бас именно того, из-за кого и шла, крадучись.
Это был завхоз – пятидесятипятилетний дядька с внушительным животом, отвисшими щеками с багровым
оттенком, и маленькими заплывшими глазками. Ладони у него были белые и маленькие, как и сами ручки в целом, отрафинированные длительным, – если не потомственным, бездельем. Так же и в ботинках угадывались ступни ног, удивляющие своей малостью, несоразмерной с куполообразным животом, отяжелевшими щеками, покатым лысым черепом; ножки, созданные преодолевать путь из кабинета в автомобиль, из автомобиля в кресло перед телевизором. Зато голос завхоза гремел и властвовал – это был развитый инструмент власти. Сам завхоз для пущей важности и увесистости еще больше раздувался и ширился в животе и лице. И голос его, подобно рабочему инструменту трудяги, творил словесные опусы, рвал, метал, пиявкой влезал в душу подчиненного или, как боец на ринге, примеривался и так и сяк, меняя тональность, напор, силу, мастерски используя продвинутый сленг, элементы высокой поэтики, чтобы подчинить своей воле ошарашенного слушателя.
Лариса ускоренным шагом дошла до гардеробной и скакнула за дверь. Басистый голос завхоза следовал за ней. Завхоз широко распахнул дверь гардеробной и шагнул в раздевалку.
– Ой! – взвизгнули молодые женщины, отвернулись и постарались спрятаться за дверцы шкафчиков для одежды. – Иван Львович! Почему без стука? Мы переодеваемся.
– Переодеваетесь!? Вы полчаса назад должны были это сделать и двадцать минут с ведрами и тряпками заниматься уборкой… хмм… трусики какие у тебя интересные, Ксюша: цветочки, как на полянке в майские деньки, цвет какой-то необычный.
– Как вам не стыдно, Иван Львович! – ответила возмущенно Ксюша, не зная, куда деться от наглых глаз. Ее шкафчик стоял как раз напротив двери; оставалось разве что залезть внутрь. – Не успели зайти, как разглядели нижнее белье.
– А под трусиками еще интереснее! – со смехом сказала Лариса и вышла навстречу завхозу, точно отдавая себя на заклание. – У вас женщина есть? – живо поинтересовалась Лариса. – Может быть, вам, гражданин начальник, сделать эротический массаж?.. Шваброй по члену! Ха-ха-ха! Можно прямо сейчас. Смелее, господин завхоз. Расстегивайте штанишки!
– Чокнутая, – в замешательстве пробормотал завхоз и попятился.
– Ага! Хотите выйти. Давайте выйдем, чтобы девушек не смущать, – и Лариса с гордо расправленными плечами прошла в вестибюль.
– Вы понимаете, что нарушаете трудовой распорядок дня? – грозно вопросил завхоз, быстро пришедший в себя.
– Слова-то какие: «трудовой распорядок», скажите еще: «Шаг влево, шаг вправо – равнозначен побегу. Расстрелять и растоптать на месте». Не понимаю я «трудовой распорядок». Что в восемь часов начну я мыть полы, что в девять – полы от этого чище не станут.
– У нас не какая-нибудь шарашкина контора, куда приходят, когда хочется и работают, как хочется. Здесь не позволяется работать спустя рукава и систематически нарушать трудовую дисциплину.
– Оеей! Да если бы вы сами не опоздали – и меня не поймали бы.
– Это не ваше дело. У меня свой начальник, которому я обязан давать отчет.
– Понятно. Мы – никто. Нас можно шпынять и гонять, как хочется. Мы – поломойки, которых не отличишь от тряпки в помойном ведре.
– Не переводите стрелки в другую сторону. Вам делают справедливое замечание. Я вижу, одних устных замечаний мало. Пишите объяснительную, почему опоздали, а я, скорее всего, премию вам скорректирую.
– Хорошо, напишу, – спокойно сказала Лариса и поинтересовалась вскользь: – Про ваш комплимент писать?
– Какой еще комплимент?
– Как же! Вы сделали комплимент Ксюше, что у нее красивые трусики! – Лариса хохотнула. – Обязательно отмечу этот интересный факт!
– Почему вы дверь не закрываете на защелку, когда переодеваетесь? – грозно вопросил уязвленный завхоз.
– Стучать надо прежде, как в женскую гардеробную заходить.
– Я буду ходатайствовать за дисциплинарное взыскание с лишением премии за месяц! – кипел от негодования завхоз.
– Давайте, лишайте. С нашей копеечной зарплаты только премии и срезать, – спокойно ответила гордая девушка.
– Не нравится работа – увольняйтесь. Желающих много к нам наняться.
– А это уже мое дело, сама как-нибудь разберусь, – Лариса резко повернулась, быстро зашла в гардеробную и с оглушительным треском закрыла за собой дверь на защелку.
– Объяснительную! – успел гаркнуть вслед завхоз.
– Да пошел ты, дубина толстомордая, – сказала негромко Лариса. Она редко позволяла себе оскорбительные словечки. Если уж получалось само собой, то так, чтобы не касались они ушей, кому адресованы. Сбивать себя на ругань, брань, склоки было не в ее правилах – это сор, издержки, бесполезная трата сил.
– Премии лишит, – доложила она женщинам. – И так жить не на что. Ну, я ему сделаю кое-что. Он меня попомнит. Какую бы гадость ему, девчонки, сделать?..
Тамара – худосочная, бледная, с едва обозначившимися бедрами и грудью и, между тем, большими карими глазами – брякнула:
– В суд подадим. За домогательство!
– Это ты про что? – удивилась Лариса. – Про Ксюшины трусики?
– Нет. Помнишь, как-то он у нас здесь сидел больше часа и спрашивал, допытывался: что такое куннилин-гус… куни захотелось сделать! Ффу!
– Пустое, – махнула рукой Лариса.
В чем-то они были похожи, Лариса и Тамара. Обе хрупкие и легкие, одного роста, тонкие губы, острые черты лица, быстрые движения, – чаще нервные, изломанные. У Тамары чуть больше плавных линий в фигуре, чуть красивее глаза и чуть больше основательного в семейном укладе. У Тамары есть положительный муж, не пьющий и не гулящий, но с невысокой зарплатой. У Ларисы – нет такового. Вернее, был, да сплыл.
Она рано вышла замуж. Уже будучи на сносях, пережила длительное беспробудное пьянство муженька, который был намного старше ее. Когда полупьяный-полупохмельный непотребный муж валялся на диване в забытье и прострации, она искала любовь на стороне. Искала именно любовь, – яркую, острую, раздирающую унылую серость неудачного брака и, как ни странно, примеряющую с опостылевшим мужем. Примерял сам поиск и многочисленные находки, оставлявшие чудесные ощущения и воспоминания… Потом, после пяти лет загулов, муж разом бросил пить, закодировался. И вот он, трезвый и положительный, готовит обед и ужин для юной жены, убирается в квартире, таскает тяжелые сумки из магазина. А Ларисе стало вдруг тошно – она сердцем ощущала, что любви нет.
Когда распрекрасный муженек месяцами и годами был дружен с алкоголем, в сердце жила слабая надежда, что когда-нибудь он очухается, бросит пить и придет время настоящей любви. За все упущенные годы они наверстают в самой яркой огромной любви. Оказывается – нет. Никакого чувства, возвышающего и окрыляющего, в холодеющем сердце не отмечалось. Спать без любви даже с мужем было омерзительно. Лариса вернулась к маме и своей дочке. Мама взяла на воспитание внучку еще при выписке Ларисы из роддома, – та была семнадцатилетней новоиспеченной мамашей, которой было недосуг исполнять трудные обязанности по вскармливанию грудного ребенка, когда в наличии шалый ветер в голове и взрослый муж, срывающийся в затяжные загулы. Лариса устроилась работать реализатором в один из многочисленных продуктовых ларьков, и худо-бедно стали жить они втроем, пока не случилась страшная беда, снова перевернувшая ее жизнь…
Тамара заворожено постигала перипетии судьбы Ларисы, сама же решиться не могла разорвать со скучным мужем ради какой-то призрачной эфемерной любви, каких-то неоднозначных чувств, ощущений. Иногда она призадумывалась: так ли развита ее чувственность, можно ли усилить ощущения? Однако благоразумное чувство медленно укрепляющегося семейного достатка: собственная доля в квартире, верный муж, вкалывающий на двух работах, хорошенькая дочка, подержанная иномарка – остерегали ее от шальных поветрий в голове.
Третий и последний член их маленькой бригады уборщиков – Ксюша. Она лет на чуток постарше своих напарниц. Уже два раза была замужем, у нее двое детей от разных мужей. И теперь готовилась к вступлению в третий брак.
Со вторым мужем она еще не закончила бракоразводный процесс, и пока они жили вместе: Ксюша, двое детей, второй муж официальный и третий муж гражданский. Второго мужа Ксюша искренне презирала и удивлялась, как могла выйти за такого замуж: лентяй, пьяница, тряпка. В своей комнатушке, которую Ксюша ему отвела на период завершения раздела имущества, он либо спал, либо бездельничал, либо с несказанным блаженством тихо пил-запивался, равнодушно наблюдая, как у бывшей жены развивается новый роман. А новый кавалер любвеобильной Ксюши – разведенный молодой мужчина – поселившись у них, заполучил сразу два удовольствия: жгучую ненасытную женщину и удобного не утаиваемого собутыльника под боком. Разумеется, Ксюша судорожно искала варианты обмена квартиры, дабы удалить подальше бывшего и оградить от его пагубного влияния нового, пока еще гражданского мужа.
– Томка, чайник ставь! Я же торт принесла! Совсем из-за этого толстопуза забыла, – спохватилась Лариса.
– Опять на завтрак купила торт? – с легкой укоризной полюбопытствовала Ксюша.
– И на завтрак, и на обед! Ха-ха-ха!
– Ты – безалаберная. Как можно целый день есть один торт? Я, вот, суп принесла. Борщ с галушками.
– Фи! Борщ! Да с утра – не хочу! Вообще не люблю суп.
– В чайнике почти кипяток. Как включу, сразу закипит, – уведомила Тома.
– Замечательно. Схожу-ка я покурю.
– Поела бы сначала, – попробовала урезонить Ксюша.
– Я для аппетита покурю. Потом кофе и торт, потом снова покурю.
– Ну и ну! У тебя здоровья через край, видимо, – удивилась Ксюша.
– А то! Ха-ха-ха!
Для завтраков и обедов в гардеробной стоял обшарпанный письменный стол. Официально (Правилами внутреннего трудового распорядка) запрещалось в гардеробной пользоваться нагревательными приборами. Между тем, в часы, отведенные на обед, отсюда в коридор прорывались дразнящие аппетит запахи разогреваемой пищи. Кроме электроплитки, микроволновки и чайника, случись пожарная инспекция, можно было обнаружить и электробигуди, и наоборот – электрораспрямитель волос, утюг, декоративную лампу собственноручно кем-то и когда-то сделанную невесть из каких не сертифицированных материалов, магнитолу, радиоприемник, ворох зарядных устройств и т. п. и т. д. Ответственным за противопожарное состояние помещений и пожарную безопасность в целом был завхоз.
– Следующий торт куплю с клубникой, – сказала, облизываясь, Лариса. – Или суфле? Нет сначала с клубникой.
– Ты, Тома, чего не ешь? Попробуй юблинчиков. Вчера напекла. Ешь, не стесняйся, – говорила участливо Ксюша худосочной бледной напарнице. – Правда, чуть соды переложила.
– А ты уксус добавляешь? – вдруг живо поинтересовалась Тома.
– Нет. А зачем?
– Я добавляю. Никак не могу понять, почему блины прилипают… Может, и не надо уксус, но меня свекровь этому научила.
– Ты ей уксусу налей! – едко заметила Лариса. – Разбавленного, естественно, лишь бы язычок прижег. Ха-юбха-ха!.. Шутка. Не делай так никогда!