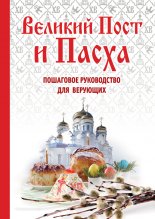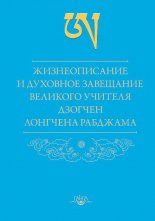Такая история Барикко Алессандро

Вы хотите знать, можно ли формально расценить поведение вашего сына как бегство — сказал мне доктор А., ротный хирург, когда я спросил, позволительно ли, по его мнению, считать блуждание вслепую поступком, за который полагается расстрел. Честно говоря, я не знаю ответа, признался он. То, что произошло тогда между горами и Тальяменто, нельзя объяснить языком военных по одной простой причине: сколь это ни смешно, отсутствовала такая необходимая предпосылка для логического анализа, как поле битвы. Границы были стерты, а единственная тактика немцев немало способствовала полной неразберихе. Некоторые ситуации я бы не колеблясь обозначил словом «гротескные», да простят мне такое кощунство. В какой-то момент итальянское командование выдвинуло тыловые части вперед, ближе к фронту, чтобы замедлить продвижение врага. Могло получиться, а впоследствии так и вышло — впереди им не удалось обнаружить термитов, потому что они их обогнали, даже не заметив, и оставили у себя за спиной; вместо этого тыловые части столкнулись нос к носу с колоннами побросавших оружие итальянских солдат, которые радостно отходили к Тальяменто, что, как нетрудно представить, сопровождалось язвительными замечаниями. А еще были штатские, несколько десятков тысяч первых беженцев, которые уносили все, что могли, и заполняли собой немногие еще доступные дороги. Повсюду царил хаос, а вы задаете мне сугубо формальный вопрос, бежал ли ваш сын или всего лишь подчинялся приказу отходить. Откровенно говоря, я не знаю, что ответить. Возможно, это зависит еще от того, как он отходил. Иными словами — как добрался до Тальяменто.
На автомобиле, сказал я, — об этом мне поведал Кабирия, когда я поинтересовался, как им удалось вырваться из Удине. На автомобиле, ответил он и продолжил рассказ. Внезапно они вышли на широкую улицу, на бульвар, где увидели массу австрийцев; те стояли в боевом строю, офицеры проводили смотр войск, тут же были артиллерийские орудия, оставалось только задаться вопросом, как им удалось так быстро сюда добраться. Даже оркестр был. Это казалось какой-то комедией, пояснил мне Кабирия, потому что за два года войны такого количества австрийцев одновременно я ни разу не видел. Я был готов бросить оружие прямо там — и делу конец. Но Последний побежал, капитан за ним, а мне что оставалось? И я припустил следом, чтобы поскорее убраться оттуда. Беда в том, что нас заметили и теперь преследовали, крича что-то по-немецки. Когда раздались первые выстрелы, капитан свернул в переулок, и мы оба бросились за ним в надежде, что это не тупик, иначе нам крышка. Так мы пробежали полгорода, слыша за спиной топот и крики австрийцев, которые не отставали. Направление мы выбирали наугад, и нам пока что везло; мы опять выскочили на площадь с итальянскими солдатами, у которых был такой вид, будто они в увольнении. Мы без единого слова промчались мимо, и, наверно, после этого они сделали что-то, может, просто сдвинулись поплотнее, но топот и крики остались вдалеке. Капитан молча нырнул в первые попавшиеся ворота, мы пересекли двор, подошли к парадной лестнице, очень красивой, и стали подниматься по ней. Я обратил внимание, что в какой-то момент Последний остановился и повернул обратно, тогда как мы с капитаном добрались до второго этажа, где был вход, что-то вроде входа, коридор, ведущий внутрь дома. Мы двинулись вперед, с винтовками наизготове — как знать, что ждет нас. При воспоминании о том, что мы увидели дальше, меня и сейчас оторопь берет. Большая, очень большая комната, полная дорогих вещей: ковры, зеркала, картины, а в центре, точно в центре, — накрытый стол, за которым сидят хозяева. Хрусталь, скажу я вам, на огромных тарелках изысканные кушанья, и пять человек, все нарядные, обедают в полной тишине. Во главе стола отец, против него мать, а по бокам три дочери, одна совсем малышка. Девочки аккуратно причесаны, в волосах ленты, причем одного и того же цвета. Они хранили молчание. Мы остановились на пороге, у нас в руках были винтовки, никто из сидящих за столом не произнес ни слова. Даже не взглянул на нас. Они продолжали есть. Мясо, у них было мясо, и картошка на тарелках, она мне показалась ярко-желтой. Был слышен стук столовых приборов о фарфоровые тарелки. Мы шагнули вперед, капитан и я, и тогда одна из девочек подняла глаза. Замерла, не донеся вилку до рта. Раздался голос отца: Ешь, Адель. Она опустила взгляд. Вилка возобновила свое движение. Перед каждым из них стояла тарелочка с белым хлебом. На скатерти два графина с кристально чистой водой. Я машинально, не думая о том, что делаю, подошел к столу. Взял бокал отца, полный вина, и выпил. Мужчина не пошевелился. Тогда я схватил рукой кусок мяса у него с тарелки и принялся жевать. Горячего мяса я не ел несколько месяцев. Капитан приблизился с другой стороны стола и последовал моему примеру. Он опустошал тарелку одной из дочерей. На этот раз отец подал голос: Вы не имеете права. Сказал, что стоило вежливо попросить, и на кухне нам бы обязательно что-нибудь приготовили. Он говорил, глядя в одну точку. И это привело меня в бешенство. Конечно, и его слова тоже, но в основном то, что он не повернул ко мне головы. Долго объяснять, профессор, извинился Кабирия, надо еще о многом рассказать. Слушаю, сказал я. О поездке домой, сказал он. Продолжай, сказал я. Во время отпуска мы поехали ко мне домой, я и Последний, сказал он. К себе Последний возвращаться не хотел, думаю, из-за семейных проблем. Его отец попал в аварию, не знаю, при каких обстоятельствах, и остался инвалидом; короче, ехать домой у Последнего желания не было. Из-за этого и еще по каким-то причинам, связанным с братом. В общем, куда-то надо было ехать, и он поехал со мной. Не стану мучить вас подробностями о том, как мы добирались до места, скажу только, что неприятностей в пути хватало. Однажды вечером я привел его в гостиницу на шоссе, привел из-за хозяйской дочки: когда эта красотка прислуживала за столом, то наклонялась так, чтобы ты все разглядел — это входило в ее обязанности, сами понимаете. Мы хотели немного развлечься, забыть о войне, обо всем этом дерьме. Вот и направились в эту гостиницу, чисто вымытые, надушенные и все такое, но форму не сняли, потому что гордились ею. Мы сели за стол, хозяин расточал нам широкие улыбки, но попросил пересесть за другой столик, в глубине зала, — этот был заказан. Мы пересели, куда он указал. Обслуживал нас парень, которого я раньше не видел. Красавица-дочка тоже там была, но к нам не подходила. Она поглядывала издали, но потом отец отправил ее к другим столам. А нам пришлось довольствоваться прыщавым молокососом. Наконец я поднялся, подошел к хозяину и со свирепым видом сказал, что деньги у нас есть, а потому хватит валять дурака, пускай пришлет к нам наконец свою дочь. Он заявил, что ужин, из уважения к родине, будет за счет заведения, но если мы посмеем мешать другим клиентам, он нас пинком под зад отправит туда, откуда мы пришли. Он произнес это, глядя в сторону. Потому что ему было противно смотреть на меня. Никто не хотел смотреть, понимаете? они хотели выиграть войну, но в лицо ей смотреть не хотели. Они никому не смотрели в лицо; они читали газеты, зарабатывали деньги и не хотели знать правду; они боялись этой гребаной правды, стыдились ее. Понимаете, оставалось только с горечью вспоминать об окопах, говорю совершенно искренне, считать дни и надеяться, что время быстро пролетит и окунет тебя обратно в дерьмо, которое хотя бы было настоящим, Бог свидетель, оно действительно было настоящим. Словом, из-за такого рода историй меня и взбесил тот богач, который жрал мясо и не обращал на нас никакого внимания. Может, меня так возмутил вид стола, полного жратвы, что даже если б этот тип посмотрел на меня, я бы этого не заметил: подумаешь, очень надо! Но он хотел отправить нас на кухню, сказал, что достаточно было вежливо попросить, и нам бы обязательно что-нибудь приготовили. Не глядя в мою сторону. Я ударил его прикладом в лицо. Он вместе со стулом рухнул на пол. Помню упавшую белую салфетку. Я поднял взгляд. Капитан продолжал есть. Три девочки и мать застыли, неподвижные, не смея поднять глаза от тарелок и не выпуская из рук вилки. Они были прекрасны. На войне нет места ангелам, это безумие. Я подошел к старшей и дотронулся до ее волос. Одна из сестер захныкала, но едва слышно. Я развязал ленту, и волосы рассыпались по плечам — я уже давно забыл, какие легкие у женщин волосы. Затем мы все перевели взгляд на дверь: капитан, я, ангелы — все мы перевели взгляд на дверь; на пороге стоял Последний. Он всегда появлялся незаметно — такова одна из его особенностей. Это как дар свыше, нечто, присущее ему изначально. В моих краях это называют золотой тенью, только не знаю, почему. Он ею обладал. Так вот, мы перевели взгляд на дверь, а на пороге стоял Последний. Он тихо произнес:
— Я нашел внизу автомобиль.
Наверно, он хотел сказать что-то еще, но роскошь комнаты будто ослепила его: слова так и застыли на губах, а глазами он пожирал стол. Медленно приблизился, причем нам с капитаном и в голову не пришло что-то сказать: мы почувствовали, что нельзя останавливать его — он был не таким, как все. Последний подошел к столу и провел пальцем по краю скатерти. Он переводил взор от одного края стола к другому, словно хотел измерить его или охватить одним-единственным взглядом. На лице его играла странная улыбка, будто он обнаружил то, что давно потерял. Он касался до всего, что находилось на столе: выпуклости графина, ободка тарелки, контура бокала — изящно проводил по ним пальцем, словно по своему собственному творению, как делают ремесленники, когда закончат работу и последний раз ее проверяют или еще что-то подправляют. На людей он вообще не обращал внимания, его занимали только предметы; на лежавшего ничком на полу отца с окровавленным лицом он и не взглянул, поглощенный изучением серебряного кольца для салфеток, он легко дотрагивался до него пальцем, перекатывая по столу. Оставив кольцо в покое, он подошел к младшей из сестер, похожей на куколку, которая сидела неподвижно и молчала, не плача и не поднимая глаз от тарелки, и осторожно взял у нее из руки серебряную вилку тончайшей работы. Держа вилку перед собой, он, как загипнотизированный, скользил по ней взглядом, от кончика ручки до зубцов и обратно. Тут капитан решил, что мы перестарались, и громко спросил, при чем здесь автомобиль. Последний пришел в себя, словно очнувшись от сна. И ответил, что внизу, в гараже стоит автомобиль.
— На что нам автомобиль? — спросил капитан.
— Чтобы доехать до Тальяменто, вот на что.
— Ты спятил? Надо же уметь на нем ездить.
Последний улыбнулся. Затем склонился к девочке и произнес:
— Мерси.
И положил вилку в карман. По дороге к двери он старался не смотреть по сторонам. Мы с капитаном переглянулись, и капитан поспешил за ним. Я тоже. Но уже на пороге меня остановила безумная мысль, и я вернулся. Подошел к матери и сказал:
— Мерси.
И сорвал с ее шеи тонкую золотую цепочку. Женщина не шелохнулась. Тогда я осмелел и взял заодно серебряные кольца для салфеток. Никто не пытался остановить меня. Это оказалось на удивление просто, и я решил забрать все, что смогу; действовать надо было решительно — я подошел к матери и спросил, где остальное. На меня она не смотрела. Не поднимая глаз от тарелки, сняла три кольца со словами:
— Не причиняйте нам зла.
Взяв кольца, я повторил вопрос:
— Где вы прячете остальное?
Почему-то я решил, что в доме этих ненормальных было спрятано неведомое сокровище. В ответ тишина — женщина осталась неподвижна. Тогда я запустил руку ей в вырез платья, удивляясь собственной смелости:
— Мне самому поискать?
Груди под кружевами были мягкие.
— Прошу вас, — выдавила она и поднялась.
Привела меня в библиотеку и из какого-то тайника достала все драгоценности — целое состояние. Я никогда не совершал ничего подобного, клянусь, но тогда все было не как обычно: мы были странными, мир был странным в те дни. В глубине души была уверенность: я только возвращаю себе то, что у меня отобрали. Женщина по-прежнему избегала смотреть на меня, и тогда я понял, что не успокоюсь, пока не увижу ее глаз. Прикладом я начал крушить все подряд, потом принялся вспарывать штыком кресла, подушки — что под руку попадет. Устроил настоящий погром. Три сестры и мать молчали и не двигались, — за эту неподвижность хотелось их придушить. Значит, у них действительно что-то припрятано. Наконец я нашел еще один тайник за деревянной панелью, которыми в богатых домах так любят закрывать голые стены — иначе они кажутся слишком заурядными. В кирпичах за панелью было сделано углубление. То, что я там увидел, вначале можно было принять за сложенные в стопки небольшие книжки или аккуратные кирпичики. Только всё было из чистого золота. Идиоты. С таким богатством они сидели здесь и ждали, пока война настигнет их, вместо того чтобы спокойно отправиться куда угодно и наслаждаться жизнью. Я решил, что они полные идиоты. Вывалив содержимое ранца на пол, я сложил в него золото и остальную добычу: драгоценности, кольца для салфеток — все. От волнения у меня дрожали руки. Этого хватило бы нам троим, Последнему, капитану и мне, на роскошную жизнь. Снизу донесся гул заведенного мотора. Все шло идеально, словно было заранее продумано. Прежде чем уйти, я приблизился к матери и, взяв ее за подбородок, заставил посмотреть на меня. Глаза у нее оказались большими и серыми — у некоторых животных такие бывают. Ей пришлось посмотреть на меня. Отец так и лежал на полу, — откуда я мог знать, что он мертв? — я лишь сильно ударил его в лицо, а о том, что он умер, узнал уже потом, но несправедливо обвинять в этом меня, может, он от разрыва сердца помер, — скорее так, чем от моего удара, — или его собственные дочки прибили за дурость, за то, что чересчур важничал перед нами, почем я знаю. А все на меня повесили, и отсюда мне уже никогда не выйти, вздохнул Кабирия.
Я знал, что он уже тридцать лет провел за решеткой, потому что убитый им мужчина оказался большой шишкой, да еще и золото исчезло навсегда, и заключенный упорно отказывался признаться, где оно спрятано. Я сказал, что его оставят всю жизнь гнить в тюрьме, а потому и золотом своим попользоваться ему не удастся. Он засмеялся. Вы так считаете? Поживем — увидим.
Мне точно известно, что, против всякой логики, мой сын вместе с Кабирией выехали из Удине на «фиате-4», за рулем которого сидел солдат по имени Последний, они оставили за спиной город и по проселочным дорогам, а иногда и прямиком через поля, направились к Тальяменто. Когда я спросил доктора А., ротного хирурга, как такое возможно, он, улыбаясь, ответил, что раз было, значит, возможно, и добавил, что, по правде, все происходившее тогда в тех краях лишено смысла. Это уже не война, объяснил он. Видите ли, среди маневров, предусмотренных руководствами по военной тактике, есть один, превосходящий остальные по трудности, в том плане, что остановить его практически нереально, — отступление. Учебники изображают отступление как маневр, которому можно придать определенный порядок, разумную форму. Тогда как в действительности отступающая армия — это уже не армия. Одна из глупейших фраз, которую вы могли услышать по поводу Капоретто, — это «отступление превратилось в разгром». Перед вами софизм военного языка. Они упрямо называют военным маневром то, что происходит спонтанно, когда скорлупа войны дает трещину и невероятное количество физической и психической энергии высвобождается из-под контроля военной логики и просто-напросто откатывается назад, увлекая за собой обрывки пейзажа, людей и смертей. В таких вещах порядка быть не может. Сама война, как вам известно, любит порядок, но отступление нарушает его, оно как выпавшее звено в цепи событий, неконтролируемый отход от каких бы то ни было правил, ведущий к разгрому. Под Капоретто отступление приобрело библейские масштабы и, согласитесь, по всем признакам носило характер чудовищного хаоса. За несколько дней более трех миллионов человек заполонили маленький участок земли, сосредоточив там все мыслимые виды иллюзий и умозаключений. Более миллиона итальянских солдат спустились туда с гор; лишь несколько дней назад они гнили в окопном аду на передовой, а сейчас слышали женские голоса, вновь видели человеческие лица, открытые двери, винные погреба, которые можно грабить, дома, покинутые хозяевами. У кого-то еще оставалось тайное желание подчиниться приказу об отступлении, но большинство подчинялось инерции дорог; почувствовав себя свободными, они сбросили бремя войны и внезапно соскользнули в застывший мир, где больше не было Истории, которая бы осудила их. По пятам их преследовала австро-немецкая армия, а это значит, что миллион изнуренных солдат, изнуренных неожиданно долгим наступлением, оказался в отчаянном положении, когда все планы снабжения пошли прахом, и единственной возможностью обеспечить себя оказался грабеж, а единственной возможностью выжить — продолжение наступления, как это ни странно. Добавьте сюда штатских — около трехсот тысяч человек, которые, не дожидаясь неминуемой вражеской оккупации, бежали, бросив свои дома; представьте себе стариков и детей, лежачих больных, погруженных вместе с кроватями на телеги; представьте себе скотину — все их богатство. Представьте себе дороги, превращенные осенними дождями в потоки грязи. А теперь подумайте о чехарде, в которой трудно разобраться; немецкие термиты все еще блуждают по кровеносным сосудам отступления, зачастую впереди итальянцев, не способных уклониться от боя в условиях, когда все перевернуто с ног на голову, и нашим солдатам приходится сражаться за право вернуться назад, проложить себе дорогу в тыл. Освободить самые важные, согласно военной тактике, объекты: железнодорожные станции, мосты, дорожные узлы, где внезапно вновь разгорались бои за обладание любой точкой, любой, даже самой незначительной, позицией, которая могла означать жизнь или смерть. Представьте себе штатских, первыми подошедших к реке и отброшенных оттуда; они вынуждены повернуть обратно и возвращаться в свои опустевшие дома. Представьте итальянские тылы, выдвинутые вперед, навстречу своей отступающей армии, для того чтобы замедлить продвижение врага. Представьте пленных, которые спустились с гор, а теперь, лишенные свободы, поднимаются обратно, направляясь в лагеря для военнопленных на австрийской земле. Вы можете представить себе масштабы подобного взрыва? Если вы действительно хотите знать мое мнение, то скажу, что на дорогах к Тальяменто чего только не происходило в те дни, и этого не понять, если не выйти за рамки военной логики; тут, поверьте мне, не обойтись без сравнения с совсем другим видом опыта — опытом праздника. Воспользуйтесь грамматикой карнавала, и вам удастся проникнуть в суть отступления при Капоретто. Попробуйте представить — посоветовал доктор А., ротный хирург — живой поток под октябрьским небом, людей на фоне тысяч брошенных артиллерийских орудий, опрокинутых или превратившихся в груду обломков, попробуйте представить еле движущуюся трехмиллионную толпу тех, кому больше нечего терять, попробуйте представить усталость и боль, но одновременно облегчение и радость, полное отсутствие мыслей и поистине вавилонское смешение языков и слов. Тогда вы, возможно, прочувствуете природу праздника, скрытую под оболочкой того, что потом преподносилось как катастрофа, и посмотрите без тени страха на открывающуюся вашему взгляду карнавальную эйфорию: это одна сплошная гримаса или, если угодно, танец, именно танцем было движение по грязи, легким танцем. Ручаюсь вам, что в тех местах никогда не видели подобного праздника. Я бы даже сказал, революции. Представьте, как состоятельные господа наложили в штаны, проснувшись утром в своих теплых домах, где, казалось, им ничто не угрожало, и обнаружив, что их вот-вот захлестнет стихийная волна безумцев, переполненных злобой и забывших о всякой дисциплине. Где были вы, профессор? в полумраке какой-нибудь гостиной? или в надежных стенах университета? Не говорите, будто не содрогнулись, услышав первые сообщения, увидев первые заголовки газет в дни большевистского кошмара, — это невозможно забыть; в России вспыхнула революция, и как раз в те дни с гор спустилась лавина безумцев, которых три года держали на поводке; неизвестно, какую жестокость они несли в душах, когда хлынули на равнину, у многих в руках было оружие, и они внушали ужас, внушало ужас это вооруженное отчаяние, не говорите мне, будто не подумали хоть на миг, что пришел конец, — не войне, не только войне, а всему, вашей лжи, вашим махинациям, — всё грозили сокрушить вооруженные оборванцы, которых вы обрекли на самые жестокие мучения, они спускались с гор, они шли к вам, и никто не остановил бы их, потому что страх был им уже неведом, они бы пришли и расквитались с вами, отплатив тем же зверством и насилием.
Но получилось по-другому.
Они покорно шагали.
Это подтверждают все свидетели. Полные решимости, непоколебимые, но покорные. Бок о бок с офицерами, освобождая дорогу для отставших генеральских автомобилей, старательно отвинчивая затворы с брошенных ими же орудий, саморазоружаясь с криками: конец войне. Для них уже наступило мирное время, понимаете? Никаких революций. Сплошной праздник, говорю я вам. Нелегко понять, почему то, что могло разгореться яростным пламенем революции, вошло как праздник в Календарь жестокостей, предписанных Временем. Не позволяйте ненависти, грабежам, изнасилованным сестрам милосердия и превращенным в кабаки церквам сбить себя с толку. Обычная для праздника обстановка. На самом деле вас пощадили, без всяких на то оснований и даже не догадываясь об этом, с той же непонятной кротостью, с которой отнеслись к окопам. Вас могли уничтожить, а вместо этого пощадили в обмен на один день великого праздника и анархии. Вы так не считаете, профессор?
Я сказал ему, что уже давно потерял интерес к подобным рассуждениям. И добавил, что единственно важным для меня во всей этой истории был вопрос о чести сына, а потому чрезвычайно важно было разобраться в развитии событий на войне, что само по себе вызывало у меня отвращение, но я понимал — это необходимо для достижения моей цели. Я не стал оспаривать привлекательность его теории праздника под Капоретто, я лишь выразил величайшее сожаление, что у меня нет времени, чтобы изучить ее поглубже и оценить по достоинству. Я извинился и попросил его вернуться к стремительному развитию событий, чтобы с их помощью дополнить известную мне картину передвижений сына.
Я говорил вам, что отступление — это небольшая пауза в боевых действиях, сказал он.
Это невозможно, сказал я. Ведь австрийская армия преследовала их по пятам, вокруг блуждали термиты, отсекая пути бегства, а итальянские тылы продолжали сражаться.
Безумие, иначе не назовешь, сказал он.
Продолжайте, сказал я.
Сплошное безумие, сказал он.
У него был усталый вид. Я наклонился, вытащил из сумки еще одну бутылку коньяка и поставил ее на стол. Таковы были условия нашей необычной беседы. Он кивнул, но не произнес ни слова. Я решил узнать, где был он тогда, в дни Капоретто. Личные вопросы в наш уговор не входили, но на столе сверкала полная бутылка, достойная особой платы. Он молчал, но когда я вновь попросил его рассказать, где он находился в дни Капоретто, произнес:
— Вы мне надоели, профессор. Надоели со своими вопросами.
— Я спрашиваю ради сына.
— Да хватит уже о вашем сыне, до него никому нет дела, неужели вы этого не понимаете? Ваш сын капля в море, вы уже много лет ищете каплю в море, какой смысл выяснять, виновен он или нет? капля в море из трех миллионов неприкаянных людей, кому она нужна? какая теперь разница?
Я потянулся за бутылкой, и в глазах его мелькнуло беспокойство. Злость и беспокойство. Он остановил мою руку и забрал бутылку. Откупорил ее, зубами выдернув пробку. Но пить не стал. Просто смотрел на бутылку. Потом поставил на стол, не выпуская из рук, и немного наклонился ко мне, пристально глядя в глаза. Он говорил, не останавливаясь, не притрагиваясь к коньяку, монотонным и злым голосом:
— Я был в районе Понте-делла-Делиция. Это мост через Тальяменто. Там, на западном берегу, находился тыловой госпиталь, где я служил. Волна беженцев и отходящих солдат, огромная, неуправляемая, нахлынула неожиданно. Река поднялась, и перейти ее можно было только по мостам. Кругом царил невообразимый хаос, люди всё шли и шли — сотни тысяч толпились на бескрайней равнине, чтобы завязнуть в издевательски узких горловинах мостов. Лил дождь, по ночам стоял собачий холод. Утром с севера появились немцы, они спустились вдоль реки, по противоположному берегу. И, как волки, бросились на это несметное стадо. Из гигантского чрева толпы вырвался слитный предсмертный стон, и люди заметались, побежали, стали бросаться в воду, сметая все на своем пути. Немцы приближались с невероятной скоростью, разгоняя толпу. Им нужны были мосты. Мы открыли огонь. Им пришлось нелегко: у нас была удобная позиция, они же оказались на открытом месте. Они попытались прорваться, но им это не удалось, и они отступили. Быстро подготовились к следующему броску. Теперь они вступали на мосты, используя пленных итальянцев как щит. Толкали их вперед и прятались за ними. Наши оказались перед дилеммой. Как бы вы поступили, профессор? Почему не спрашиваете, была ли стрельба по заложникам формальным подчинением приказу или проявлением трусости? Пленные шли с поднятыми руками и заклинали не стрелять. Мы открыли пулеметный огонь; австрийцы поняли свою ошибку и отступили. На середине моста остались умирать пленные итальянцы. Они плакали и умоляли нас о помощи, но мы ничем не могли им помочь. Австрийцы в третий раз пошли в атаку. Нам стало ясно, что они не остановятся и будут атаковать целый день. Тогда генерал приказал взорвать мост. Непростая задача. Взорвать его — значит отрезать сотни тысяч людей, обречь их на плен. С другой стороны, если мы дадим немцам перейти через мост — нам всем конец. За секунду до поражения нужно было понять, что нам грозит, и взорвать все, чтобы задержать немцев на противоположном берегу. Непростое дело. Генерала, который должен был принимать решение, я знал — он мой земляк. Иногда войну можно постичь лишь с учетом того, что не имеет к ней отношения. Генерал жил с овдовевшей матерью — это было известно, потому что раз в неделю он приглашал к себе домой проститутку, проститутки всегда были разные, их ему выбирали собственные сестры, а оплачивала мать. Такой вот человек. А сейчас миллионы жизней зависели от него. Он приказал взорвать мост, и другая часть Италии, как корабль с перерубленными швартовами, тронулась с места и теперь дрейфовала. Немало немцев взлетело на воздух, взлетели трупы, лежавшие на мосту, коровы и лошади, пожитки беженцев. В деревне за три километра от моста в домах повылетали все стекла. Рвануло на славу. Опасность миновала, и мы, на своем берегу реки, начали переформировку. Надо было собрать солдат, разбежавшихся во все стороны, отправить их в тыл и выдать оружие. Если среди беглецов оказывался офицер, то военная полиция сразу задавала вопрос, где его часть и почему он не с ней. Ответ их не интересовал. Офицера отводили на отмель и там расстреливали. Дезертирство. Возможно, ваш сын был одним из них. Может, это он обоссался на глазах у собственного взвода. Он ведь был в нем моложе всех.
Он замолчал. Должно быть, рассказ окончился. Он все так же держал бутылку коньяка за горлышко, но не сделал ни глотка.
Я решил не обращать внимания на его скверный нрав, поэтому остался спокоен и смог побороть растерянность. Я ограничился бессмысленным замечанием: дескать, мне нелегко обнаружить во всем этом намек на праздник.
Он кивнул в знак того, что находит мои сомнения небезосновательными. Но через секунду язвительно расхохотался, будто желая напугать меня.
— Вы ни черта не можете понять, — заявил он, давясь от смеха.
Было видно, что его ненависть ко мне прошла.
Он посерьезнел. Пристально посмотрел мне в глаза и тем же монотонным и свирепым голосом рассказал мне еще кое-что, перед тем как прогнать.
— Дарю вам последнее мое воспоминание о Капоретто, можете делать с ним, что хотите. Дождливый день, адский холод. Все мчались к Пьяве, за ними по пятам немцы. Поверьте, мчались они как попало, забыв о порядке и чести. Я ужасно устал и решил немного отдохнуть. Я стоял под навесом курятника и смотрел на дождь. От него становилось еще тоскливее — сдохнуть хотелось. Я крикнул, и на крик явился паренек лет двадцати. Он сразу понял, что мне от него нужно. Он встал передо мной на колени, я расстегнул ширинку и вытащил член. Пока парень двигал головой вперед и назад, я поглаживал его коротко стриженные волосы. Я все еще ощущал ладонью это прикосновение, когда поднял взгляд на дорогу и метрах в ста увидел их. Батальон австрийцев, молча шагавших строем. Их было человек двести, может, чуть больше, и самое удивительное, что каждый держал над головой зонт, закрываясь от дождя. В одной руке винтовка, в другой — зонт. Честное слово. Сотни зонтов, марширующих идеальным строем на сером фоне равнины, они слегка покачивались, ритмично, как черные буйки, которые море баюкает на волнах.
Стоит мне вспомнить об этом, признался он, и каждый раз у меня возникает такое чувство, будто я увидел во сне собственные похороны. Но это не сон, это фотография. Возьмите. Она ваша. Мне она больше не нужна.
Два года спустя, как я узнал от нашего общего знакомого, доктор А., ротный хирург, дождливым воскресным утром покончил с собой выстрелом из ружья. Несмотря на неприятные воспоминания, оставшиеся у меня от наших бесед, мне было искренне жаль его, и неудивительно, что я подумал тогда обо всех, кого война продолжала убивать даже после того, как прекратилась ружейная и артиллерийская пальба. Война была зверем, который приволок свою жертву в нору и теперь спокойно пожирал ее, следя, чтобы она как можно дольше оставалась живой, — так сохраняется тепло живого мяса. Наверно, я мог бы причислить и себя к тем несчастным жертвам, если учесть, что война оставила следы своих зубов на последних годах моей жизни, отняв их у занятий, обычных для мирного времени. Но я не претендую на поблажки судьбы, которой не могу гордиться, из своей жизни я дезертировал по собственной воле, когда обрек себя снова и снова умирать смертью сына, чтобы попытаться понять ее, а может, чтобы не отпускать ее от себя. Нет никакого героизма в наказаниях, которые мы сами на себя налагаем, — никакие это не наказания на самом деле, а чистой воды мазохизм. Не важно, каким образом, но мне просто необходимо было поддерживать иллюзию, что сын жив, и поэтому я решил пройти вместе с ним весь его путь беглеца — не самый лучший способ, понимаю. Я уверен, что в поступках сына кроется его невиновность, и надеюсь, что мой мемориал сможет убедить военный суд разобраться в этом деле и докажет, что произошла ошибка. Но даже если ничего не выйдет, я все равно уверен, что моя работа не была напрасной, она привела меня на порог конца, меня вместе с сыном, которого я так любил, не задумываясь о причине этой любви. Для меня было великим счастьем проводить время в его обществе. А сейчас, в последние часы моей жизни, я счастлив и благодарен моей судьбе за то, что могу возвращаться, когда захочу, хоть тысячу раз в день, к последнему воспоминанию о нем, к образу, вырванному из забвения. Я вижу сына в самом центре всеобъемлющего хаоса, на нем форма, он следит за разливающейся рекой, вода в ней коричневая и мутная под серебристой гладью ледяного неба. Сотни тысяч человек оказались после долгих мытарств на подступах к страшному мосту, и вот он уже поглощает их с преступной медлительностью. Нет пути ни вперед, ни назад, только ощущение судорожной неподвижности, которую каждый изо всех сил старается преодолеть. Кабирия настаивал, чтобы они сбросили форму и переоделись в штатское, но мой сын и Последний отказались. Это не помешало самому Кабирии облачиться в темный, до нелепости элегантный костюм, который к тому же был ему мал. С солдатским ранцем, где хранилась его добыча, он не расставался. Ранец стал для него всем, и теперь чертовски важно было перебраться через реку. Что ты будешь делать со своим сокровищем, когда окажешься на том берегу? — спросил Последний. У тебя же его отберут. Кабирия рассмеялся. Пусть сначала найдут, ответил он. И добавил: нам бы только до дома добраться. С непонятно откуда взявшейся энергией, которой не осталось у его товарищей, он протискивался сквозь толпу сам и помогал протиснуться им, пробиваясь к причалу выше по течению, где ждал лодочник, которому он уже успел заплатить за переправу своим золотом. Пока не кончится половодье, на лодке реку не переплыть, возразил мой сын, но Кабирия заверил его, что стоит только заплатить — и дело в шляпе. Ему удалось убедить их, хотя задача выглядела невыполнимой: они оказались в самой гуще толпы беглецов, которая, как туман или песчаная буря, то редела, то становилась плотнее. Они похожи на рыбу, попавшую в сети, заметил Кабирия. Обо всех остальных он говорил так, будто их троица была сама по себе, — три путника, попавших сюда случайно, по иронии судьбы. Толчея была невероятная, и вот уже пополз слух, что сзади появились немцы и что итальянцы не собираются никого пропускать, так будет легче сдержать немецкий натиск, выиграть несколько дней или хотя бы несколько часов. Какая-то старуха, сидя на стуле в телеге, орала не переставая, Трусы, трусы, трусы, одно и то же слово, каркала без устали, точно ворона на ветке, трусы и опять трусы. Заткнись, старая, кричали ей солдаты, но она не обращала на них внимания и все повторяла свое: трусы, и это слово плыло над гудящей толпой как проклятие или молитва. Трусы. А в это время издалека доносились взрывы, где-то совсем рядом чавкали по грязи башмаки, слышались обрывки солдатских песен или звуки музыки, звон разбитых стекол, рыдания, бешеный рев мотора, гудение клаксона, стон, неумолкающие стоны. Вдруг посреди бескрайнего оркестра одиночеств Последний увидел женщину с лицом, изъеденным мукой: она брела как пьяная, что-то бормоча себе под нос. Он шел за Кабирией, который прокладывал дорогу в толпе, и когда оказался рядом с ней, расслышал ее слова: мой сын. Где твой сын? спросил Последний. Мой сын, повторила она. Где он? Ты меня слышишь? Где твой сын? Казалось, она наконец заметила его. И ответила: я потеряла сына. Последний кивнул, показывая, что понял. Мы его найдем, пообещал он. Где ты его потеряла? Он совсем маленький, сказала женщина. Ему четыре года. Уходи оттуда! крикнул Кабирия, нелепый в своем нарядном костюме, быстро уходи, нас не станут ждать. Подожди, сказал Последний. Потом повернулся к капитану, чтобы узнать его мнение. Капитан шагнул к женщине и спросил, где она в последний раз видела сына. Идиоты, заорал Кабирия. Не знаю, ответила женщина, перед нами ехал грузовик с солдатами, потом грузовик остановился, я пошла вперед, и после этого сына больше не видела. Ему четыре года. Зеленый свитер. Все трое завертели головами: не видно ли где мальчика в зеленом свитере? Это было то же самое, что искать в кромешной тьме. Капитан показал на военный грузовик метрах в пятидесяти позади и спросил, не об этом ли грузовике она говорила. Я потеряла сына, повторила женщина. Уверен, это тот самый грузовик, сказал капитан. Попробуем вернуться. Вы что, сдурели? заорал Кабирия. Тут целая армия загибается, а вы в этой толпище ребенка искать надумали! какая муха вас укусила? надо уходить отсюда, и плевать на ребенка! спасайте свою шкуру! Он продолжал надрываться, а Последнего в это время посетила странная мысль, что этот ребенок имеет отношение к ним ко всем, что в некотором смысле он начало всего. Стоит встретиться матери и сыну — и все встанет на свои места: найдется кончик нити, откуда можно начинать распутывать клубок, в который вплетены их судьбы. Он решил, что они допустили ошибку: нервно бились в сетях, когда надо было просто привести мир в порядок, начиная с того места, где они запутались. Он представил себе, как пальчики ребенка выскальзывают из руки матери, у него не осталось сомнений в том, что все началось именно в ту секунду, одна трагедия повлекла за собой другие — взмах крыльев, который вызвал торнадо, треск, который расколол землю. Мы пойдем искать его, сказал он Кабирии. Ты спятил, ищи его сам, а я ухожу, меня ждет лодка! крикнул Кабирия, вне себя от ярости. Ты не уйдешь, а подождешь нас здесь. Прошу тебя. И посмотрел ему в глаза, чтобы понять, как он поступит. Кабирия покачал головой, не зная, куда спрятать глаза. Последний в упор смотрел на него, пытаясь прочесть его мысли. Тогда капитан достал револьвер и навел на Кабирию. Отдай мне ранец. Кабирия подумал, что ослышался. Отдай мне ранец. Так мы будем уверены, что ты не сбежишь. Кабирия не мог поверить, что это происходит на самом деле. Но капитан говорил совершенно серьезно. Ранец, повторил он. Кабирия снял ранец со спины и бросил на землю. Капитан поднял его. Жди нас здесь, приказал он. Кабирия посмотрел на Последнего. Казалось, он подыскивает слова. Последний ему улыбнулся. Все будет хорошо, не бросай меня здесь, Кабирия, сказал он. Кабирия ничего не ответил. Он глядел им вслед; вместе с женщиной они удалялись, продираясь сквозь толпу. Прежде чем они исчезли в пучине хаоса, Последний еще раз обернулся, и Кабирия отчетливо увидел его: по золотой тени его можно было найти даже в многотысячной толпе. Последний обернулся еще раз и посмотрел на него, как пловец, который, заплыв далеко в море, осторожности ради бросает взгляд на берег. Кабирия кивнул ему. Они издали переглянулись в последний раз. Больше они друг друга не видели.
Мальчика нашли в военном грузовике: мать взяла его за руку, и теперь все в мире должно было встать на свои места. Капитан сказал, что они могут взять их с собой в лодку, а Последний подумал, что сейчас это уже не имело значения, возможно, вскоре вообще отпадет необходимость в лодках, реках и во всем остальном, в мире навсегда воцарится порядок, однако сказал только, что идея хорошая и что в лодке обязательно найдется место для них. Они стали протискиваться через толпу обратно к Кабирии. Там, где они его оставили, его не оказалось. Последний был уверен, что далеко он уйти не мог. Начались поиски. Кабирия может быть где-то у реки, предположил он. Пристань там, чуть выше по течению, за теми тремя домами. Они выбрались из толпы и вскоре уже шли полем и громко звали Кабирию, стараясь держаться ближе к реке. Последний, капитан, женщина и ребенок. Вскоре они остановились: Кабирия как сквозь землю провалился, да и пристань найти не удалось. Капитан молча поставил ранец Кабирии на землю и открыл. Внутри лежали мясные консервы, белье, пара ботинок. Сволочь, выругался капитан. Последний подошел и вывалил содержимое ранца себе под ноги. Ну, Кабирия, прошипел он. За их спинами беглецы, как одно копошащееся существо невероятных размеров, теснились у моста. Рядом бежала река, вздутая от воды и грязи. Ребенок сел на камень. Мать не выпускала его руку из своей. Никто больше не произнес ни слова. Вдруг прямо перед ними на фоне холма возникли темные силуэты вооруженных солдат: неестественную тишину, в которой они двигались, нарушал лишь голос, отдававший приказы на чужом языке. Мальчик встал. Последний не шелохнулся. Тело холма извергало полчища крошечных насекомых. Солдаты спускались не спеша, но шаг их был четким и размеренным; они неотвратимо приближались. Нет, только не плен, твердо сказал капитан. Я хочу быть с теми, кто продолжает сражаться. Последний взглянул на него и улыбнулся. Удачи, пожелал он. Вы были хорошим командиром. Увидимся дома. Капитан — мой сын — улыбнулся в ответ. И бросился бежать, уважаемые господа военачальники, бросился бежать, уже который раз за последние дни, и руководил им не страх, а мужество: он не спасался бегством, а бежал в пекло, навстречу, как он надеялся, вражескому свинцу, а свинец оказался вашим, глубокоуважаемые палачи, чтоб вы сдохли.
Последний решил, что встретит немцев стоя неподвижно, с поднятыми руками, и попытался представить себе, как он будет выглядеть в этой живописно-трусливой позе. Но принять ее Последнему помешала женщина: она нашла его руку и сжала в своей, теплой и спокойной. В этом пожатии, в котором участвовала, казалось, и рука ребенка, отразилась сила, излучаемая материей. Короче говоря, Последний сдался, однако рук не поднял: руки были заняты тем, что держали сердце мира.
Здесь заканчивается мемориал, написанный мною за одиннадцать дней и одиннадцать ночей с целью восстановить честь моего сына, несправедливо приговоренного 1 ноября 1917 года к смерти за дезертирство. Жди меня спокойная старость, я писал бы эти страницы без спешки, что сделало бы их более убедительными, но, как видите, обстоятельства сложились иначе. С минуты на минуту за мной придут, и я распрощаюсь с комнатой, где родился и прожил всю жизнь. Не знаю точно, в чем моя вина, но мне уже дали понять, что расплачиваться придется жизнью. Все эти годы я занимал ответственные посты в партии, не утруждая себя оценкой происходящего; да, я не сделал ничего, чтобы помешать преступлениям, я дорожил своим покоем и — для меня было важно — мог не притворяться, будто я в восторге от того, что творится вокруг. Люди, судившие меня, питают большие надежды на будущее и эту веру вынуждены черпать из источника справедливости, которую они понимают по-своему. Коль скоро им понадобилось принести в жертву старого фашиста, — я им подхожу. Я не пытался оправдываться, мне все равно, что будет со мной. Вероятно, мне следовало задуматься над тем, что с разницей в тридцать лет отец и сын, каждый своим путем, пришли к одному и тому же постыдному финалу; единственная мораль, которую отсюда можно было бы вывести: во всем виновато наше смирение. Но кому она нужна, эта мораль? В любые крупные события вовлекается великое множество тихих людей, и люди эти не ведают, в чем их спасение.
Меня не интересовали подробности смерти сына, меня интересовали только последние дни его жизни. Не знаю, кто был командиром карательного взвода, не знаю, чья подпись стояла под смертным приговором. Не хочу сваливать всю вину на них — думаю, они сделали то, что должны были сделать. Не знаю, в каких бюрократических дебрях пребывает имя моего сына, по сей день носящего клеймо дезертира. Но хочется верить, что если моим рассказом мне удалось пролить свет на события под Капоретто, то тщательная судебная экспертиза сумеет докопаться до истины, затерявшейся в толще военных мемуаров, и оценить пользу беспристрастного и достоверного свидетельства.
Осталось поблагодарить всех, кто своими воспоминаниями помог мне восстановить ход войны, в которой я не участвовал. Кто-то фигурирует в моем мемориале под своим настоящим именем, но не меньше я обязан и тем, чьи имена мной не названы. Я знаю, что каждый из них был мне полезен и по-своему незаменим. Тем не менее должен признать, что в эти смутные дни самое щемящее раскаяние я услышал в голосе Последнего. Для этого мне пришлось проделать долгий путь, при всей моей нелюбви к путешествиям. Сомневаюсь, что, увидев меня, он очень обрадовался: и тысячи километров не помогли ему спрятаться от прошлого. Но нам удалось найти общий язык, и мы получили удовольствие от самого процесса воспоминаний, от совместных мучительных попыток понять, что же все-таки произошло. С тех пор я его больше не видел. Интересно, что стало с ним и его мечтой. Мне бы не хотелось, чтобы он в ней разочаровался. За день до моего отъезда он решил кое-что мне рассказать: у него сложилось впечатление, что я смогу понять его лучше, чем кто-либо другой. Это связано не с Капоретто, а с тем, что было позже, в плену. Я ответил, что польщен. Последний испытующе посмотрел на меня, сомневаясь, серьезно ли я говорю. И начал свой рассказ. Спросил, имею ли я представление о лагерях для военнопленных, где томились итальянцы, взятые при Капоретто. Еды почти никакой, работа тяжелая, по восемь-девять часов. И дикий холод. Его лагерь был в Шпитценбурге. Работали на австрийских тыловых объектах, куда их возили каждый день. С нами обращались как с рабами, вспоминал он, и от постоянных унижений ты понемногу терял человеческий облик. В конце концов у тебя появлялось ощущение, что твоя жизнь никому не нужна, даже тебе самому. Однажды, продолжал он, грузовик привез нас на огромную площадку посреди пустынной равнины. Мы здесь оказались впервые, и трудно было понять, что вообще можно делать в таком месте. Всего несколько бараков, и больше ничего. Нас выгрузили и повели по траве. Вскоре мы догадались: здесь, посреди поля, была взлетно-посадочная полоса, лента утрамбованного грунта, идеально прямая, протянувшаяся метров на сто или чуть больше. Ее вырвали у сорняков и посевов пшеницы, а потом забросили неизвестно на какое время. Она выглядела ненужной и забытой. А я подумал: это моя первая за очень долгое время встреча с красотой. Наверно, теперь решили, что полоса все-таки нужна, вот нас и доставили сюда, чтобы привести ее в порядок. Засыпать ямы, перестроить бараки и все такое. Только ветер, не встречавший преград в бескрайнем пространстве, нарушал царившие вокруг безмолвие и неподвижность. Я не мог оторвать взгляд от ленты утрамбованной земли, и во мне рождалась необъяснимая уверенность, что я наконец-то дома, что я вернулся. Не с войны вернулся, не в родные края, нет — вернулся к самому себе, если вы понимаете, о чем я. К самому себе.
Работа началась. Он ходил с лопатой по взлетной полосе. Иногда он останавливался и бессмысленно ковырял землю, срывая кочки и засыпая ямы. Он сказал, что ему нравилось ухаживать за этой полоской земли — пусть и не по своей воле, — но делал он это как во сне, потому что мысленно продолжал искать и находить здесь нечто внушающее благоговение. Так и сказал: благоговение. Я не ожидал услышать от него подобное слово. Как если бы он вдруг заговорил на иностранном языке. Я работал, рассказывал он, и одновременно наблюдал за взлетной полосой, пытаясь понять. И наконец понял. Мне вдруг удалось увидеть дорогу. Сначала меня сбила с толку ее связь с самолетами, но потом под маской взлетно-посадочной полосы я узнал дорогу. Дорога. Вы даже представить не можете, что это значило для меня, я же вырос мечтая только о дорогах, всю жизнь я только их и видел; во всем, что попадалось мне на глаза, я видел дорогу, дорогу и мотор — то был подарок отца, существовавший только в нашем с ним воображении, одни мы в окружавшем нас мире слышали стук поршней и оценивали все мерками дороги, в профиле холма или бедре женщины мы видели дорогу и рулили по ней, представляете, всю свою молодость я только и делал, что рулил по дороге, — так я познавал мир, и именно молодость подарила мне уверенность, что впереди нас ожидают дороги, по которым нам поможет промчаться бешеная мощь наших моторов, сила нашего воображения и отваги. Вы понимаете меня, профессор?
Думаю, да, ответил я.
Для меня дороги значат столько же, сколько для вас числа.
Теперь я понял. Каждый понимает порядок по-своему.
Но дороги перестали существовать для меня, когда одна из них сломала жизнь моему отцу. С того дня все пропало. Я ничего не видел — только хаотичное нагромождение фигур. Казалось, сама жизнь запуталась так, что уже не было никакой возможности справиться с этим. Я пошел на войну в надежде найти там хоть что-нибудь отличное от обступившего меня плотного тумана. И нашел в Капоретто, — здесь любая истина потеряла свое значение, все дороги погрузились во мрак. Этого не понять тому, кто там не был. Поражение открыло мне всю глубину потери как таковой. Плен превратил меня в ничто, и после этого оставалось только исчезнуть навсегда. А потом под маской взлетно-посадочной полосы я узнал дорогу. В ней было что-то необычное, что-то внушающее благоговение. Исчезли люди, деревья, дома, голоса, жизнь, — абсолютно все, осталась только дорога, точнее, нечто большее — идея дороги, основа любой моей мечты, доведенная до совершенства мысль, запечатленная в пустоте полей. Ко мне вернулось пропавшее сокровище. Я остановился. Внутри я ощущал давно забытый покой. Тогда я сделал то, чего мне уже много лет не удавалось сделать. Плюхнулся на сиденье стоящего неподалеку автомобиля и завел двигатель. Впереди стометровая прямая, ведущая в никуда. Она ждет меня. Я выжал сцепление, и колеса принялись отсчитывать метр за метром, постепенно ускоряя вращение. Я доехал до конца и повернул обратно. Потом опять. Я доезжал до ограды и поворачивал назад, с каждым разом все быстрее и быстрее. Охранники бежали за мной и что-то кричали. Им нужно было, чтобы я работал. Они просто не могли понять. Я чувствовал ухабы и бьющий в лицо ветер, ощущал ладонями дрожь руля, ягодицами — вибрацию мотора. Возвращалась сила, меня покинувшая, и я видел, как в этом куске дороги вновь соединяются в одно целое осколки того мира, который из года в год подвергал меня испытаниям. Погоня продолжалась. Охранники были в бешенстве, и их лающие крики жалили, как удары хлыста. Число оборотов подходило к шести тысячам, когда, подъезжая к концу полосы, я понял, что на этот раз тюремщики слишком близко и не дадут мне повернуть назад, но я точно знал, что не остановлюсь. Еще немного, и дорога кончится. Тормозить я не собирался. Может, на мгновение у меня мелькнула мысль стать самолетом или птицей, но я прекрасно понимал, что, кроме опьяняющего восторга, полет ничего мне не даст, что это не выход. Все мои предки были крестьянами, мы люди земли, и мы не летаем. Наше спасение — земля. Дороги на земле. Прямо передо мной вырос солдат, он что-то кричал, весь красный от злости. Черт с ним! Мне оставалось проехать еще метров двадцать, и за это время, равное всего одному взмаху крыльев, нужно было сделать спасительный поворот. Я даже не успел испугаться. И снова увидел тем давно утраченным мысленным взором первую букву своего имени, рукой матери написанную красными чернилами на картонной коробке, где много лет назад я хранил свои сокровища. Снова увидел то уверенное движение, которым она вывела эту букву, аккуратно, скругляя углы, одной непрерывной линией. Тогда я понял, что оно, это движение, живет во мне. И что оно мне поможет. В мягкой люльке этой буквы я пущу галопом свои лошадиные силы — и я спасен. Я сжал руки на руле и всем телом подался влево. Шины завизжали, вгрызаясь в землю, и я ощутил напряжение автомобиля — натугу рыбы, плывущей против течения. И дорога обрела поворот, шикарный поворот — специально для меня одного. Я не сразу почувствовал первые удары, которые обрушились на мои ребра. Может, это были удары прикладом. Не знаю. Я упал на колени. Подоспели остальные. Все кричали. Но уже ничто не могло меня остановить. Я повернул направо, видя перед собой плавную незабываемую линию подола ослепительной юбки, и прибавил газу, въехав на изогнутый дугой рыбий плавник, — в нашем доме на обед иногда бывала рыба как обещание будущей встречи с морем. От чьего-то пинка я упал ничком, в ту секунду я на высокой скорости поднимался на горку Пьяссебене, а затем ринулся вниз, выкрикивая свое имя, в то время как на меня сыпались удары оравших во все горло охранников. Я закрыл глаза, и мне ничего не стоило спуститься по шее самой прекрасной из виденных мной женщин, а при виде ее плеча мягко нажать на педаль газа, чтобы отделаться от охранников. Жизнь снова принадлежала мне. Я закрыл голову руками, защищаясь от ударов, потому что не хотел потерять сознание. Я больше ничего не чувствовал. Только страх, что смерть заберет меня раньше, чем я приду к финишу. И я знал, куда мне ехать дальше. Идея невероятная, но одновременно и самая простая за всю мою жизнь, самая логичная. Это совершенство всегда таилось внутри меня. Я собрал оставшиеся силы и вписался в крутой поворот — спасибо горным дорогам Колле-Тарсо, — затем, вдавив педаль до упора, вырвался на просторы широкой реки, в которой мы купались летом, и позволил ей торжественно нести меня туда, куда я хотел попасть. Крики звучали все дальше, в горле у меня клокотала кровь. Сердце, прильнувшее к рулю, еще билось. Многовековая мудрость реки не подвела, и на скорости сто сорок километров в час течение вынесло меня на полосу, откуда эта чертова война собиралась поднимать свои самолетики и где я снова нашел дорогу, с которой начался мой путь. Когда-то, много лет назад, идя туманной ночью рядом с отцом, я понял, что это единственно верный путь к сердцу вещей, к дыханию времени. Теперь я знал, что он существует внутри меня, надо только каждый день извлекать его из-под обломков жизни.
Последний замолчал и впервые поднял взгляд. Долго смотрел мне в глаза. Было видно: ему есть еще что сказать, какую-то тайну он приберег напоследок. Я ждал. Он продолжал молчать, и я спросил: А что потом? Что теперь? Он улыбнулся. Чуть наклонил голову. Приходится нелегко, признался он. Часто все идет не так, как ожидаешь. Но у меня есть план, добавил он. Какой план? улыбнулся я в ответ. Хороший план. Последний подвинул стул ближе ко мне. Глаза его заблестели. Я построю дорогу, сказал он. Где именно — не знаю, но я ее построю. Такую дорогу никто себе и представить не может. Эта дорога заканчивается там, где берет свое начало. Я построю ее на пустом месте — ни барака поблизости, ни заборов, совсем ничего. Я построю ее не для людей, это будет трасса, скоростная трасса. Она будет вести исключительно к себе самой; ее место вне мира, вдали от его несовершенства. В ней сойдутся все дороги земли; именно она будет целью каждого, кто отправляется в путь. Я создам ее, и знаете что? я сделаю ее такой длинной, чтобы она вместила всю мою жизнь, поворот за поворотом, все, что я видел собственными глазами и никогда не забуду. Я не упущу ни одной мелочи, вплоть до полукружья заката или плавного изгиба улыбки. Все прожитое мной не пропадет понапрасну, а превратится в полосу земли, в вечный узор, в идеальную трассу. Хочу, чтобы вы знали: когда я дострою ее, то сяду в автомобиль, тронусь с места и буду кружить в одиночестве по своей дороге, все быстрее и быстрее. Я не остановлюсь, пока не онемеют руки, пока не буду уверен, что еду по безукоризненной окружности. Тогда я заторможу, заторможу в том самом месте, откуда начал движение. Вылезу из автомобиля и уйду, не оборачиваясь.
Он улыбался. Гордый.
Ты серьезно? спросил я.
Да.
Правда?
Я живу ради этого.
Тебе понадобится куча денег.
Я их раздобуду.
У него было такое выражение лица, будто он их уже нашел. Я мысленно увидел его за рулем: глаза прикованы к уходящей вдаль трассе, еще секунда, и он заведет мотор, чтобы начать жизнь заново.
Жаль, что меня не будет рядом в этот день, сказал я.
Он наклонился ко мне и кончиком пальца изучающе провел по выпуклости моего лба.
Ошибаетесь. Вы там будете.
Елизавета
Я начинаю этот дневник 2 апреля 1923 года.
Никакой романтики. Просто перечень событий. Перечень. Чтобы ничего не забыть. Всего-навсего перечень.
О себе. Двадцать один год. Имя: Елизавета. Русская. Из Санкт-Петербурга.
Я родилась во дворце, где было пятьдесят две комнаты. Говорят, что дворца больше нет, на его месте построили склад лесоматериалов. Это всего одна из перемен, за последние шесть лет[10]
Я решила забыть о прежней жизни, вычеркнуть из памяти родину, больше мне не принадлежащую. Прошлое перестало для меня существовать. Ненависть тут ни при чем, дело в безразличии. Мне все безразлично. Россия мне безразлична.
Моя новая родина: Соединенные Штаты Америки. На сегодняшний день.
Не думаю, что в Соединенных Штатах мне будет лучше.
Я хочу:
Мои родители умерли во время революции 1917 года. Покончили с собой в своем имении в Бастеркиевице. Выпили яд. Безразлично.
Спасена американским послом. Поезд, увозивший меня ночью, состоял из шестнадцати вагонов. Мы ехали в первом. Моя сестра Альма, американский посол, я сама и еще одиннадцать беженцев, один лучше другого.
Моя сестра Альма — в нее втрескался американский посол. Я никуда не поеду без моей сестры Елизаветы, сказала она.
И вот я здесь.
Что еще сказать.
Денег нет. Самая настоящая нищета. Я пока живу, потому что умею играть на рояле. Уроки музыки были обязательным дополнением к нашему положению девиц на выданье. Как и французский, итальянский, живопись, поэзия, танцы и садоводство. Но у меня осталась только музыка.
Пока хватит.
Спать ложусь в 9.20 вечера.
Мое тело
Сестра была красавицей. Я: лицо грустное. Рот большой. Глаза так себе.
Волосы слишком тонкие. Черные. Цвет красивый. Но мужчинам больше всего нравится мое тело. Я худая. Грудь. Ноги. Белоснежная кожа. Тонкие щиколотки. Декольте. Мужчинам нравится мое тело. Поскольку лицо у меня некрасивое, они предпочитают сразу переходить к физической близости, без всяких там предварительных романтических ухаживаний и признаний в любви. Для меня это игра. Мне нравится демонстрировать свое тело. Наклоняться так, чтобы грудь была видна. Ходить босиком. Позволять юбке задираться выше положенного. Во время разговора с мужчиной касаться его грудью. Зажимать руку между ног, задумчиво глядя по сторонам. И все такое.
Мужчины как дети.
Кружить им голову.
Я переспала с одиннадцатью. Но я до сих пор девственница. Мне даже понравилось, когда двое из них овладели мной сзади. Но я слышала, что мужчины это не особо жалуют — во всяком случае, тех двух я больше не видела. Кажется, я их унизила. Что меня очень радует. Сегодня секс — это месть. Так будет не всегда. Но сегодня это так.
За что я должна отомстить.
За что я должна отомстить.
Спрашивай, что хочешь узнать, и я отвечу.
Он говорит Не знаю, мне о тебе вообще ничего не известно.
Спрашивай.
Где твоя семья.
У меня ее нету.
Так не бывает.
Следующий вопрос.
У тебя тяжелый характер.
Отец всегда повторял, что у меня тяжелый характер, и теперь я понимаю, что он этим хотел мне — и себе — сказать: ничто не способно сблизить нас, меня и его, поэтому хоть он и любил меня, но не выказывал своих чувств, всю свою жизнь оплакивая невозможность_____никого на самом деле, это тяжело, но просто
Я учу детей играть на рояле. Иногда и взрослых. Мне платят «Steinway & Sohns» — они занимаются изготовлением роялей. Предыстория. В начале века.
Нет, вести дневник — это полный бред.
В начале века,
Что за имя такое: Последний. По-английски оно звучит the last one. Это для семей, которые больше не хотят иметь детей. А первенца они называют Первый.
Итальянские имена:
Первый
Второй
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Третий?
Я спросила Последнего, на самом ли деле у его родителей больше не было детей. Можно и так сказать, ответил он.
У его родных отца и матери он единственный ребенок. Затем мать влюбилась в итальянского графа — друга семьи, друга его отца. Граф погиб во время автомобильных гонок. Шесть месяцев спустя мать родила мальчика. От графа. Отец Последнего признал ребенка, но вся округа знала, что он от графа.
У моего отца было шестеро детей от четырех наших служанок. Когда в деревне он проходил мимо них, то машинально гладил по голове. Даже не глядя на самого ребенка.
Не могу отделаться от привычки вспоминать прошлое.
Я должна писать о настоящем. Для этого и нужен дневник.
Сегодня урок у Стивенсонов. Тринадцать миль езды в фургоне — и другой урок, у Уайтов. Близняшки. Моцарт. В смысле — я пытаюсь научить их играть Моцарта. Не в том смысле, что они играют как Моцарт. Но возраста они одного с Моцартом. Пять лет. «Steinway & Sohns» платят мне полдоллара за час урока. Если удается еще и рояль продать, то нам перепадает 4,5 % от его стоимости. Мы с Последним делим их поровну, 50 на 50. Я навсегда запомню то нищее время. Когда я опять стану богатой, мне будет очень важно помнить то нищее время.
Точно знаю, что опять стану богатой. Я на все готова ради этого. И будет по-моему. Я хочу снова почувствовать прикосновение мягких благоухающих простыней, непринужденно швыряться деньгами. Мечтаю выкидывать вещи, всего раз попользовавшись ими, и отсылать на кухню тарелки нетронутыми — полные до краев, так что дна не видно. Видеть благоговение и желание услужить в глазах окружающих, слышать страх в их голосе.
Я прекрасно помню, как мы жили, когда были богаты. Я ничего не забыла. И в любой момент готова зажить по-старому.
Начинаю считать дни, когда ложусь спать голодной. Сегодня первый. Уже заранее знаю, что завтра второй. Сколько таких дней потребуется принцессе, чтобы научиться всему, чему можно, и опять начать есть? 500. Ни днем больше. Надо бы попробовать.
Осталось 499.
Я не такая ужасная, какой кажусь.
Я не такая страшная, какой кажусь.
Я не такая
Укладываюсь в 10.14 вечера.
Молитва.
Первое механическое пианино я увидела в деревне у мистера Брандиша. Должна признать, это было довольно странное зрелище. Мистер Брандиш заводил пианино и вставал рядом, улыбаясь. Иногда от избытка чувств он начинал всхлипывать, и по лицу его стекали слезы. Иной раз он включал его тайком, не говоря никому ни слова, и делал вид, что ничего особенного не происходит. Например, все мы сидим в саду, а из дома неожиданно доносятся аккорды из пьесы Шопена. Если бы какой-нибудь парень, проходя мимо, захотел войти в дом и познакомиться с девушкой, что играет так спокойно и без единой ошибки, то он бы очутился в напоминавшей склеп гостиной, где не было ни души, а белые и черные клавиши поднимались и опускались сами собой. Думаю, его это, мягко говоря, насторожило бы.
Нечто похожее я чувствую, глядя на занимающихся со мной любовью мужчин, на их тела.
Пианолы совершенствовались, все больше удивляя людей своими поистине сверхъестественными возможностями, и производители роялей решили, что их время прошло. Понятно, что если можно было слушать Шопена, не садясь самому за рояль и не изнуряя себя многочасовыми упражнениями, чтобы получить исключительную привилегию наслаждаться музыкой, то вскоре роялям грозило превратиться в ненужную роскошь. И многие решили, что пора переходить на производство механических пианино. Хотя и было сразу очевидно, что дело это только вгоняет в тоску. На создание пианолы уходило гораздо меньше усилий, но все уже чувствовали, как вместе с роялями исчезает и сам дух музыки, пусть никто и не знал, что это за «дух музыки» такой. Люди пребывали в смятении, потеряв всякую надежду найти компромисс.
«Steinway & Sohns», один из лучших и наиболее авторитетных в мире производителей роялей, бросил все силы на решение возникшей проблемы. Выход искали долго. Долго думали. И наконец придумали. Вместе с инструментом продавать и возможность играть на нем. Конечно, это были только первые шаги, направление, нащупанное интуитивно. Мысль стали развивать: в идеале следовало продавать рояль сразу с пианистом, который играл бы на нем по первому требованию хозяев. Так удавалось соединить удобство механического пианино, сохраняя при этом дух музыки, с незаменимой составляющей — человеческим прикосновением, а соответственно и с его душой. Вопрос, осуществима ли подобная задумка, изучался со всей серьезностью. Но когда поняли, что с экономической точки зрения эта затея невыполнима, то остановились на другом варианте, благодаря которому я зарабатываю на жизнь. В 1920 году «Steinway & Sohns» дали ход небывалой коммерческой программе: каждый, кто захочет приобщиться к высокому искусству игры на рояле, получает бесплатные уроки. По всему миру набирали сотни учителей и отправляли их по городам и деревням нести музыкальное просвещение в массы. Мы ездим на грузовичке, принадлежащем фирме, с водителем, который одновременно выполняет обязанности техника. Гениальная находка состоит в том, что всем желающим мы бесплатно предоставляем рояль, ставим его, куда укажут, и ежедневно, на протяжении трех месяцев, даем уроки, тоже бесплатно, чтобы наши ученики смогли преодолеть первые трудности, совершенно предсказуемые. Тем, кто, попробовав, решает, что дело того стоит, «Steinway & Sohns» дарит еще три месяца уроков по чисто символической цене: десять центов в час. Ученики у нас прилежные, ничего не могу сказать.
Иногда взамен мы забираем старые пианолы.
А потом продаем их в кафе.
Мне нравится так вести дневник — как будто пишешь книгу. Это похоже на танец. Четкий порядок. Сосредоточенность. Изящество. Плавные, округлые движения. Начинать и заканчивать. Браться за то, что доведешь до конца. Фразы.
Написала всего страницу и уже выбилась из сил.
Не думаю, что у писателей это отнимает столько же сил. Ни за что не поверю. Я могу играть часами — и ни капли усталости, готова продолжать хоть до бесконечности. Если ты занимаешься действительно своим делом, то не чувствуешь утомления.
Всего несколько лет назад сама мысль, что моя жизнь может иметь что-то общее с выражением «заниматься делом», казалась мне кощунственной и нелепой.
Ложусь спать в 9.23 вечера.
Умираю от одиночества.
Я подсчитала, что в среднем провожу в одной семье 112 дней. Некоторые сдаются после первых же уроков, и тогда мы вычеркиваем их имена из списка и уезжаем вместе с роялем. Многие по прошествии трех месяцев покупают рояль, но от продолжения занятий отказываются: они просто привязались к инструменту. Они думают, что само обладание роялем придаст им вес в обществе и не важно, что играть на нем никто не умеет. Только единицы занимаются за бесценок еще три месяца. Такие по окончании часто предлагают мне остаться, обычно в качестве гувернантки для детей. Но меня это никогда не привлекало. Поэтому я продолжаю колесить по Новой Англии в одном фургоне с Последним и, в зависимости от обстоятельств, с двумя, тремя или четырьмя роялями в разобранном виде.
Ничего тоскливее пейзажа Новой Англии я не видела.
Тогда родился мой план. Он был прост: найти цель. Дни, похожие друг на друга как две капли воды, в сочетании с деревенской жизнью меня убили бы.
Я поставила перед собой задачу разрушать все семьи, в которых работаю. В среднем у меня было на это 112 дней. Иногда срок бывает гораздо меньше. Но мне все равно: я должна справиться.
И я буду писать об этом в дневнике. Составлю подробный список.
Разрушить семью несложно. Все семьи уже изначально с трещиной внутри.
Пора спать.
Получила письмо от сестры. Она живет в Каире. И напоминает оранжерейный цветок. Ее ни в коем случае нельзя расстраивать, потому что после путешествия в Египет ее нервы вконец истрепаны. Она прекрасно знает об этом и особо не огорчается. Ухаживает за своей внешностью и больше ничем себя не утруждает. Она мне пишет. Но я еще ни разу не ответила.
Самое интересное, что и Последний раз в неделю получает письмо. Он не только не отвечает на него, но даже и не распечатывает.
Последний обычно спит в фургоне. Экономит на гостинице и откладывает деньги. У него тоже есть план.
Рояль.
Ну конечно.
Ложусь спать в 10.11 вечера. Голодная. Как я и сказала, день № 2.
Еще 498, даст Бог.
Даст Бог — любимая фраза отца.
При всем моем уважении к нему.
С некоторыми оговорками.
Говорить вслух вместо того, чтобы думать вслух.
Придерживаясь фактов.
И так далее.
Мертвые мертвы, но их голос еще звучит.
Кто знает.
Когда времени мало, надо действовать быстро. Мне достаточно четырех-пяти уроков, чтобы понять, как побольнее ударить. Семьи напоминают крепости: у них обязательно есть слабые места. Патерсонам я через неделю отравила собаку. Надо было спешить, потому что Мэри, их дочь, на уроках зевала. У нее не было ни малейшего желания заниматься. Долго бы я там не протянула. Да и не похожи они были на людей, которые могут позволить себе рояль. Вот я и решила отправить на тот свет собаку. Мистер Патерсон ее терпеть не мог, миссис Патерсон обожала. Ветеринар сказал, что собаку отравили. Дважды два — четыре. Миссис Патерсон даже не сомневалась, кто убийца, и теперь ее мужу на много лет вперед обеспечена долгая и мучительная смерть. Кому придет в голову подозревать учительницу игры на рояле, юную русскую княжну, сломленную ударами судьбы? Я появляюсь как ангел, посланный с небес, чтобы излечить их, избавить от мук. Определенно, я им нужна. Они только и ждут, чтобы я их спасла. Это весьма облегчает мою задачу.
Патерсоны: 17 дней. С роялем дело не выгорело.
Вечер, веранда. Уже два часа я разговариваю с миссис Патерсон. Тонкая работа. Женская солидарность. Отвратительные подробности их с мужем половой жизни. Она об этом никому не рассказывала. Случай с пистолетом. Некоторые готовы пригрозить жене оружием, если та заартачится делать минет. Век живи — век учись.
Как-то, оставшись с их дочкой Мэри наедине, я ей призналась, что отравила собаку. По ошибке. Глупый ребенок — она рассмеялась.
Никогда не проявляй лишнюю инициативу.
Разбирая рояль, Последний сильно поцарапал обои. Пришлось платить из своего кармана.
Во время переездов в фургоне рояли расстраиваются, но Последний знает, как с этим справиться. Он с детства копался в моторах, и, по его словам, погружая руки во внутренности рояля, механик чувствует то же, что
Хирург, оперирующий ребенка.
Неизменно одно, говорит он: оба остаются живы. Рояль и автомобиль.
В каком смысле живы?
У них есть душа, которая может угаснуть.
Однажды Последний свернул на проселочную дорогу и посреди поля остановился. Я помогла вытащить рояль. Он его собрал. И попросил: сыграй что-нибудь.
Псих.
Но я согласилась. И играла долго.
Да так хорошо, как мне уже давно не удавалось. Я видела себя за роялем, будто наблюдала со стороны.
Последний о моем плане ничего не знает. Я и словом не обмолвилась. Когда у меня урок, он остается в грузовике или отправляется на прогулку. Ему неинтересно входить в чужие дома и знакомиться с хозяевами. Он панически боится, что ему предложат чашку чая. Поэтому он обычно сидит в фургоне и рисует.
Удивительное ощущение, когда я играла посреди поля.
Не забывать его.
Постараться не лишать себя радостей. Уверять себя в том, что живешь только
Милосердие. Повторять себе без остановки слово милосердие. Милосердие.
Взываю к милосердию.
Милосердная гроза.
Милосердный ответ.
Быть милосердной.
Последний, своди меня поужинать сегодня вечером. Мы зашли в какой-то ресторанчик и в молчании поели. Я думала о своем плане.
Пора с этим заканчивать.
11.07 вечера.
Я реквием что звучит у ваших дверей я болезнь что приходит из далекого края я пыль что летит в глаза я грязь под ногтями — я реквием губ что ждут поцелуя — я принцесса и принц, меч и дракон — я ночной пожар по которому плачет вода.
Я принцесса-реквием.
Аминь.
Я сказала Джигсам, что их сын гений. Деревенщина. Нищие. У них ни цента не было, но рояль купили, купили со страху: не знали, как отказаться. Деревенщина. Ничтожества. Отцу я сказала, что его сын гений. Потрясающие способности. Бесспорный талант.
На самом деле тупая посредственность.
Ваш сын гений.
Тогда они решились. Начали распродавать имущество, чтобы купить рояль. Оплатили вторые три месяца занятий. От радости, от избытка чувств у них даже походка изменилась. Стали задаваться перед соседями по своей деревушке. За небольшую дополнительную плату я с радостью готова удвоить время занятий. Они согласились. Вы уверены, что наш мальчик…?
Будь у него рояль, притом самого лучшего качества, он бы смог действительно проявить себя. Многое зависит от клавиатуры. Они распрощались с оставшимися вещами и заказали в городе по сниженной цене кабинетный «Steinway». Вечером они приглашают соседей послушать игру сына. Никто не приходит. Обида растет.
Вечер за вечером пирог на столе ждет гостей, а мальчик играет в пустой комнате. Я реквием что звучит у ваших дверей
От Джигсов я уехала через шесть месяцев, точь-в-точь по инструкции «Steinway & Sohns». Успев перед отъездом уверенно заявить, что мальчик просто обязан поехать учиться в город. Он не может отправиться туда в одиночку, возражает мистер Джигс. Я совершенно согласна: не может. А я не могу уехать в город — у меня тут земля, которую нужно обрабатывать, говорит мистер Джигс. Понимаю, говорю я. Земля — это все, что у меня осталось, говорит мистер Джигс. Все, что у вас осталось, — это сын, говорю я.