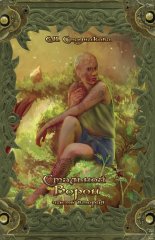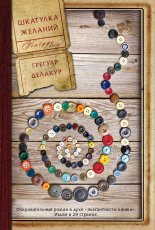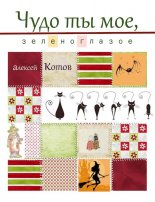Голограмма для короля Эггерс Дейв

— Спасибо.
Она поднялась. Встреча окончена.
— Это мой телефон, — сказала она. — Если что понадобится, звоните.
Он вернулся в шатер — молодежь сидела по углам. Все по-турецки, все с ноутбуками, проверяют сигнал.
— Есть новости? — спросил Брэд.
Алан спрятал бутыль в складчатую стенку.
— По делу ничего, — сказал он.
Объяснил, что их контактное лицо аль-Ахмад сегодня не появится, но приедет завтра.
— Завтра все выяснится, — сказал он.
— Вы ели? — спросила Кейли. Таким тоном, будто Алан сытно отобедал в Черном Ящике, а страдальцам в шатре ничегошеньки не принес.
Он с самого завтрака не ел. Молодежь утешилась: как они и подозревали, Алан совершенно беспомощен.
— Так нам сегодня устанавливать? — спросила Рейчел.
Алан не знал.
— Погодим до завтра, — сказал он.
Это их, видимо, устроило, и они снова разбрелись по углам к своим ноутбукам. Алан стоял посреди шатра, не понимая, куда себя деть. Работы особо никакой, звонить никому не надо. Он ушел в свободный угол, сел и стал ничего не делать.
XV
В половине восьмого Алан решил, что пора себя валить. В «Хилтон» вернулся в шесть, уже поел и теперь готов был проспать полдня. Открыл бутылку оливкового масла. Запах медицинский — наверняка отрава. Глотнул. Кислота обожгла рот, опалила десны, горло. Ханна его подставила. Прикончить его задумала?
Позвонил ей:
— Вы что со мной сделали?
— Это кто?
— Алан. Которого вы хотите убить.
— Алан! Вы о чем?
— Это что, бензин?
— Вы с гостиничного телефона звоните?
— Ну да. А что?
— Связь неважная. Перезвоните, пожалуйста, с мобильного.
Перезвонил.
Говорила она раздраженно:
— Алан, здесь эта штука вне закона. Не надо о ней разговаривать по гостиничному телефону.
— Думаете, правда кто-то слушает?
— Нет, не думаю. Но в Саудовской Аравии привыкаешь осторожничать, если не хочешь пойти на дно. Лишний раз не рискуешь, понимаете?
— Так это не бензин? И не яд?
— Нет. Но у него много общего с хлебным спиртом.
Алан понюхал горлышко.
— Простите, что вам не поверил.
— Ничего. Рада, что позвонили.
— Мне, наверное, просто надо выспаться.
— Глотните пару раз — и заснете.
Он дал отбой и глотнул еще. Содрогнулся всем телом. Каждая капля драла глотку, но в желудке превращалась в тепло, и оно искупало боль.
С бутылкой вышел на балкон. С берега — ни ветерка. С тех пор как вернулся в отель, стало только жарче. Алан сел, закинул ноги на перила. Еще глотнул из бутылки. Подумал про Кит. Сходил в номер, отыскал почтовую бумагу, три листа забрал с собой на балкон.
Писал на колене, задрав на перила ноги.
«Милая Кит, ты утверждаешь, что твоя мать всегда была и остается „эмоционально неустойчивой“. До некоторой степени это правда, но кто из нас зимой и летом одним цветом? Я и сам был подвижной мишенью много лет, не находишь?»
Нет, надо конструктивнее.
«Кит, твоя мать — не из того теста, что мы с тобой. Она из летучего и пожароопасного теста».
Это он вычеркнул. Величайшая трагедия в том, что как ни заговори о Руби, выставишься подонком. Руби убивала его, и не раз, — рвала на куски, запихивала внутрь ужасную, смертоносную начинку, потом сшивала заново, — но Кит не в курсе. Он глотнул еще. Лицо онемело. И еще. Господи. Всего каких-то два глотка, а он уже в невесомости.
Зашел в номер, открыл ноутбук. Хотелось посмотреть на дочь. Недавно прислала ему фотографию — она и две подруги, все в деловых костюмах, на какой-то летней ярмарке вакансий в Бостоне. До сих пор совершеннейший ребенок, херувимское личико. Надолго сохранит молодость — не положено так долго оставаться молодым. Он открыл папку с фотографиями, отыскал снимок. Лицо у Кит розовое, круглое, веснушчатое и сияет. С подругами — он наверняка знает, как их зовут, но что-то подзабыл — в обнимку, голова к голове, пирамидкой юношеских надежд и наивности.
Раз уж открыл фотогалерею — здоровенную сетку своей жизни в пиктограммах, — отмотал назад. Вся его жизнь здесь — и это кошмар. На последний его день рождения Кит откопала в гараже несколько десятков фотоальбомов и послала в сервис, где их отсканировали и записали на диск. Алан свалил весь архив в ноутбук, и теперь всё перед ним — его детские снимки, жизнь с Руби, рождение и взросление Кит. То ли Кит, то ли оцифровщики расположили фотографии в хронологическом порядке, и теперь эти тысячи картинок, всю свою летопись Алан мог пролистать за считанные минуты — и нередко пользовался этой возможностью. Жми на стрелку «влево» — и вся недолга. Слишком просто. Это нехорошо. От ностальгии, сожалений и ужаса он устрашающе каменел.
Глотнул еще. Закрыл ноутбук, пошел в ванную — может, побриться? Может, принять душ? Может, принять ванну? Вместо этого ощупал загривок. Половинчатая сфера нароста, твердая и округлая, кулачком вылезала из хребта.
Алан надавил — не больно. Это что-то чужеродное. Там нет нервных окончаний. Вряд ли дело серьезно. Ладно, тогда что это? Нажал сильнее — хребет прострелила боль. Пустило корни, значит. На позвоночник наросла опухоль, скоро она разошлет рак по сплетениям нервных коридоров, в мозг, в ступни, по телу.
Вот все и сложилось. Когда-то живой человек покалечен этой неторопливой опухолью, она его ополовинила. Надо к врачу.
Включил телевизор. В новостях какая-то флотилия вышла из Турции в Газу. Гуманитарная, говорят, помощь. Катастрофа, подумал он. Снова приложился к стакану. Только сейчас заметил, что на последних глотках легкость превратилась в головокружение. Вокруг носа все онемело. Взял стакан, поболтал оставшейся каплей, залил в горло.
Руби громко смеялась, громко ругалась. Бесстрашнее всего выступала на улицах. «Только посмей ребенка ударить», — сказала она незнакомой тетке на выходе из «Тойз-ар-ас». Кит пять лет. У Руби не бывало акцента, но эти слова она прогнусавила — наверное, предположил Алан, решила, что якобы деревенская кровь даст ей право вмешаться, обрушит классовые барьеры.
Алан как услышал — ушел мигом и Кит увел: знал, что беды не миновать. Сел в машину, Кит пристегнулась — сидели, ждали на стоянке. Проходя мимо тетки, которая шлепала своего ребенка, Алан сразу понял, что Руби не промолчит, а тетка в долгу не останется, и слушать все это не захотел. Не предполагал, что дело зайдет далеко, но Руби вернулась к машине вся красная и в слезах. Получила пощечину. «Представляешь? Эта сука меня ударила!»
Он представлял. У тетки такое было лицо — могла и врезать. Она же своего ребенка шлепала — нетрудно предположить, что и чужой женщине, сделавшей замечание, тоже достанется. И таких историй вагон. Спор в гастрономе из-за вялой морковки, затем вопли, оскорбления, эту сцену жители их городка до смерти своей не забудут. Пришлось потом ездить за две мили в другой супермаркет. От простого обсуждения конкретной проблемы Руби переходила к обобщенным заявлениям о жизни и устремлениях собеседника. «Соплежуи треклятые! Лицемеры! Зомби гастрономные!»
Его снова поманил нарост на шее. Если это не опухоль, можно ткнуть — ничего не будет. Нет другого способа проверить. Убедиться. Если опухоль, изуродованный кусок спинного мозга, — рубани чем-нибудь острым, и будет больно.
От души глотнул из бутыли — и вот уже стоит перед зеркалом, а в руке зазубренный ножик, оставшийся после ужина. Мелькнуло и пропало смутное подозрение, что придется об этом пожалеть. Чиркнул спичкой, прокалил лезвие, как мог. Потом медленно ввернул ножик в шишку. Больно, но если проткнуть кожу, всегда так. Когда добрался до шишки — а он вскоре почувствовал, что добрался, — ничего особенного. Просто боль. Нормальная, пленительная боль. Крови минимум. Промокнул ее полотенцем.
И что выяснилось? Это какая-то киста, в ней нет нервов. Она его не убьет. И он плохо простерилизовал ножик.
Это, пожалуй, проблема. Радуясь тем не менее своим хирургическим талантам, он вышел на балкон и глянул на шоссе, на крохотных туристов. За шоссе раскинулось Красное море — недвижное, обреченное. Саудовцы выпьют его до дна. В семидесятых выкачали несколько миллиардов галлонов — хотели опреснять и поливать свою капризную пшеницу; проект теперь заброшен. Теперь они это море пьют. Господи, что тут людям делать? Земля — как зверюга, стряхивает блох, если зарываются слишком глубоко, слишком больно кусают. Она вздрогнула — обрушились города; вздохнула — затоплены побережья. Нам здесь вообще не место.
«Милая Кит, главное — грамотное осознание своей роли в мире и истории. Если глубоко задуматься, поймешь, что ты ничто. Если задуматься как надо — поймешь, что ты мала, но для кого-то значима. На большее и надеяться нечего».
Ой-ёй. Вряд ли это ее вдохновит. Не надо бы такое записывать.
«Кит, ты упомянула, как мы забирали твою мать из тюрьмы. Я и не догадывался, что ты знаешь».
Она рассказала Кит про нетрезвое вождение.
«Тебе было всего шесть. Мы потом об этом не говорили. Да, ее задержали за вождение в нетрезвом виде. Ее нашли в машине — она врезалась в витрину и заснула. Не понимаю, откуда ты узнала. Это она тебе сказала?»
Вот от чего убегает Кит. От перегрузки. Мать облегчается на нее душой — постоянно и не фильтруя.
«Если да, то это она зря».
Когда позвонили, Алан спал. «Вы Алан Клей? Муж Руби?» Ее увезли в ньютонскую тюрьму. Что было делать? Посадил Кит в машину, поехал, забрал Руби, еще обдолбанную. Ну конечно, явился, сказала она ему. Будто упрекнуть хотела, унизить. «Привет, малышонок», — сказала она Кит и уснула по дороге домой.
«Милая Кит, разве плохо, что твоя мать — яркая женщина, а не предсказуемая…
Твоя мать — редкой породы. Яркая, стремительная…»
Можно подумать, спортивный автомобиль живописует. Хотят ли дети спортивный автомобиль вместо родителей? Нет. Дети хотят «хонду». Чтобы в любую погоду завелась.
«Кит, знаешь, в чем секрет отношений с родителями? Милосердие. Дети, становясь подростками, а потом взрослыми, разучиваются прощать. Недотягиваешь до идеала — значит, жалок. Дети — судьи ветхозаветного масштаба. Не прощают ошибок, словно каждая ошибка — нарушение договора о совершенстве. Но если дарить родителям такое же милосердие, такое же сочувствие, как прочим людям? Детям очень не хватает Иисуса».
Спина мокрая, на поясницу стекает ручеек. Глянул вверх, подумал о дожде. Потом сообразил. Кровь. Он забыл промыть и забинтовать разрез. Снова в номер, снял рубашку, покрутился перед зеркалом. Думал, будет хуже, однако всего-то три алые лозы проросли от загривка до поясницы. Вытер их другим полотенцем. Представил, как работники химчистки станут удалять пятна крови с белой рубашки. Не задавая вопросов.
У нас профсоюзов нету. У нас филиппинцы.
Пора освежить стакан. Никто Алана тут не увидит. Какое счастье, когда тебя не видят. Весь день среди молодежи, то и дело на виду, должен подавать пример — он же старше. Даже в ухе поковырять — задача, требующая немалой скорости и изящества. А сейчас он в номере. Никто не увидит, как он стирает кровь со спины. Никто не знает о его тайной хирургии, о многообразных его открытиях. Он обожает этот номер. Что, правда? Но ему и впрямь нравился номер — в доказательство он погладил стену.
Плеснул себе еще прозрачной жидкости в стакан. Не так уж много. Немного. Еще полбутылки осталось. Глотнул, решил, что это чудесно. Даже еще чудеснее. Какое блаженство — напиться. Ясно, в чем прелесть. Он подлил еще. Стекло суетливо тенькнуло по стеклу. Чашу оросила влага вседозволенности.
Встал. Номер зашатался. Тело онемело. Пол — как подвесной мост, изодранный и вертлявый. Сейчас стошнит? Нет-нет. Что саудовцы подумают, если сблевать в таком номере? Доковылял до постели, выпрямился, глянул в зеркало. Он улыбался. Чудесно. Как проснуться утром после ярких сновидений: весь день ощущение, будто совершил подвиг, весь день — заслуженный, необходимый отдых после приключения. Обогащение, удвоение жизни. Сейчас впечатление такое же. Словно он — уже не просто он. Словно он совершает подвиг. Чудесное продление дня, честное слово, улица пульсирует разноцветьем, пол качается в такт.
Стены — друзья. Что-то в этом есть — сидишь взаперти, пьешь в одиночестве. Что ж он раньше так не делал? А мог бы, никто бы и слова не сказал. Все это принадлежит ему. Эти кровати — его. И стол, и стены, и большая ванная с телефоном и биде. Он добрел до второй своей постели, оглядел пожитки: электробритва, путеводитель, скоросшиватели и папки, все разложено, все наготове.
Поглядел на подушки в изголовье. Вы, подумал, такие белые. Понравилось, захотелось, чтобы подушки тоже услышали.
— Вы такие белые, — сказал он. — И нечего на меня пялиться.
Осушил стакан, налил еще. Это приключение, подумал он. Самогон превратил меня в искателя приключений. Он наконец сообразил, отчего люди пьют в одиночестве, пьют больше, чем стоило бы в одиночестве пить. Еженощное приключение же! Вот теперь все понятно.
Надо позвонить Кит. Нет, не Кит. Но кому-нибудь надо. Взял телефон. Одно сообщение. Пришло за последний час. В Бостоне утро. Послушал голосовую почту. Сообщение от Эрика Ингвалла: «Привет, друг. На связь не выходишь — я так понимаю, все хорошо. Звякни завтра, если выпадет минутка. Отчитайся о прогрессе».
И от Кит: «Позвони мне. Ничего ужасного».
От этого еще острее захотелось ей позвонить, но, слушая ее голос, такой трезвый и тихий — она миниатюрная, а голос высокий, хотя всегда твердый, всегда ясный, — он сообразил, что хорошо поговорить не выйдет. Он устал, напился, он уже отчетливо понимал, что напился, нечего звонить дочери в таком состоянии, особенно если пытаешься ей внушить, что прекрасно способен ее обеспечить.
Он сел за стол и написал:
«Милая Кит, родительство — проверка на прочность. Нужна стойкость троеборца. Обычно говорят: время летит так быстро, они так быстро вырастают. Но я не помню, чтобы время летело быстро. Десять тысяч дней, Кит, и каждый день — казарменный порядок и артиллерийская точность. Ты никогда никуда не опаздывала — ни в школу, ни на занятия. Ты вдумайся! Изощреннейшая архитектура — каждый день завтраки-ужины, поездки, проверки, надуманные и навязанные правила, выпрошенное и дарованное сочувствие, накатившее и задавленное губительное раздражение. Я не говорю, что время шло медленно или затянулось. Я говорю, что оно не летело».
Придется, наверное, вычеркнуть. Как ни выражайся, складывается плохо. Но это правда. Воспитывать ребенка — как строить собор. Углов не срежешь.
«Я по-простому, ладно? Чтоб нам обоим было полегче. Я вот помню, как осознал, что мои родители — лицемеры, ничем не лучше прочих. Было мне восемнадцать. И потом меня от этой мысли перло. Но если вдуматься — что я узнал? Ну, понял, что иногда они врали. Что мама пила таблетки, а одно время, когда я был маленький, сидела на морфине. И я торжествовал. Думал, я — это они в идеале. Какой-то гитлерюгенд, да? Или красные кхмеры. Дети, гордясь собой и своей чистотой, расстреливают взрослых на рисовых полях».
Отложил ручку. Страницу толком не разглядеть.
Встал — и над головой закружился потолок. Упал на постель, посмотрел в стену. Недооценил самогон. Постиг его мощь — и все равно недооценил. Ханна, подумал, ах ты чертовка! Обожаю этот мир. И как сложили эту стену. Обожаю людей, которые ее сложили. Хорошие вещи они тут делают.
XVI
Алан открыл глаза. 10.08. Опять опоздал на автобус. Позвонит Юзефу.
Скинул ноги с постели, встал в темноте. За плотными шторами яркий день, это понятно, — слишком яркий, Алану там делать нечего. Ужасно болел загривок. Не забыть глянуть, когда пойдет в душ.
Постоял, отыскал зеркало над столом, посмотрел на себя. Не лицо, а катастрофа: щеки утопают в лишних подбородках, те не без шика утопают в рубашке.
Помыл голову, принял душ, размышляя: что это за человек, который пропускает автобус, и не единожды, а дважды за три дня? Что это за человек, который опять просыпается в десять, наверняка пропустив звонки на мобильный и стук в дверь.
И тут отчетливо вспомнил, как стучится женщина, зовет: «Алан? Алан?» Он рявкнул, отослал ее прочь — думал, горничная. А теперь сообразил: горничная вряд ли звала бы его по имени. Рейчел или Кейли, наверное. Точно, Рейчел. Вспомнил.
Вытерся, взял телефонную трубку. Гостиничный аппарат отключен. Это он когда успел? Прошедшую ночь помнил довольно отчетливо, но под конец рухнул с обрыва. Нашел выщербину на двери ванной, чуть выше пола. Ноутбук под кроватью. Вспышка ясности: может, номер обыскивали? Может, Ханна не зря беспокоится из-за тайной полиции? Здесь побывала шариатская гвардия. Подслушали их разговор и пришли на обыск, пока Алан спал. Нет. Начать с того, что самогон никуда не делся — полбутылки на месте.
Позвонил Юзефу:
— Вы свободны?
— Алан? Ну у вас и голосок. Вас что, побили?
— Отвезете меня в ЭГКА?
— Разумеется. Но не могу не спросить: вы нарочно пропускаете автобус, дабы пообщаться с Юзефом, вашим гидом и героем?
— Вы произносите очень много слов, — сказал Алан.
— Через двадцать минут подъеду.
Продел отяжелевшие руки в чистую рубашку — как будто замарал безупречно чистый хлопок. Когда застегивался, воротник поскреб по загривку — боль адская. Пошел в ванную, развернулся перед зеркалом, ничего не разглядел. Пришлось взять два зеркала, расположить стратегически — увидел какое-то огнестрельное ранение. Хотя нет, больше похоже, что его поела крыса, — крыса прогрызала нору в спине. В поле зрения вплыло туманное воспоминание: он что, правда ткнул ножом в шишку на шее? Это вообще возможно? И снова разразилась битва между ответственным «я», представшим ему с утра, тем «я», которое за огромные деньги вызывает водителя, чтобы прибыть к месту исполнения служебных обязанностей в будущем приморском городе, и «я», которое пьянствовало в гостиничном номере, пыряло ножиками фантомные опухоли, пинало двери и сочиняло письма, не пригодные к отправке. Которого из двух можно пустить в расход? Вопрос, как обычно, сводится к этому.
Поискал в ванной пластырь или антисептик. Ничего не нашел. Застегнул рубашку, понадеялся, что никто не заметит.
Сошел вниз. Сел в атриуме, заказал кофе. У стойки портье — электронное табло со списком гостиничных мероприятий текущего дня.
НОВЫЕ ЗАВТРА: Зал Медины
АРАБСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЕСУРСЫ: Бельэтаж
ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА: Зал «Хилтон»
УСПЕХ ШАГ ЗА ШАГОМ, ЧАСТЬ I: 10.00
УСПЕХ ШАГ ЗА ШАГОМ: ЧАСТЬ II: 11.00
Прямо здесь, в «Хилтоне», можно добиться успеха к полудню. И зачем тогда он тащится в шатер к морю?
Алан едва успел глотнуть кофе, и тут появился Юзеф:
— Алан.
Алан выдавил улыбку:
— Привет.
— На вид все еще хуже. Что с вами такое?
— Да всю ночь… — Алан осекся. Приятель приятелем, но неизвестно, что Юзеф думает про алкоголь. — Джетлаг просто. В жизни такого не бывало.
Юзеф ухмыльнулся:
— Я учился в Алабаме. Уж похмелье-то я способен узнать. Где бухло взяли?
— Я бы лучше не говорил.
Юзеф расхохотался:
— Лучше б не говорили? Думаете, это редкое сокровище? Нагадите поставщику?
— Смешно вам?
— Смешно.
— Я обещал.
— Не говорить?
— Я свое слово держу.
— О господи. Ладно. Но послушайте, вам необязательно тащиться в ЭГКА. Король сегодня не доедет. Он в Йемене. Сами гляньте.
Юзеф забрал у Алана газету и показал третью полосу: Абдалла на гудроне в йеменском аэропорту. Алану про это никто не обмолвился.
— Все равно надо ехать. Для порядка.
— А перекусить не хотите? Все равно опоздали.
Вышли из отеля. Алан страшился дневного света, но тот оказался рассеян, великодушен. Словно об Алане позаботились — словно небо и солнце готовы очистить его, смыть ночной кутеж.
Коридорный, великан с моржовыми усами, улыбался Юзефу.
— Салам, — сказал тот и пожал коридорному руку. Затем пояснил: — К отцу в лавку ходит. Покупает кучу сандалий.
Алан сел в машину, Юзеф принялся рыться под капотом. Алан вылез и пошел помочь.
— Вы чего ищете? Динамитную шашку?
— Даже не знаю, — сказал Юзеф. — Странные провода какие-нибудь?
Вообще-то Алан пошутил.
— Вы правда не знаете? — спросил он.
— Откуда мне знать? Мы с вами одни телесериалы смотрим.
Двое мужчин, в жизни не видавших бомбу, вместе уставились на двигатель, пытаясь ее отыскать.
— Я ничего не вижу, — сказал Алан.
— Я тоже.
Сели в машину. Юзеф сунул ключ в зажигание.
— Готовы?
— Не надо драм. Без вас хватает.
Юзеф повернул ключ. Мотор взревел. Сердце у Алана чуть не лопнуло.
Они отъехали, снова миновали саудовского солдата на «хаммере»: лицо в тени пляжного зонтика, ноги отмокают в детской ванночке.
— Так у вашего отца лавка?
— В старом городе. Сандалиями торгует.
— Погодите. Ваш отец продает обувь?
— Ага.
— Мой тоже. Ну надо же.
Алан глянул на Юзефа — ждал, пожалуй, что это розыгрыш. Слишком серьезное совпадение.
— Не верите? — спросил тот. — Я вас в лавку свожу. Я там все детство отпахал. Все пахали, никуда не денешься, — и братья мои, и я. Но у меня отец — тиран. Никого не слушает. Особенно меня. Я бы пользу мог принести, модернизировал бы лавку. А отец старый совсем. Ни о чем новом и слышать не хочет.
Все братья Юзефа нашли себе другие занятия. Один — врач в Иордании. Другой — имам в Эр-Рияде. Последний — в бахрейнском колледже.
Выехали на шоссе.
— А теперь анекдот, — сказал Юзеф. — На счастье.
— Это такой саудовский обычай?
— Не знаю. Я не в курсе наших обычаев. Наших якобы обычаев. Я даже не уверен, есть ли у нас обычаи.
— У меня сегодня туго с анекдотами, — сказал Алан.
Но потом вспомнил.
— Короче. Муж и жена готовятся ко сну. Жена стоит перед большим зеркалом, разглядывает себя. «Знаешь, — говорит, — милый, я смотрю в зеркало и вижу старуху. Лицо в морщинах, голова седая, плечи ссутулились. Ноги жирные, руки дряблые. — Поворачивается к мужу: — Утешь меня чем-нибудь, чтоб я себе хоть чуть-чуть нравилась». Он смотрит на нее внимательно, размышляет и тихо, задумчиво говорит: «Ну, со зрением у тебя все в порядке».
Юзеф громко расхохотался. Слишком громко.
— Пожалуйста, тише.
— Голова болит? Крутой у вас был сиддики.
— Что такое сиддики?
— Это значит «мой друг». То, что вы пили.
— Я все отрицаю.
— Алан, я же не гвардеец. И вы не первый бизнесмен, которого я вожу. Погодите-ка.
Впереди блокпост. Пара солдатиков на разделительной, тормозят проезжающих. На обочине патрульная машина, внутри еще трое в форме. Юзеф опустил стекло. Солдат пробубнил вопрос, Юзеф ответил, солдат махнул рукой. И все дела. Юзеф покатил дальше.
— И все? Проверить не хотел?
— Иногда хотят.
— Кого-то ищут?
— Наверное. Это все для галочки. Тут никто в армии служить не хочет. Если б можно было, нанимали бы филиппинцев каких-нибудь.
Выехали из города, очутились на пустынном шоссе. Мимо, расплескивая пыль, проехал грузовик с пальмами.
— Так вы хотите есть или не хотите? — спросил Юзеф.
— Я даже не знаю.
— Лучше сильно опоздать, чем немножко. Я в том году несколько недель возил одного техасца. Это он мне сказал. Если опоздаешь на полчаса, кажется, что нечаянно. А если на два — кажется, что так и надо.
Чуть дальше по шоссе Юзеф отыскал придорожный ресторан. Свернули. Ресторан на открытом воздухе — кабинки с низкими перегородками. Зашли — накатил запах рыбы. Воображая первую трапезу после попойки, Алан предвидел отнюдь не морских гадов. Скорее хлеб и бекон.
Юзеф подвел его к большой витрине — сотни рыб на льду.
Алана чуть не вырвало.
— Пожелания есть? — спросил Юзеф.
Что угодно, только не это. Уйти отсюда, съесть что-нибудь сухое. Крекеры, чипсы. Но воспитание обязывало есть, что дают.
— Что выберете, — сказал он.
— Две вот этих, — Юзеф кивнул на двух серебристо-розовых рыбин с фут длиной: — Называются наджель. Не знаю, как по-английски. — И сделал заказ.
Они сели снаружи — впрочем, там полагалось не сидеть. По обычаю полагалось прилечь на пол, опираясь на жесткую подушку.
На плечи и колени садились мухи. Алан отмахивался, но их упорство не ослабевало. Одна мысль о рыбной трапезе на улице в такую жару отбивала аппетит. Завопило животное — Алан обернулся. На перегородке обосновался кот — судя по морде, у него надвигался тысячелетний юбилей. На левом глазу бельмо, нижний зуб торчит перевернутым клыком. Непонятно, как это существо способно протянуть еще хотя бы день. Юзеф рявкнул на метрдотеля, тот явился с метелкой, шуганул кота через соседнюю перегородку и в переулок.
У Юзефа затрясся телефон. Заработали большие пальцы.
— Подруга моя, — пояснил он.
Алан запутался в его женщинах, о чем и сообщил.
— Сейчас объясню, — сказал Юзеф.
Он был помолвлен с Аминой — знал ее еще девочкой. Когда они объявили о намерениях ее родителям, ее отец отказал. К Юзефу были серьезные претензии: семья у него бедуинская, а для некоторых саудовских аристократов это за гранью дозволенного. Думают, мы дикари, пояснил Юзеф. Его отец — лавочник, из деревни, образования никакого. И неважно, что он преуспел, заработал миллионы динаров, отметил Юзеф, в родной деревне выстроил большую резиденцию, целую гору для этого срыл.
— И что — конец?
В голове у Алана заклубились возможности: а нельзя было эмигрировать? Сбежать и пожениться тайно?
— А что тут сделаешь? Но это не страшно. Я теперь о ней не так часто вспоминаю. А родители мне другую нашли.
Эта другая, Джамиля, была шикарна, сказал Юзеф, он в жизни таких красавиц не встречал, а тут вдруг ему ее подарили. Поженились несколько месяцев спустя, но хотя он любил смотреть на нее, глядеть, как она двигается, они совершенно друг другу не подходили.
— Тупая коза.
Спустя год развелись, и он опять стал холостяком.
— У меня с женщинами сплошные драмы. Но с Нур все иначе.