Империя «попаданца». «Победой прославлено имя твое!» Романов Герман
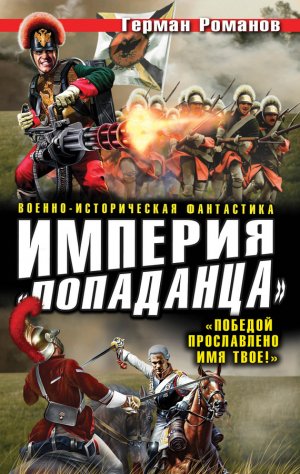
– Государь, а почему вы вино с водкой отставили?!
– Дитя надо зачинать без этой гадости, чтоб здоровым в твоем чреве росло, – он просто не любил спиртное, тем более крепкое, но правду говорить не хотелось, а момент был удачный – похотливый зверь уже стал во весь рост и пытался скинуть тарелку с колен.
И Петр сразу же приступил к делу, вернее, к телу. Поднос с тарелками улетел на пол, а он, положив Лизу на кровать, взгромоздился сверху. Девушка застонала, но уже не от возбуждения, а от сильной боли.
Рык отшатнулся, кляня себя за поспешность, а девушка спрыгнула с кровати. Петр подумал, что она хочет убежать из комнаты, но ошибся. Лиза набрала в пальцы масла с тарелки, присела и стала смазывать себе промежность. Затем снова легла на кровать и широко раздвинула ноги.
– Простите меня, государь, очень больно было, я же сухая там вся. А так я маслицем смазала все, и вам, и мне легче сейчас будет.
– Нет, Лизонька, давай прервемся, – а про себя добавил: «А то я тебе все раздеру, ни один доктор не зашьет».
Петр искренне пожалел девушку, действительно, видимо, перестарался. Однако девичья рука принялась ласкать достоинство, а голосок зашептал в ухо:
– Мне одна фрейлина рассказала про забавный «французский поцелуй», и я попробую ваше величество таким способом ублаготворить. Я не умею, но буду стараться.
И через несколько секунд Петр понял, что такое «французский поцелуй». Лиза делала ему классический вариант оральных премудростей любви, компенсируя неумелость страстностью.
Петр такой способ видел только в порнофильмах, а сейчас впервые испытал на себе. Подавив инстинктивное опасение за немаловажную часть тела, Петр положил руку ей на голову и закрыл глаза. Он отключился от происходящей вокруг действительности, волнами его возносило к блаженству, подняло на немыслимую высоту, с которой он рухнул в сладкое беспамятство…
Петр открыл глаза. Дурманящее наваждение еще витало в воздухе.
– Приснится же такое! – Он потихоньку приходил в себя. – Куда ночь, туда и сон!
Это нехитрое, но крепко забитое в память правило он знал уже давно и испытал его правоту на себе не раз. Так же как и то, что нельзя рассказывать сны до обеда, иначе они непременно сбудутся. Полагалось еще куда-то там поплевать, постучать, в общем, полный набор для любителей фольклорного творчества.
Однако сейчас у него были тяжкие сомнения насчет того, куда нужно было плевать, и какие вообще правила и приметы он нарушил, попав туда, как говорится, не знаю куда.
Окружающая его обстановка так и не давала до конца понять – явь это или нет. Правда, его нынешняя явь мало чем отличалась от ночного кошмара. Нелепый сон (или все-таки полноценное психическое расстройство?) все еще продолжался.
Что-то горячее обжигало тело, Петр пошевелился и от этого проснулся окончательно. Лиза лежала рядом с ним, положив свою ногу ему на живот, а голову на плечо, и при этом ухитрилась крепко обхватить его сразу обеими руками.
«Без меня меня женили. – Он потянулся насколько смог в крепких объятиях Лизы. – Вообще-то при свечах и со спины очень даже она и ничего! Но вот на мордахе черти горох молотили…»
Можно было вздремнуть еще, но спать решительно расхотелось. Петр машинально разглядывал балдахин, стены, портьеры. Он бросил взгляд на часы – они отсчитали почти без четверти двенадцать.
Ужин закончился в начале одиннадцатого, а угомонились они где-то в половину, значит, спал с лишним час. Мало для полноценного сна, но ему хватило с избытком – Петр чувствовал себя полностью отдохнувшим. Правда, его «орган» немного побаливал, натруженный – Петр благодарно посмотрел на спящую Лизоньку.
«Вечно мне с бабами не везет: то я не такой, то она не такая. Хотя, в принципе, что я теряю… Она, по-видимому, или очень меня любит, или принимает за кого-то другого. Скорее первое… М-да, то есть любит она того, за кого меня принимает… Повезло же тогда ему… или мне… – Петр посмотрел на Лизу. – Она, конечно, не принцесса, но красивая женщина – это чужая женщина. Тем более красота часто требует жертв, а этих жертв тем больше, чем красивше мамзель. Рестораны, подарки, машины, квартиры, круизы за бугор – это все расплата за длинные ноги. А между тех ног то же самое, что и у доярки Дуси, да и в голове у доярки Дуси чаще бывает больше. Ладно, поживем – увидим…»
Очень хотелось в туалет, и он осторожно, стараясь не разбудить свою нечаянную любовь, освободился от ее объятий и встал с постели. Повинуясь какому-то наитию, Петр приподнял край простыни. Так и есть, под кроватью стоял массивный медный ночной горшок с крышкой. Облегчившись, он закрыл его крышкой и засунул посудину обратно.
Рука машинально было потянулась за сигаретой, но отдернулась.
– Ага, размечтался, – он вздохнул, – просил вторую серию, так получил, только сигареты не заказывал…
Снова нырнув под одеяло, Петр задумался, но мысли текли медленно, голова думать не хотела. Вернее, мысли были, но существовали как будто отдельно от него самого.
Поражала оглушающая тишина. Никаких звуков, ставших привычным фоном ночи: ни храпа соседей по комнате, ни шума работающего холодильника, ни шлепанья чьих-то тапок по коридору, ни звона трамваев и шелеста проезжавших запоздалых машин…
Ничего, только тиканье дурацких «курантов», хотя он его уже не замечал, вернее, слышал, только если специально прислушивался. Ведь привык же он не замечать в общаге заходившие на посадку самолеты, порой ревевшие так, что заглушали разговор.
Звук мощных двигателей, от которых порой дребезжали стекла, являлся своеобразной палочкой-выручалочкой. Это было очень удобно в разговоре с женщинами, особенно с той их категорией, которая имела обыкновение задавать извечные бабские вопросы. Пока шумит, что-то говоришь, а она слушает и кивает, или же ты слушаешь и киваешь, как китайский болванчик.
На эти идиотские вопросы требовались не менее идиотские ответы, правда, желательно было произносить их с вдохновенным и честным до невозможности выражением лица. Примерно таким же, как у их комсомольского секретаря Любочки, с щенячьим восторгом докладывавшей краткий, страниц на двадцать-тридцать, реферат тезисов очередного съезда партии.
Образ Любочки, этого «переходящего комсомольского вымпела», по той причине, что переходила она от одного комсомольца к другому со скоростью приза победителям соцсоревнований, испортил ему настроение.
Большая часть познанных им женщин, баб-с, привела его к неутешительной мысли о том, что женщина, во-первых, должна лежать, а во-вторых, лежать молча.
Лиза засопела и повернулась на бок. Такая нежная и беззащитная, она свернулась клубочком, как котенок, и во сне тихо причмокивала. Ему захотелось ее обнять, защитить от всех и вся, быть только с ней, чтобы все осталось так, как есть сейчас: и эта комната, и это блаженное чувство какой-то умиротворенности и внутреннего спокойствия, охватившее его.
Вернее, не всего его, а ту его часть, которая вдруг остро ощутила, что он попал туда, куда очень хотел попасть. Как будто долго шел, искал и вдруг, внезапно остановившись, понял – да, это именно то, что как раз ему и нужно.
Часы щелкнули и пробили двенадцать раз…
– Хоть бы этот сон, или что там еще, не заканчивался, – зажмурившись, он до боли стиснул кулаки.
Взяв с подноса графин, налил себе воды, выпил и снова лег в кровать. Под теплым одеялом долго ворочаться не пришлось, дремота, а затем глубокий сон навалились на него почти мгновенно…
День второй
28 июня 1762 года
Ораниенбаум
Яркий, ослепительный свет ударил по глазам. Зажмурившись, Петр услышал непонятный нарастающий гул. Через мгновение он узнал голоса церковных колоколов. Сквозь переливы маленьких особенно выделялся большой, набатный колокол. Его оглушающий звон отзывался в голове, заставляя вибрировать каждую клеточку тела.
Колокола пели, растворяя его в себе, унося за собой. Закрыв глаза, он ощутил, что теплый душистый весенний ветерок, подхватив, влечет его вслед за этим колокольным маревом.
Над ним проплывало прозрачное голубоватое весеннее небо, подернутое чуть игривыми облачками, на мгновение скрывавшими начинающее набирать жизненную силу солнышко, а потом уносившимися вдаль за горизонт.
Вместе с этими облачками он легко парил над землей, всей душой вбирая в себя ее дыхание, прислушиваясь к шепоту дрожащих веточек берез с влажными, чуть распустившимися нежными листочками, узнавая себя в журчании прыгающих по камешкам ручейков, взмывая ввысь вслед за птичьими трелями, пропитываясь теплым паром не успевшей остыть пашни…
Родная земля, как нежная и любящая мать, ласкала его, даря ему свое тепло и силу. На мгновение Петр ощутил себя частью необъятного. Ощущение причастности к чему-то необъяснимо могучему и волнующему захлестнуло его. Острая потребность защитить и уберечь это нечто, сильное и безжалостное, как порыв ветра, с корнем выворачивающий вековые деревья, и в то же время хрупкое и ранимое, как ночная бабочка, как распускающийся бутон, затмила все его мысли и чувства.
Ему стало легко и спокойно от того, что он нашел наконец тот смысл, ту цель, которые он так долго, даже не осознавая для себя самого, искал. Словно кто-то невидимый стряхнул с его души всю накипь, переворошил всю начинку, укрепил стержень. Тот незримый стержень, на который нанизываются нравственные и моральные ценности души, поступки, мысли и устремления. И от того, насколько он крепок, а зачастую, есть ли он вообще, зависит многое: и то, как человек проживет свою жизнь, и то, что он оставит после себя.
Внезапно колокола стихли. Петр открыл глаза и увидел храм – огромный, заслоняющий все перед ним, прекрасный и белоснежный, на мгновение скрывший солнце, клонящееся к закату. Выглянув вновь, оно нестерпимо заискрило, заблистало на золоте куполов, поглотив в раскаленном золоте небо, землю, самого Петра.
Медленно садясь, солнце забирало с собой за горизонт краски окружающего мира. В сгущавшихся сумерках Петр разглядел два силуэта, вышедшие из темноты, но находившиеся еще достаточно далеко от него, так что нельзя было разобрать их лица. Один, высокого роста, опирался на трость, второй, чуть пониже, стоял справа за его спиной.
Они, судя по жестам, о чем-то переговаривались, и Петр вдруг ощутил, что говорили о нем. Медленно Рык пошел вперед.
– Это он, уверяю тебя, мин херц, – второй, что был ростом пониже, в пышном завитом парике, в дорогой одежде, переливавшейся золотым шитьем и драгоценными камнями, напомнившей Петру новогоднюю елку, вполголоса сказал первому: – Приглядись внимательней!
– Подойди ближе! – первый, по-прежнему опираясь на трость, упер другую руку в бок и выставил вперед ногу.
Он говорил негромко, но в его голосе чувствовалась властность знающего себе цену человека, говорящего немного, но уверенного в каждом своем слове. Что-то неуловимо знакомое было в его облике, словно он сошел с памятника или старинной гравюры, неоднократно виденной Петром ранее.
Рык почувствовал себя, как те бедолаги бандерлоги перед Каа, охваченные священным трепетом. Медленно он подошел к странной парочке. Уже можно было разглядеть лица, и он, к вящему своему ужасу, понял, что стоявший с тростью есть не кто иной, как… Петр Первый.
Кошачьи усики, стоявшие торчком, вьющиеся короткие волосы, зачесанные со лба, одежда с оловянными затертыми пуговицами, башмаки с простыми пряжками, огромная трость с медным набалдашником не оставляли у него никаких сомнений.
– Алексашка, друг мой, если это и есть мой нерадивый потомок, то я сейчас его научу уму-разуму! – Петр Первый, размахивая тростью, подошел к Рыку и схватил его за грудки. – Ты пошто паскудишься, почему труса празднуешь и бабья сторонишься?!! Кто наследником будет, кто трон российский после тебя примет?!! Салтыковский ублюдок?! – яростно закричал он ему в лицо, почти подняв Рыка над землей.
– Я… я не тот, за кого вы меня принимаете… – почти проблеял Петр, округлившимися глазами глядя в лицо императора.
– Ах, ты еще и лжешь деду своему в глаза! – Оплеухи одна за одной летели, щедро отпускаемые пудовыми ладонями. – Ах ты, выкормыш, щучий потрох, да я тебя…
Выдохнувшись, Петр Первый отпустил Рыка. Тот, закрывая руками разбитое лицо, попятился.
– Ты слишком суров к нему, ваше императорское величество! – Подошедший Алексашка стоял около Петра Первого, с интересом разглядывая Рыка, сидевшего на земле. – Что возьмешь с убогого? Да он на лошади сидит, как собака на заборе, от пушечных залпов так вообще едва штаны не мочит, а на море же блюет, как обрюхатившаяся фрейлина.
– Ты говори, да не заговаривайся! Когда это наша кровь убогих рождала? Дух мой не вытравишь, чужой кровью не разбавишь!
– Мыслю я, что немчура поганая его учила, да не так и не тому.
– Этому учить не надо, это впитывается с молоком матери.
– Вы же прекрасно знаете, что мать его, дочь ваша Анна, умерла, когда ему было два месяца…
До Петра потихоньку начало доходить, что этот второй был Меншиковым, верным соратником Петра Великого.
– Ну, сейчас я сиротку и привечу знанием да умением, накрепко вобью! – Петр Первый наотмашь ударил Рыка тростью по голове.
Боль от удара заполнила его разум, так что все остальное он осознавал с трудом. Последние слова Петра Первого доносились уже сквозь туман, плотно окутавший Рыка…
– Уййй!!! – осознав себя уже наяву, Петр чувствовал, как дикая боль плещется в голове.
Матерясь вполголоса, он схватил край одеяла и стал вытирать лицо. Ткань окрасилась кровью, его кровью.
– Да что же это такое?! – Рык с трудом сполз с кровати и плюхнулся на пол. Кровь с разбитого лица заливала рубашку и ковер.
– Ни хрена себе император?! Смертным боем лупцует! – Петр пребывал в прострации. – Во сне, а все наяву. Бес он, а не дедушка. Оживший кошмар…
Ковыляя и тихо ругаясь про себя, Петр подошел к столику, приложил салфетку к рассеченной брови и щедро плесканул на лицо из графина. От холодной воды стало полегче.
Отставленную за ужином водку, примерно половину от налитого, грамм сто пятьдесят, Рык махом вылил в рот в качестве обезболивающего. Скривился гримасой от сивушного омерзения, хоть и хороша была водка, торопливо закусил пластинкой ветчины.
Перевязав кое-как лоб, он стал оттирать руки от крови другой салфеткой, предварительно плеснув на нее остатками водки из бокала.
Руки?! Он только сейчас, вытирая с них кровь, разглядел то, на что раньше в сумрачном свете свечей не обратил внимания. Еще бы, события вчерашнего вечера и то, насколько он был увлечен Лизой, не оставили времени на разглядывание себя самого, любимого. Руки-ноги двигались, что надо шевелилось – и ладно, а что еще нужно молодому парню в компании с дамой, да в постели, да с закуской. Как говорится, ближе к телу!
Только сейчас он понял, что его руки были не е г о, они были чужими – тонкие пальцы без мозолей, суставы без набитостей от занятий рукопашным боем, довольно холеные ладошки. Совсем не его руки. Пальцы машинально почесали в паху… и тут же отдернулись. Петр посмотрел вниз, – твою мать, и там тоже не мое!
«И ты будешь, и не ты!..» – замерев на секунду, он вспомнил сумбурное пророчество, мгновенно пронесшееся в его мозгу, и, повинуясь порыву, кинулся к окну. Стекло отсвечивало, и Рык увидел в нем свое отражение, но, когда разглядел себя, отшатнулся.
Петр бросился к часам, вернее, к полированной стенной бронзовой пластине рядом, сняв на ходу шандал со свечами, и заглянул, как в зеркало.
На него смотрело совершенно незнакомое лицо – небольшое овальное личико мужчины лет тридцати, курносый вздернутый носик, узкие, но хорошо очерченные губы, подбородок с ямочкой. И лицо все в оспинах, будто после Лизы черти немало выпили и с утроенной энергией принялись за него.
– Мать моя женщина, только этого не хватало! – Петр ощупывал свое лицо, но и без этого было понятно, что это кто угодно, только не он сам.
Беглый осмотр привел к неутешительным выводам: нет, точно не он. Шрам на щеке исчез, язык констатировал, что два выбитых в армии зуба присутствуют в целости.
«Но почему же я раньше не заметил, не обратил внимания?» – пронеслось мгновенно в голове.
Он, как зверь в клетке, заметался по комнате, меряя ее шагами от стены до стены:
– Как же: баба, жрачка, негр в панталонах… Господи, воистину, когда желаешь нас наказать, ты лишаешь нас разума и делаешь слепыми…
Спустя минуту, изучив свое тело самым внимательным образом, Рык пришел к одному четкому выводу – у него совершенно чужая оболочка, причем меньшая по размерам! Намного меньшая!
Петр чувствовал, что сходит с ума. Прислонившись к стене спиной, он сполз вниз и сел на пол, обхватив руками голову.
Мысли проносились роем растревоженных пчел и спустя добрых полчаса сплелись в определенную версию. Душа есть у каждого человека, а все эти материалисты-философы суть выкидыши науки. В Бога веровать надо! И теперь его душа переселилась в чужое тело! Какой же он глупец, что не понял этого прежде! А Лиза просто не осознала, что в теле ее любимого чужая душа. Но как он сюда попал? Можно ли вернуться назад, в свое тело, а если нельзя, то кто он? И как дальше жить?
…Мучительно хотелось курить. За окном стало совсем светло, почти пять часов утра. Голова жутко раскалывалась от напряженной работы мысли. За это время он понял многое, или думал, что понял.
Петр посчитал, что тогда, сорвавшись с трубы, он или погиб, или надолго лишился сознания. И в этот момент душа освободилась от тела и каким-то образом переселилась в это новое для него тело. А душа прежнего хозяина, видимо, совершила примерно такой же процесс.
Петр напрягся, ведь Лиза что-то ему говорила. Теперь он вспомнил ее слова и тщательно их проанализировал, получив примерно такую информацию – предшествующий хозяин тела, «государь», упал вчера утром с лошади и надолго потерял сознание. Именно в этот момент их души и поменялись местами, причем ухитрились миновать временные рамки восемнадцатого и двадцатого веков.
Каким образом это получилось – совершенно не понятно. Выйти из тела можно. Потерять сознание? Умереть? Вопрос только – вернешься ли в свое тело обратно? Положительный результат более чем сомнителен, его вероятность ничтожно мала. Осталось только понять, кто он и как дальше жить в чужом обличье.
Через минуту Рыков был охвачен не страхом, а диким ужасом. Проклятая ведьма, она ведала, куда он попадет.
– О Боже… – простонал Петр, – вот я попал так попал. Злейшему врагу не пожелаешь. Получается, что я… Я-я, кукушка из часов «Заря»… Добрый дедушка в компании с Меншиковым приснился и надавал вполне реальных звиздюлей… Нет, если тетушка императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, то понятно, почему все обращаются ко мне – «ваше величество». Ибо он, то есть я, внук Петра Первого, Петр Федорович, император Всероссийский и по совместительству герцог Голштинский…
– Офигеть! – Петр нервно сглотнул.
Во рту пересохло, и хотелось пить. Взял со стола тяжелый стеклянный графин с остатками воды, открыл и в три глотка осушил его. Затем подошел к окну, отдернул портьеру и прислонился лбом к стеклу.
Приятная прохлада немного привела его в себя. Машинально рассматривая утопающий в сумеречном утреннем тумане двор, он продолжал:
– Вот почему я стал понимать немецкий язык – его знания же остались в мозгу, и я ими как-то смог воспользоваться! Я думаю, и сейчас во мне они есть, куда им деться, и не мешало бы мне научиться пользоваться. Ага, щас, а на фига мне это надо?!! С ума сойти, – он закрыл глаза, – я уже о себе думаю как о нем, какая тетушка, какой государь?! Самое чудовищное, что скоро его… То есть меня?… Гвардейцы по приказу Екатерины Второй грохнули императора, ее мужа. Несварение желудка от воткнутой серебряной вилки и астма от удушения шарфиком… Какой сегодня день? Может, уже сегодня?… Надо бежать! Но куда?! Нет, поздно, я просто уже ничего не успею! Стоп! Что она там говорила? Безумная ночь, и будет пять дней заката… Права ведьма – жить в липком ужасе ожидания мучительной смерти от рук гвардейцев. И это после безумной ночи, такой ночи, какой у меня никогда не было и о какой я не думал. Оживший кошмар! Вот дурацкое совпадение, я ведь тоже Петр… Может, приложиться еще раз головой обо что-нибудь, да хоть вниз из окна…
Только что-то это ему сразу же расхотелось. Рассчитывать на то, что все вернется на круги своя, приходилось мало, могло ведь забросить куда-нибудь подальше и похуже. Только куда уж хуже…
Он напряг память и чуть не заплакал. В учебниках о Петре Федоровиче писали до обидного мало – типа «голштинский выродок», «пьяница на троне», «Петрушка» и тому подобное.
Вся его куцая информация об этом времени базировалась на романах «Фаворит» Пикуля (однажды он проглотил за одну ночь в общаге в «Роман-газете», которую презентовал на одни сутки добычливый на книги сокурсник) и «Емельян Пугачев» Шишкова да на мемуарах императрицы Екатерины, Якова Штелина и Болотова, которые он прочитал (и уже основательно подзабыл), готовясь к семинарским занятиям.
Лиза, которая сейчас похрапывает в кровати, это графиня Елизавета Романовна Воронцова, его любовница. Нарцисс – любимый арап. Сучка Като – это жена, императрица Екатерина Алексеевна, которая и прикажет своим холуям и гвардейцам его задушить в Ропше.
А капитан Пассек много знал о заговоре, а так как он арестован, то амба, конец близок, к гадалке не ходи. Ибо заговорщики сразу же восстали, боясь провала и арестов, и возбудили к мятежу войска. Вот и вся пока информация.
Кто же сейчас со мною? Есть еще Гудович, его генерал-адъютант, Шишков писал, что он вороном каркал, отец Лизы, граф Роман Воронцов, отчества его не помню, еще два немецких дяди, имена тоже не помню, и все… Все!
Петр вытирал со лба холодный пот – он теперь кое-что понимал. Пассека арестовали 27 июня 1762 года. Братья Орловы и другие заговорщики подняли на мятеж всю гвардию. Екатерина уже уехала из Петергофа, куда Петр собрался завтра ехать, и сейчас на дороге в Петербург.
К полудню сегодняшнего дня, 28 июня, ей присягнут в столице гвардия, Сенат, духовенство. И она вечером двинет полки на Петергоф. А меня предадут. Все предадут и сдадут, а 5 июля задушат. Полный капец!!! Всего восемь дней! И что делать, я же никого не знаю, ничего не знаю!
Громкий храп, раздавшийся с кровати, заставил его отвлечься от мыслей. Лиза, повернувшись на спину, сбросила с себя одеяло и жутко храпела, как пьяный мужик в канаве. Более того, она вдруг оглушительно выпустила газы, пробормотала что-то во сне и перевернулась на бок.
Через мгновение, устраиваясь поудобнее, она вновь повернулась на спину. Ее рыхлое тело колыхалось студнем, закинутая за голову рука обнажила волосатую заросшую подмышку. И будто пелена упала с глаз…
– А поутру они проснулись… Где же он такое убожество откопал? А морда, что ее, что моя – это же следы от оспы… Да если ты император, то все бабы вообще твои! Я, когда читал описание Воронцовой, думал еще, что Екатерина по бабской подлости специально такое понаписала, мол, пугало и манеры, как у трактирщицы. Видать, все же честная баба была! Но она же и о Петре писала, что тот выродок и дурак… Я ее понимаю, поменять законную жену на любовницу можно, если жена или дура, или старая уродина. Или любовница – красавица. Но эта? – Он взглянул на спящую Лизу.
– Как же, наследника Павла мне жена заделала! Но там, видимо, дело темное. Лизка-то ночью мне сказала, а я и не понял сразу! Я вчера смог поиметь ее физиологически, то есть все это время… Видать, совсем не стоял у парня, раз вчера первый раз по-настоящему было, поэтому и разговорчики ходили про Павла, и Екатерина с недогляду мужского так взбесилась. Видимо, я хорошо головой приложился, раз вчера на нее так сгоряча кинулся! Ага, понятно, я вчера глядел на нее его ж глазами-то! Да уж, воистину, на вкус и цвет товарищей нет! Но какая же сама Екатерина, если такое чудо-юдо лежит в постели? Жена на год его моложе, то есть ей сейчас, если с 1729-го считать, 33 года. И в постели, видать, ничего, раз ее любовников повзводно строить можно. Да уж, без бутылки не разберешься.
Но то, что у его нового тела нет обрезания, сильно озадачило Петра – в исторической литературе твердилось, что император страдал фимозом и потому девять лет не имел соитий с женой, и лишь когда ему удалили крайнюю плоть, то вскоре появился наследник Павел.
Сам Рык в это почти не верил – у французского короля Людовика, под двузначным номером, с женой Марией-Антуанеттой тоже была такая же проблема с фимозом, но лекари там быстро отчикали лишнее, и все заладилось. А здесь Россия – обрезание у мусульман общепринято, и целых девять лет никто бы и ждать не стал, разом бы суннат совершили.
Следовательно, у императора Петра Федоровича была обычная импотенция. По всей видимости, от перенесенной им оспы – болезнь эта довольно коварная, осложнения от нее бывают серьезные. А байка с фимозом была придумана позднее, чтобы оправдать рождение Павла Петровича и придать наследнику определенную законность и легитимность…
– Однако стояк у меня, то есть у него, был впервые, недаром она аж завизжала от радости. – Рык покосился на храпящую Лизу. – Остается только понять, почему это случилось? Видимо, моя душа дала толчок его телу, а так как я кобелировал изрядно и осложнений на этой почве никогда не имел, то и «орган» прекратил длительную забастовку и соответственно отреагировал! Тьфу ты, ну и голосок у этой спящей красавицы! – Лиза продолжала оглушительно храпеть, и Петр присел на другой край кровати:
– Меня дедушка изнахратил, а она спит. Чувырло! Не дай Бог, она забеременеет этой ночью! Мне что, придется всю жизнь это чучело терпеть?
И тут же сам горько усмехнулся своим мыслям:
– Всю жизнь… Намеряно мне сейчас той жизни вагон и тележка, семь дней от звонка до звонка… Только почему-то ведьма мне сказала про пять снов и закатов! Один черт, куда ни кинь, всюду клин… Только не на того напали! Чтобы я сейчас лужу напустил и, как баран на бойне, ждал своих убивцев? Ничего, пободаемся! – теперь уже в полный голос засмеялся он. – Благо ему, сиречь мне теперь, есть чем бодаться. Дражайшая супружница таких рогов понаставила, что олени от зависти сдохнут! Да я им сам кровя пущу, донской казак я, хоть только и по бате, или хрен собачий?!
Петр медленно подошел к двери, пнул ногой створки и решительно шагнул в открывшийся проем. Большой зал занимал центр дома. Вверху – внушительных размеров люстра с незажженными свечами, всё в лепнине и позолоте, тускло мерцающей в отблесках пламени нескольких свечей, поставленных в шандалах вдоль высоких стен. Паркетный пол был холодным и скользким, Петр чуть не поскользнулся, но успел окинуть полутемный зал взглядом.
Четыре резные двери ведут в комнаты, судя по всему. В трех срезанных углах диванчики у окон, в дальнем левом углу широкая лестница на первый этаж. Большие золоченые часы и несколько шкафов, подобных тому, который стоял в комнате, тройка диванов, несколько столов, с дюжину мягких кресел.
В одном из них блаженно спал кто-то в ливрее – то ли лакей, то ли его камердинер. В другом кресле дремал офицер, в парике, галунах, при шпаге. Хорошая реакция у мужика, уже вскочил с кресла. У дверей напротив прохаживается еще один офицер, также нарядно одетый, в шляпе и при шпаге.
Увидев абсолютно голого Петра с кровоточащей раной на голове, оба офицера сделали правильный в такой обстановке вывод. Первый из них, здоровый и усатый, моментально вклинился между Петром и открытой дверью, крепко ухватился узловатыми пальцами за эфес палаша. Второй офицер, малый ростом, смахивающий лицом на Геббельса, уже обнажил шпагу, стремительно выхватив клинок из ножен, и попытался ворваться в комнату. Петр его остановил, жестко схватив за плечо:
– Тихо, мои верные голштинцы! Все в порядке. Да стой же! Довольно! – окрик Рыка остановил лакея, который уже раззявил рот для крика. «И слава богу, а то такой шухер поднялся бы, всех бы разбудили».
И только тут до Петра дошло, что он, не прикладывая никаких специальных усилий, говорит по-немецки, так как в русском языке просто нет слов «хальт», «орднунг» или «генуг». Необходимые слова сами складывались в нужные фразы незнакомого языка.
Петр кивнул на дверь, и усатый голштинец, спокойствия душевного ради, зашел в комнату. Через минуту офицер вышел, даже в свечном сумраке было видно его побледневшее лицо – в руках он держал тяжелую трость с набалдашником.
– Откуда это, ваше величество?!
– Дедушка явился! Отделал внука, как Бог черепаху! Отнеси его подарок в комнату, – Петр криво улыбнулся.
Только теперь он окончательно понял, что никакая это не ночная мистификация, а есть явления, разуму не подвластные. Очевидное – невероятное. Мистика!
Офицер ему почтительно поклонился и отнес трость в комнату, тут же из нее вышел, осторожно закрыв за собой дубовые створки. Лицо было вытянуто от растерянности и непонимания. На лбу собрались полосками морщины – события явно были неподвластны тевтонскому разумению.
– Прикажете вызвать лейб-медика, ваше величество? – тихо то ли сказал, то ли спросил «Геббельс», вкладывая шпагу в ножны.
– Да ну его, пусть клизмы фрейлинам ставит. А мы с вами старые солдаты, сами справимся, – ответил Петр, причем снова на немецком.
И сам удивился, у него это выходило непроизвольно, автоматически. Мысль ведь была на чистом русском, а вот язык сам выдавал уже онемеченный вариант.
Усатый наложил повязку мастерски, использовав длинную белую холстину, поданную ему другим офицером. Затем лакей сбегал в дверь направо, и спустя минуту оттуда выбежал заспанный арап с ворохом одежды и тут же при помощи «Геббельса» начал облачать Рыка.
Одежда для императора была заранее подготовлена чернокожим камердинером и лежала в той же комнате, судя по всему – камердинерской.
Вначале на Петра натянули короткие кружевные панталончики и стянули пояс завязками на бедрах. Затем облачили в такую же кружевную белоснежную рубаху.
И тут последовала длительная остановка. Сержант узрел подставку с трубками и сделал правильный вывод об их предназначении. Нарцисс облегченно вздохнул, увидев повелительный жест господина, прытью подкурил одну из заранее набитых трубок и сунул длинный мундштук в губы Петра. Видать, бедный арап сгоряча решил, что вместе с тотальным запретом на алкоголь, совершенно необъяснимым, «его величество» заодно отменит и свой любимый табак. А такое новое поведение шефа сильно удивляло Нарцисса, на милой черной морде большими буквами было написано.
Первая затяжка была сладостна, хотя Петр никогда не курил натощак, да и старался курить поменьше – пачки его любимых папирос «Герцеговина Флор» хватало на два-три дня.
Внезапно он почувствовал сильное облегчение, все печали и беды последнего часа отхлынули, а потом и вовсе сгинули. Табак дал расслабуху и успокоение, и, выкурив одну трубку, он без перерыва потребовал другую. Стало совсем хорошо, перед глазами поплыли стены и заколыхался потолок, мозг обволокло туманом, и Петр рухнул в спасительное беспамятство…
Петергоф
– Ваше величество, у нас все готово к выступлению. – Молодой, рослый и красивый офицер в форме Конной лейб-гвардии сидел на подоконнике у открытого настежь высокого окна. – Уже пять часов утра, карета у дворца. Пора ехать, государыня, измайловцы уже начали.
Женщина лет тридцати трех, старше его возрастом, была одета в нарядный, с золотыми позументами и галунами, форменный мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка.
Почти – в данный момент времени ее камер-фрейлина Екатерина Шаргородская надевала через правое плечо голубую Андреевскую орденскую ленту, а доверенный камердинер Шкурин ловко обувал правую ножку в специально пошитый армейский башмак с золотой пряжкой.
Общими усилиями женщину окончательно одели, и она слегка притопнула ножками, проверяя, а ладно ли сидят на них тяжелые армейские башмачки.
– Алексей, милый мой друг, – с чувствительным немецким акцентом произнесла женщина, – я готова к поездке.
Она подошла к раскрытому окну и чуть прикоснулась губами к изуродованной шрамом щеке гвардейского офицера. Алексей же подхватил женщину своими мощными и крепкими руками, способными с легкостью согнуть железный лом в замысловатый морской узел, и легко спрыгнул с ней на руках с подоконника.
Несмотря на довольно весомую ношу и приличную высоту, он устоял на ногах и даже не покачнулся. Бережно поставив царственную любовницу своего старшего брата Григория на ноги, Алексей снял с подоконника фрейлину, а камердинер с большим баулом выпрыгнул из окна сам.
«Десантирование» было произведено в полной тишине – во дворце так никто и не проснулся. Вся четверка быстро миновала выложенную камнем мостовую, потом парковые насаждения и вскоре подошла к карете, запряженной четверкой вороных коней.
Кучером на козлах сидел усатый офицер в форме лейб-гвардии Измайловского полка. Посадка заняла не более минуты, в воздухе весело просвистел кнут, сытые лошади резво рванули с места и понеслись в Петербург…
Они очень и очень торопились, особенно она, Екатерина Алексеевна, законная супруга императора Петра Федоровича, его троюродная сестра, в девичестве принцесса Софья-Фредерика-Августа Ангальт-Цербстская с ласковым прозвищем Фике. Торопилась к полной самодержавной власти без опостылевшего ей мужа.
Этот момент она и долго готовила, и сама к нему готовилась. Ради него Като родила два месяца назад от своего красавца-силача сына, что несколько привязало к ней влиятельного на умы молодых гвардейцев офицера Григория Орлова. И его же она, путем хитрых маневров, провела на должность цалмейстера, сиречь главного казначея артиллерийского ведомства, которое возглавлял благосклонный к Екатерине фельдмаршал Вильбоа. Тем самым пустили козла в огород с капустой – теперь у заговорщиков были немалые деньги, присвоенные тароватым до казенного добра Гришей, которые существенно облегчили подготовку мятежа.
К перевороту Екатерина начала готовиться с момента кончины императрицы Елизаветы Петровны. Не успело остыть тело гулящей дочери Петра Первого, как капитан преображенцев князь Михаил-Кондратий Дашков прислал ей записку: «Повели, мы тебя на престол возведем».
Но Фике решила не торопиться, зачем мешать Петру с его попыткой приструнить разгульную и распоясавшуюся гвардию. Император так всех еще больше озлобит – и вот тогда она и появится на белом коне посреди преданных ей гвардейских полков. Потому и ответила князю осторожно, но надежду давая: «Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие еще рано временная и не созрелая вещь».
Однако слова словами, а полгода Екатерина, как терпеливый паук, плела паутину заговора…
Но было еще одно обстоятельство, мешавшее осуществлению ее планов, – очередная беременность. Екатерина всячески скрывала свое интересное «положение». И было отчего, за полтора десятка лет супружеской жизни муж не был с ней в соитии ни единого раза.
Поначалу она винила себя за то, что не интересует Петра как женщина. Давившая на нее Елизавета требовала законного наследника и не принимала никаких ее объяснений. Хуже того, в Петергофе была подговорена ушлая молоденькая вдовица, в обязанность которой вменили увлечь императора любой ценой. Но все ее ухищрения и снадобья придворных медиков были тщетными. Император не представлял собой как мужчина ничего.
Монашкой она себя не считала, хранить целибат не собиралась, тем более тогда, когда вокруг было столько галантных кавалеров. Да и Елизавета уже сквозь пальцы смотрела на ее романы, ожидая все же в скором времени наследника, если не от мужа, то для Российского престола.
Петр тем временем завел себе очередную любовницу, Елизавету Воронцову, удачно подсунутую ее подругой, княгиней Дашковой, являвшейся по совместительству сестрой Елизаветы. Правда, что они там делали в постели, оставалось тайной. Вернее, не такой уж и тайной, так как верные люди докладывали, что наследника от Воронцовой ждать не придется – император или в солдатики играл, или скрипку терзал. Тем не менее Петру уже давно осточертело то, что его женушка меняет любовников как перчатки, а ему остается только признавать свое нечаянное отцовство.
В 1754 году Екатерина родила сына Павла, а через три года и дочь, рано умершую. При дворе открыто судачили и бились на спор, что сыном Петр обязан красавцу Сергею Салтыкову, а дочерью польскому галанту Станиславу Понятовскому.
Однако Петр ошарашил всех своей добродушной реакцией: «Я к ней давно не захожу, и Бог ведает, откуда у нее дети берутся». И над Салтыковым лишь подшучивал, не мстя за увесистые рога и прижитого от него бастарда, который стал наследником престола. И лишь любвеобильного поляка выслали, но там имелись совсем иные грехи…
Но за эти полгода, которые прошли с момента воцарения Петра, ситуация стала меняться в худшую сторону. Что жене сходило с рук с наследником престола, великим князем, вызывало уже гневную реакцию императора Петра Федоровича – нет ничтожней зрелища, чем рогоносец в царской короне. Император не скрывал уже своего отвращения к супруге и выражал желание жениться на своей любовнице графине Елизавете Воронцовой.
Для Екатерины это было равнозначно полной катастрофе. Развод и пожизненная перспектива быть навечно упрятанной в монастырь ее совсем не привлекали, а тут еще предстоящие в апреле роды.
Но женская хитрость помогла ей – всю беременность она носила пышные платья, скрывавшие располневшую фигуру, а роды остались незамеченными благодаря преданности камердинера Василия Шкурина – тот запалил свой дом, стоящий рядом с дворцом.
Хорошо так запалил, чуть следом и весь Петербург не спалил. И пока все занимались тушением пожара или бегали в неразберихе, Екатерину привезли к лекарю, и она, спокойно разрешившись от бремени, через два часа вернулась обратно во дворец.
Однако уже через две недели «доброжелатели» поздравили императора с ребенком – и Петр вспылил, обозвал ее дурой и чуть не приказал посадить под арест. Она почувствовала весь ужас неизбежной катастрофы, но влиятельный среди гвардейцев ее любовник успокоил Екатерину всего парой слов: «Скоро начнем».
Григорий Орлов, кроме влияния, имел еще четырех братьев-гвардейцев, чьи крепкие руки защитят в случае чего, а сегодня возведут ее на Российский престол. Екатерина Алексеевна долго и тщательно готовила день этого переворота, своего долгожданного триумфа, и вот он настал сейчас…
Ораниенбаум
«А ведь еще ничего не определено, ровным счетом ничего. С чего я взял, что эта сволочь меня придушит и истыкает вилками? Петр сидел в своем Петерштадте и молча наматывал сопли на кулак, дожидаясь гвардейцев, своих убийц.
Слюнтяй, если боишься проливать чужую кровушку, выцедят твою. Гвардия превратилась в янычар и вертела троном, как хотела. И довертела – император Николай смел ее картечью на Сенатской площади. Так что мне мешает сделать то же самое?! На кого опереться? Господи! Фельдмаршал Миних же здесь! Он что-то предлагал Петру, да тот струсил. Надо вызвать Миниха, в нем будет мое спасение, быстрее проснуться, быстрее…»
Петр дернул ногами и руками, собираясь бежать, и проснулся. День начинал вступать в свои права, светило работало почти в полную силу, но еще было довольно прохладно.
Он бросил взгляд на часы – так и есть, начало девятого. Та же опочивальня, только у постели сидит хмырь, тот самый, что вечером пытался вломиться в комнату. О его профессии Петр догадался сразу – лейб-медик, или как там его здесь кличут. Все просто – одежда золотом не расшита, все черненькое, строгое, пропах каким-то лечебным дерьмом с головы до пят, а прикроватный столик завален баночками, скляночками и чистой холстиной.
– Ваше императорское величество, – хмырь сразу же заговорил, наклоняясь над Рыком, – нуждается в длительном отдыхе, от трудов вы впали в горячку, государь, нельзя же так! Пять раз подряд, всего за одну ночь, зачинать ребенка, сие опасно и ведет к полной потере жизненных сил и соков, кои питают наши жилы…
– Помолчите! – Ему не хватило терпения слушать эту галиматью, и он по-армейски начал быстро отдавать приказы: – Одежду, шпагу, трубку, стакан вишневого сока. Быстро! Фельдмаршала Миниха ко мне!
Лейб-медик моментально утух, скукожился и притих. Створки дверей открылись, и вся свита, терпеливо дожидавшаяся пробуждения императора, ввалилась в опочивальню и суматошно забегала – «шнель» императора всех подстегнул, как кнутом по голым ягодицам.
Впрочем, в этом хаотичном броуновском движении чувствовался определенный порядок. Трое лакеев с Нарциссом во главе принялись обряжать Петра, причем арап дал ему выпить бокал сока (уже учел новые вкусы господина и заранее заготовил напиток), потом сунул в губы раскуренную трубку.
На рану была наложена новая повязка с какой-то дурно пахнувшей мазью, и Рык милостиво похлопал своего «эскулапа» по дряблой щеке и еле слышно пробормотал ему «данке» – его личный медик сразу же расцвел, как куст розы, видать, уши как у слона, все расслышал.
Одели Петра быстро, тот даже не ожидал такой прыти, ведь по книгам царей облачали чуть ли не по часу. Короткие, до колен, синие панталоны в обтяжку, жутко жмущие в паху, шелковые чулки с завязками, что-то похожее на гольфы (неизвестно, как сие называется), башмаки с золотыми пряжками.
Сверху натянули длинную безрукавку, вроде именуемую камзолом, затем форменный мундирный кафтанчик, узкий и тесный в плечах, – все расшито золотом и позументами, а с левой стороны нашита большая восьмиконечная орденская звезда.
Он скосил глаз и прочитал надпись – «За веру и верность». По девизу Петр догадался, что это звезда ордена «Святого апостола Андрея Первозванного», главная награда Российской империи, учрежденная еще в 1698 году императором Петром Великим.
Лакеи стали расчесывать ему волосы, натянули сверху парик, и Петр с ужасом увидел букли. Потом его уродливую шевелюру стали посыпать пудрой. И тут в Петре наконец-то проснулся дар речи, и он начал самодурствовать.
Длинной тирадой, наполовину состоящей из сугубо матерных слов, он объяснил лакеям недопустимость подобных операций, что приводит к засаленности и грязи, а потом и к вшам. И все эти парики, букли, пудру, муку для обсыпки, ленточки и прочую хреновень, совершенно лишнюю и вредную для армии, он отменяет раз и навсегда, причем не только для себя, но и для всех солдат и офицеров верных ему войск.
В комнате воцарилось мертвое молчание. Все застыли, но после новых, уже исключительно «кружевных» выражений бывшего советского сержанта (привыкшего в армии к командному языку), зашевелились еще быстрее.
Видимо, его новые вкусы и поразительные лингвистические способности их ошеломили и полностью подавили, но все восприняли новые требования императора как должное, мысленно исходя из слов неизвестной еще в то время песни – «жираф большой, ему видней».
Откуда-то быстро принесли таз и большой кувшин с теплой водой, еще быстрее совлекли с его плеч мундир и камзол – и началось мытье головы с помощью куска душистого мыла. Петр только крякал, глядя на черную воду в тазу – сплошная грязь, за малым вшей еще не завелось.
Тщательно протерли волосы полотенцем, причесали – попытку сделать косичку сержант пресек грубо и жестоко. Заново надели на него камзол и кафтанчик. Наложили через плечо широкую голубую ленту, прихватив концы снизу орденским знаком двуглавого орла, в центре которого на косом синем кресте была наложена человеческая фигурка. На шею навесили большой черный крест с раздвоенными концами, с одноглавыми орлами между лучами, а что это за награда и от кого получена, Петр понятия не имел. Перевязь со старой знакомой шпагой и шляпа с плюмажем довершили облачение. Его нарядный мундир уже пропитали какими-то духами, приятными на запах, но непривычными. Но на будущее сержант решил обходиться без нюхательного орнамента.
Вошедшую Лизочку Петр, сделав над собой усилие, чмокнул в щечку, и, чуть похлопав по спине, отправил восвояси. Повинуясь его повелительному резкому жесту, вся придворная братия, подобно бурлящему потоку, хлынула в раскрытые двери обратно.
И вовремя – не прошло и минуты, как раздались четкие солдатские шаги, створки распахнулись во всю ширь, и в комнату вошел крепкий старик в зеленом форменном мундире…
Петербург
– Виват матушке Екатерине! – гвардия бурлила на улицах.
Пьяные вопли за здравие императрицы и проклятия в адрес императора Петра доносились с разных сторон. Кабаки подвергались всеобщему разграблению, а энтузиазм гвардейцев рос по мере их опьянения…
Первыми, еще рано утром, начали мятеж измайловцы. Их полковник, граф и фельдмаршал Кирилл Разумовский, гетман Украины и президент Академии наук, дарованиями ученого и талантами военного не отличался. Но он был младшим братом фаворита и морганатического мужа императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского, который когда-то был певчим хлопцем Лешкой Розумом. Именно в его полку свили уютное гнездо измены офицеры Ласунский, братья Рославлевы и иже с ними.
Положение рядовых заговорщиков облегчалось тем, что сам командир полка был лютым ненавистником императора Петра Федоровича.
Злоба Кирилла, пропаганда Орловых с откровенным спаиванием офицеров и солдат (а на это дело английский купец Фельтен щедро предоставил 35 тысяч ведер водки), демагогичные обещания от имени Екатерины даровать различные милости гвардейцам с избавлением их от опасностей новой войны сделали свое дело – измайловцы поднялись бодро.
Их энтузиазм резко усилился с появлением двух женщин, одетых в преображенские мундиры, – императрицы и княгини Дашковой. Като не скупилась на обещания – служить будете как при Елизавете, не утруждаясь особо, весело и разгульно, без всяких нововведений ненавистного мужа – дисциплина, караулы, военное обучение и строевые плац-парады.
И алебарды с протазанами не сами таскать будете, а слугам своим велите, как раньше было. И все привилегии гвардейские сохранить в целости Екатерина обещала, да еще и приумножить их. А они уже таковы были, что армейские офицеры завистью к гвардейским рядовым капралам исходили – мыслимое ли дело, что в походе полковнику армии только пять повозок положены, а гвардейскому сержанту, коих пруд пруди в каждой роте, целых четырнадцать…
Со злой веселостью измайловцы вовлекли в мятеж заранее хорошо споенных дармовой водочкой семеновцев. И разошлась еще шире волна мятежа, и накрыла следом с головой и полк Конной лейб-гвардии.
Мятеж ширился и расползался метастазами по гарнизонным полкам, командиры которых были вовлечены в заговор обещанием великих для них милостей. Екатерина не скупилась, и там, где Петр требовал честной службы, она обещала легкие чины, богатые подарки и щедрейшее вознаграждение.
А далее шло по накатанной схеме – офицеров морально обрабатывали, а кое-кому просто давали деньги, перед мятежом солдат обильно, не скупясь, поили до упора водкой. С одновременным натравливанием на «голштинского выродка», продавшего ненавистным пруссакам матушку-Россию.
«Отвергнувшего истинную православную веру» царя проклинали громогласно и под благословение иерархов церкви, недовольных начавшейся секуляризацией обширных и богатейших монастырских землевладений, кричали «на царство» его благоверную супругу Екатерину Алексеевну, как-то забыв в сумятице, что та ведь и есть совсем чистокровная немка.
И как не закружиться солдатской голове, да еще в пьяном угаре, от чувства всесилия и безнаказанности, от возможности распорядиться императорским престолом по собственному усмотрению. Вот и орали во все луженые глотки самодовольные солдаты: «Виват матушке Екатерине!»
В Преображенском полку произошла первая для заговорщиков неприятность, вернее, заминка с вовлечением в буйство. Противостоять пьяной орде семеновцев и измайловцев преображенцы не стали и впустили мятежников в казармы. И сразу в них началась оголтелая агитация за свержение императора Петра с престола.
– Этот выродок нас отправить в Голштинию к себе хочет, с датчанами воевать! Не желаем!
– Долой Петрушку! Матушку Екатерину на царство, она гвардию любит и жалеет, воевать не пошлет.
– К черту все эти экзерции и плац-парады! Хотим служить, как раньше служили, при матушке Елизавете.
– Долой тирана! Айда кабаки громить!
– Гвардия должна при престоле быть, а армия пусть воюет!






