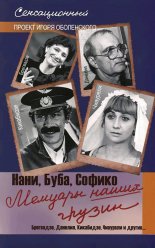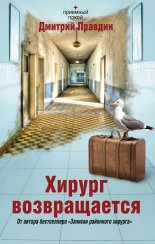Брак по расчету. Златокудрая Эльза (сборник) Марлитт Евгения

Прием Елизавете оказали очень любезный, хотя в тоне и движениях нельзя было не заметить значительной доли милостивого снисхождения.
Елизавета опустилась на стул и только что собралась ответить на вопрос баронессы о том, как ей нравится Тюринген, когда дверь с шумом распахнулась, и в нее ворвалась маленькая девочка лет восьми с развевающимися волосами, прижимавшая к себе хорошенькую собачку, которая визжала и вырывалась.
– Али так непослушен, мама, он совсем не хочет сидеть у меня! – запыхавшись, воскликнула малютка, бросая собачонку на ковер.
– Ты, вероятно, опять дразнила собачку, – проговорила ее мамаша. – Ты мне мешаешь, Бэлла и очень шумишь, а у меня болит голова… Иди в свою комнату!
– Ах, там так скучно! Мисс Мертенс запретила мне играть с Али, и я все время должна повторять басни, которые я терпеть не могу.
– Тогда оставайся здесь, только сиди смирно.
Девочка прошла вплотную мимо Елизаветы, причем оглядела сверху донизу ее костюм, потом влезла на резную скамейку для ног, чтобы добраться до вазы со свежими цветами. Прелестный букет в одну минуту превратился в бесформенную массу в маленьких ручках девочки, которые усердно выдергивали цветы и втыкали их в тонкую вышивку занавесок. Во время этого занятия со стеблей стекали большие капли бурой жидкости, в которой стояли цветы, и падали прямо на платье Елизаветы, так что последней пришлось отодвинуться, потому что мамаша, очевидно, не собиралась положить конец этому занятию. Елизавета только успела ответить на следующий вопрос баронессы, что в Тюрингене она чувствует себя прекрасно, как больная быстро поднялась и приветливо закивала в направлении скрытой в обоях двери, бесшумно открывшейся в эту минуту.
На пороге ее появились двое молодых людей, которых Елизавета уже видела в свою подзорную трубу. Какой контраст представляли они рядом! Гольфельд должен был сильно склонить набок свой стройный стан, чтобы поддерживать маленькую ручку, лежавшую на его руке. У Сильфиды, покоившейся тогда на кушетке, была совершенно искалеченная детская фигурка. Хорошенькая головка совсем пропадала в высоко поднятых плечах, а костыль, на который она опиралась правой рукой, указывал на то, что и ноги ей плохо повиновались.
– Прости, дорогая Елена, – проговорила баронесса, обращаясь к вошедшей, – что я побеспокоила тебя, но видишь, я опять обратилась в бедного беспомощного Лазаря, к которому ты всегда так ангельски добра. Госполо Фербер, – представила она молодую девушку, которая, краснея, поднялась, – была так любезна, что в ответ на мою вчерашнюю записку пришла сама.
– За что я вам от души благодарна, – с приветливой улыбкой обратилась молодая особа к Елизавете, подавая ей руку. Ее взгляд с восхищением скользнул по фигурке Елизаветы и остановился на ее золотых косах, видневшихся из-под шляпы. – Да, я уже видела ваши чудные золотистые волосы, гуляя вчера по лесу, когда вы перегнулись через стену старого замка.
Молодая девушка покраснела еще больше.
– Но именно потому, что вы были на стене, – продолжала Елена, – мне пришлось лишиться удовольствия, ради которого я, собственно, и взобралась на гору. Я хотела послушать вашу игру. При такой молодости – и столь глубокое понимание классической музыки? Как это возможно? Вы доставите мне громадное наслаждение, если согласитесь иногда играть со мною в четыре руки.
По лицу баронессы скользнула легкая тень неудовольствия, и от внимательного наблюдателя не ускользнула бы презрительная улыбка, пробежавшая по ее губам. Елизавета совершенно не заметила этого, так как всецело была поглощена несчастной своей собеседницей, мягкий, серебристый голос которой исходил, казалось, из самого сердца.
Гольфельд тем временем пододвинул к кушетке кресло для госпожи фон Вальде и затем откланялся, не произнеся ни слова. Но так как он вышел в дверь, бывшую как раз напротив Елизаветы, то от нее не укрылось, что в то время, когда он медленно закрывал ее, взгляд молодого человека упал на гостью. Девушка испугалась этого взгляда и начала осматривать свой костюм, пытаясь найти в нем какой-то изъян.
Госпожа фон Вальде прервала размышления Елизаветы вопросом о том, какому учителю та обязана своей совершенной игрой, на что девушка ответила, что занималась только с матерью, и что родители учили ее всему сами.
Во время этого разговора Бэлла, поместившись на ковре, играла с собакой, причем та все время жалобно визжала, и госпожа фон Вальде всякий раз испуганно вздрагивала, а баронесса машинально замечала:
– Оставь эти проказы, Бэлла. Мне придется позвать мисс Мертенс.
– Ну, так что же! – пренебрежительно заметила, Бэлла, – она все равно не посмеет меня наказать: ведь ты сама запретила ей это.
В эту минуту в комнату вошла бледная, довольно пожилая особа. Почтительно поклонившись дамам, она робко проговорила:
– Господин кандидат ожидает Бэллу.
– Я не хочу сегодня учиться, – закричала девочка и, взяв со стола моток шерсти, бросила его в вошедшую.
– Нет, дитя мое, это необходимо, – произнесла баронесса, – иди с мисс Мертенс и будь умницей.
Бэлла уселась в кресло, как будто все это касалось ее столько же, сколько укрывшегося под диваном Али, и поджала под себя ноги. Гувернантка хотела было подойти к девочке, но гневный взгляд баронессы остановил ее.
Эта сцена, вероятно, еще долго бы продолжалась, если бы баронесса не прибегла к помощи конфет. Девочка, набив ими рот и карманы, покинула свое место. Англичанка хотела взять ее за руку, но Бэлла оттолкнула ее и выбежала из комнаты.
Елизавета совсем окаменела от удивления. На кротком лице фон Вальде лежало выражение неодобрения, но она не проронила ни слова.
Баронесса снова опустилась на подушки.
– Эти гувернантки вгонят меня в гроб, – со вздохом произнесла она. – Когда же, наконец, мисс Мертенс научится обращаться с Бэллой, как того требует ее впечатлительная и нервная натура… Она совершенно не считается с детским темпераментом и положением. Всех подгоняет под один шаблон – будь то дочь какого-нибудь лавочника или знатного лорда. Мисс Мертенс – отвратительный, педантичный педагог. Причем, ее выговор ужасен! Бог весть, из какой глуши Англии она явилась!
– Я не нахожу этого, дорогая Амалия, – сказала госпожа фон Вальде, в голосе которой звучала бесконечная доброта.
– Ах, это ты говоришь по своей ангельской доброте. Хотя я сама и не говорю по-английски, но прекрасно слышу, что твой выговор, милочка, несравненно элегантнее.
Елизавета мысленно усомнилась в справедливости этого суждения, а госпожа фон Вальде сделала отрицательное движение рукой и при этом слегка покраснела.
Баронесса же продолжала:
– Бэлла тоже прекрасно чувствует это. Она упорно молчит, когда гувернантка обращается к ней по-английски. Я вполне понимаю ее и всегда выхожу из себя, когда эта особа уверяет, что девочка упрямится.
Слабый вначале голос баронессы удивительно окреп во время произнесения этой тирады.
Она, казалось, сама заметила это и, вздохнув, утомленно закрыла глаза.
– О! Мои несчастные нервы снова расшатались. Я опять становлюсь раздражительной. Эти неприятности – сущий яд для тела и души.
– Я советовала бы тебе в те дни, когда ты так скверно себя чувствуешь, как сегодня, спокойно оставлять Бэллу на попечение господина Меренга и мисс Мертенс, – продолжала госпожа фон Вальде. – Я убеждена, что за нею будет хороший присмотр. Хотя я вполне понимаю твои трогательные заботы о ребенке, но все же должна заметить для твоего успокоения, что мисс Мертенс слишком хорошо воспитана, чтобы сделать девочке такое, что не послужило бы ей на пользу. У тебя совсем утомленный вид, – участливо сказала она. – Будет лучше, если я оставлю тебя одну. Госпожа Фербер, вероятно, будет настолько добра и проводит меня до моей комнаты.
С этими словами она встала, наклонилась к баронессе и поцеловала ее в щеку. Затем взяла под руку Елизавету, которую баронесса отпустила чрезвычайно благосклонным движением руки, и вышла из комнаты.
Во время продолжительного странствования по различным коридорам она сказала, что для ее брата, которого сейчас нет с нею, будет громадной радостью, если она опять начнет заниматься музыкой. Раньше он часами мог сидеть в темном углу и слушать игру, пока сильное расстройство нервов не заставило ее надолго отказаться от любимого занятия. Теперь она чувствует себя гораздо лучше, и доктор опять разрешил ей играть. Она будет усердно заниматься, чтобы сделать брату приятный сюрприз к его возвращению.
Елизавета мчалась, как на крыльях, по дорожке уединенного парка в гору. Наверху, у калитки, ее поджидали родители, а маленький Эрнст побежал ей навстречу. Каким уютным и родным казалось Эльзе все здесь, наверху. Родители встретили ее так, как будто давно не видели, у окна заливался от радости кенарь Ганс, а под развесистыми липами девушку ждал накрытый для ужина стол.
Итальянский дворец со всей его роскошью исчез для нее, как сон. Передав родителям все свои впечатления, она проговорила:
– Следуя тому, чему ты меня учил, папочка, я сегодня еще не должна делать какие-либо выводы относительно нового знакомства, потому что ты утверждаешь, что первое впечатление обманчиво, но когда я думаю об этих двух дамах, мне невольно представляется одинокая молодая березка, безропотно позволяющая налетевшему урагану трепать свои гибкие ветви.
7
С этого времени Елизавета стала два раза в неделю ходить в Линдгоф. Баронесса на другой день после визита своей молодой соседки написала очень нежное письмо, в котором назначила дни занятий и предложила ей очень приличный гонорар за ее труды. Эти уроки очень скоро сделались для Елизаветы источником высшего наслаждения. У Елены фон Вальде, вследствие того, что она не занималась несколько лет, сильно страдала техника, и она не могла соперничать с Елизаветой, но играла с глубоким чувством, обладая превосходным музыкальным чутьем и никогда не относилась отрицательно к тому, что было ей не по силам. Баронесса фон Лессен никогда не присутствовала при их занятиях музыкой, благодаря чему минуты отдыха приобрели особую прелесть для Елизаветы. Лакей мгновенно приносил какое-нибудь угощение, Елена располагалась в своем кресле, а молодая учительница садилась на скамеечке возле ее ног, с восхищением слушая, как она своим грустным меланхолическим голосом рассказывала о своем прошлом. Тут всегда выступал на первый план образ отсутствующего брата. Елена не могла нахвалиться им за его заботы о ней, говорила о том, что брат купил Линдгоф исключительно потому, что она, гостившая продолжительное время при дворе в Л., нашла, что тюрингенский воздух особенно хорошо действует на ее здоровье. Из этого следовало, что он нежно любит свою сестру.
Однажды после обеда, когда девушки особенно увлеклись музыкой, слуга доложил о приходе гостей.
– Останьтесь, пожалуйста, у нас пить чай, – обратилась Елена к Елизавете. – Приехал из Л. мой доктор, и хотели быть некоторые дамы из соседних имений. Я сейчас пошлю кого-нибудь к вашей маме, чтобы она не беспокоилась. Моя беседа с доктором не будет продолжительной, и я скоро вернусь к вам.
С этими словами она вышла.
Не прошло и десяти минут, как Елена снова вернулась, опираясь на руку господина, которого представила Елизавете как доктора Фельса из Л… Это был стройный мужчина с очень умным лицом. Он с интересом повернулся к молодой пианистке, услышав ее фамилию, и в юмористическом тоне рассказал о том изумлении и ужасе, в которое повергло почтенных жителей Л. известие о том, что в старом Гнадеке появились обитатели, и притом самые настоящие живые люди.
Вдруг в соседней комнате послышалось шуршание, и на пороге появились две дамы – старая и молодая. Сильное сходство лиц давало возможность безошибочно заключить, что это – мать и дочь. На обеих были темные платья, которые вопреки моде ниспадали почти до самого пола. Длинные мантильи из шерстяной ткани и круглые коричневые шляпы под подбородком были завязаны у матери черным, а у дочери лиловым бантам. Елена назвала их госпожами фон Лер. Позднее Елизавета узнала, что они, живя в Л., обыкновенно проводили лето в Линдгофе, где нанимали себе крестьянскую избу.
Непосредственно за вновь прибывшими вошла баронесса под руку с сыном в сопровождении молодого человека, которого все называли кандидатом Меренгом. Баронесса была в темном, но чрезвычайно элегантном платье и имела очень представительный вид. На пороге она на минуту остановилась и была, по-видимому, неприятно удивлена присутствием Елизаветы. Она смерила девушку высокомерным взглядом и ответила на ее поклон едва заметным кивком.
Елена уловила этот взгляд и, подойдя к ней, умиротворяюще шепнула:
– Я оставила сегодня свою любимицу у себя, потому что было уже поздно.
От тонкого уха Елизаветы не ускользнуло это извинение, она была возмущена и готова выскочить за дверь, если бы гордость не повелела ей остаться и принять высокомерный вызов баронессы.
Баронесса, очевидно, была удовлетворена раскаянием в совершенном за ее спиной преступлении и, обняв Елену, стала нежно гладить ее по голове и осыпать комплиментами. Затем она пригласила присутствующих последовать за нею в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Она была очень любезной хозяйкой и проявила большой талант все время поддерживать разговор с ловкостью, достойной удивления. Она умела притворяться так, что Елена оставалась центром, на котором сосредоточивалось все ее внимание, не давая, однако, другим почувствовать себя сколько-нибудь обойденными.
Елизавета молча сидела между доктором и барышней Лер. Разговор представлял для нее мало интереса, потому что касался совершенно незнакомых ей людей и обстоятельств. Госпожа Лер говорила очень важно и казалась весьма осведомленной в том, что свершилось или говорилось, будь то тайно или явно, у гостивших в Линдгофе. Она сообщала обо всем удивительно жалобным голосом и, заканчивая пересказ какой-нибудь возмутительной новости, всякий раз смиренно опускала свое высохшее совиное лицо с таким видом, будто она – агнец, который должен нести на себе грехи всего мира. Время от времени она вынимала из своего огромного ридикюля бутылочку с укропной водой и смачивала свои больные глаза, постоянно устремленные к небу.
Какой контраст представляли собой эта госпожа и ангельское личико Елены, которая сегодня еще больше напоминала Елизавете водяную лилию благодаря какому-то особенному выражению, лежавшему на нем! Ее глаза сверкали счастливым блеском, на губах играла прелестная улыбка, всякий раз она брала в руки букет, который Гольфельд при своем появлении вложил ей в руку. Он сидел около нее и иногда принимал участие в разговоре. Когда он начинал говорить, все присутствующие умолкали и с видимым интересам слушали.
Хотя он вовсе не отличался красноречием и, как показалось Елизавете, не высказывал каких-либо оригинальных мыслей.
Это был красивый молодой человек лет двадцати четырех. Правильные черты его лица, имевшего очень спокойное выражение, говорили о твердости характера, но тот, кто внимательно присматривался к его взгляду, изменял свое мнение. Эти глаза были довольно красивы, но никогда не вспыхивали блеском, изо5ли-чающим умного, неординарного человека, даже когда он не произносит ни одного слова, и не наполнялись мягким светом, указывающим на глубокую натуру.
Однако только немногие делали подобные выводы, так как о Гольфельде почему-то установилось мнение, что это – оригинал, молчаливость которого исходит от слишком большой глубины его ума. Дамы в Линдгофе, очевидно, разделяли этот взгляд, что было особенно заметно по дочери госпожи фон Лер, которая всякий раз, как Гольфельд открывал рот, проявляла такое внимание, точно речь шла об ангельском откровении. Но, оказалось, и она была не прочь блеснуть своим красноречием.
– Вы, вероятно, тоже в восхищении от прекрасной проповеди, которой услаждает нас в праздники кандидат. Меренг? – спросила она, обращаясь к Елизавете.
– Очень сожалею, но я не слышала.
– Так вы совершенно не ходите в церковь?
– Нет, как же! Я с родителями была в церкви в Линдгофе.
– Так, – произнесла баронесса Лессен, в первый раз поворачивая голову к Елизавете. – Там, в Линдгофе, наверное, было очень назидательно?
– О да, – спокойно ответила Елизавета, хладнокровно выдерживая насмешливый взгляд баронессы. – На меня произвели сильное впечатление простые, но вместе с тем трогательные слова пастора, который, впрочем, проповедовал не в церкви, а на открытом воздухе, под дубами. Перед началом богослужения выяснилось, что маленькая церковь не могла вместить в себя всех слушателей, и тотчас же был сооружен алтарь под открытым небом, как уже происходило не один раз.
– Да, это, к сожалению, известно, – перебил ее кандидат, Меренг, который очень мало говорил до сих пор и довольствовался тем, что отвечал любезной улыбкой или кивком на сообщения госпожи фон Лер. Теперь же он покраснел до корней волос и насмешливо обратился к баронессе:
– Как далеко зашло, уважаемая баронесса! Старые боги опять спустились в священные рощи друидов приносить им жертвы под дубами.
– При всем своем пылком воображении я не могла себе представить, что присутствую на языческом жертвоприношении, – возразила Елизавета. Она улыбнулась, но затем тепло и сердечно продолжала: – В то чудное праздничное утро, когда мощные звуки органа лились через открытые окна и двери, и голос почтенного старого пастора так проникновенно звучал среди свежей зелени, мною овладевало такое же настроение, как в тот день, когда я впервые вступила в храм Божий.
– Вы, кажется, обладаете замечательной памятью, заметила госпожа Лер. – Разрешите спросить, сколько вам было тогда лет?
– Одиннадцать.
– Одиннадцать? О, да неужели это возможно? – с ужасом воскликнула старушка. – Неужели люди-христиане могли сделать подобное? Мои дети уже с самого раннего детства посещали дом Божий, вы должны засвидетельствовать, милейший доктор!
– Совершенно верно, – серьезно ответил тот. – Я еще прекрасно помню, что приступ круппа, вследствие которого вы имели несчастье потерять вашего сына, был вызван простудой при посещении холодной церкви.
Елизавета с испугом взглянула на своего соседа. Доктор до того времени не принимал участия в разговоре и ограничивался тем, что изредка вставлял едкие замечания, причем баронесса всякий раз посылала ему укоризненный взгляд. Вступив в разговор, Елизавета перестала обращать на него внимание так же, как и другие, потому что взоры всех были направлены на «нечестивую язычницу». Никто не заметил, что доктор чуть не умирал со смеху, слушая ответы своей молодой соседки и видя впечатление, производимое ею на окружающих.
Последние слова доктора показались Елизавете жестокими. Но он, вероятно, хорошо изучил своих ближних, потому что госпожа Лер приняла их совершенно спокойно и сладко ответила:
– Да. Господь взял к себе моего малютку. Он был слишком хорош для этого мира. Так, значит, в течение первых одиннадцати лет царствие Божие было закрыто для вас? – снова обратилась она к Елизавете.
– Только его храм! Я уже с малых лет знала священную историю. Мой отец придерживается того взгляда, что маленьким детям не следует ходить в церковь, так как их юные души не в состоянии постичь ее высокое значение, и дети скучают во время проповеди, которую при всем желании не могут понять, а из-за этого с ранних лет развивается небрежное отношение к религии. Моему маленькому брату семь лет, а он еще ни разу не был в церкви.
– О счастливый отец, имеющий возможность вводить в жизнь подобные взгляды! – воскликнул доктор.
– Ну, а что же мешает вам подобным образом воспитывать своих детей? – ехидно заметила баронесса.
– Этого я не могу объяснить вам в кратких фразах, многоуважаемая баронесса. У меня шесть детей, и я недостаточно богат, чтобы взять для них учителя. Моя профессия не позволяет мне самому учить их, так что я вынужден посылать их в школу, которая предусматривает и посещение церкви детьми. Я, например, совершенно не одобряю самостоятельного чтения детьми Библии. Дети предпочитают развлечение серьезному поучению и склонны интересоваться именно тем, чего им не следует знать, а потому часто вместо того, чтобы найти текст последней проповеди, обращают внимание на разные неподходящие выражения и затем обращаются к матери за разъяснениями. Умная мать сумеет выйти из затруднения, но вместе с тем бывает вынуждена запретить произношение этих слов, чреватых опасностями… Возьмем, к примеру, «Песнь песней». Таким образом, в детской душе зарождаются первые сомнения, которым неокрепшее сознание не может оказать никакого противодействия.
Здесь баронесса нетерпеливо поднялась. На ее бледных щеках вспыхнули два ярких красных пятна. Для всех, кто ее хорошо знал, они служили признаком сильного гнева. Вследствие этого Елена, не принимавшая участия в разговоре, тотчас же встала и, взяв кузину под руку, подошла с нею к окну, спросив при этом, не доставит ли ей удовольствие послушать музыку. Баронесса кивком головы выразила свое согласие, главным образом потому, что чувствовала свою несостоятельность перед доктором. Каждый должен был заметить ее негодование, и теперь она сочла вполне подходящим успокоить свое возмущение против вопиющих нападок доктора на ее христианское рвение: ведь она сама раздавала детям Библии.
Баронесса удалилась в оконную нишу и стала смотреть в парк, где появлялись первые тени спускающейся на землю ночи. Взгляд ее был холодным и даже жестоким, около губ появилась глубокая складка – признак сильнейшей досады, не исчезнувшей даже при звуках баллады «Лесной царь» Шуберта, мастерски сыгранной обеими молодыми девушками в четыре руки, но не вызвавшей отклика в ее душе. Когда замолкли последние аккорды, обе музыкантши встали. Доктор, напряженно слушавший все время, подошел к ним, его глаза блестели, и он с восхищением поблагодарил их за доставленное удовольствие, которого, по его словам, не испытывал уже много лет. При этих словах лицо барышни Лер побагровело, а мамаша бросила на несчастного ядовитый взгляд. Ведь ее дочь в прошлую зиму несколько раз выступала в Л. на благотворительных концертах, где присутствовал и доктор. Однако тот, казалось, вовсе не замечал грозы, собравшейся над его головой, и начал пространный разговор о творчестве Шуберта, проявив при этом глубокую музыкальную образованность и тонкое чутье. Вдруг раздался резкий громкий аккорд. Беседовавшие испуганно обернулись: кандидат сидел у рояля, высоко подняв голову и взяв второй аккорд. Он заиграл красивый хорал, однако ужасное исполнение просто раздирало музыкальный слух собравшихся. К ужасу Елизаветы, кандидат еще запел отвратительным гнусавым голосом. Это было уже чересчур. Доктор схватился за шляпу и раскланялся перед Еленой и баронессой, – последняя отвернулась к окну и сделала, пренебрежительный прощальный жест рукой. По лицу доктора проскользнуло выражение, полное неподражаемого юмора. Он серьезно пожал руку Елизавете, сделал дамам общий поклон и вышел из комнаты.
Как только дверь за ним закрылась, баронесса взволнованно подошла к Елене, расположившейся в углу дивана, и воскликнула глухо, как будто внутренний гнев сжимал ей горло:
– Это невыносимо! И ты так беспрекословно переносишь, Елена, когда в твоих комнатах поносят наше женское достоинство и даже попирают ногами самое святое для нас!
– Но, дорогая Амалия, я не вижу…
– Ты не хочешь видеть, дитя, при своем безграничном терпении и доброте, что этот доктор оскорбляет меня, где только может, я вынуждена выносить его, потому что я, как истинная христианка, предпочитаю терпеть несправедливость, чем прибегать к недостойному оружию и отплачивать тем же… Но всякому терпению приходит конец, когда попираются Божьи законы. И тут мы должны неутомимо бороться. Ведь прямо кощунство со стороны этого господина, что он так бесцеремонно берет шляпу и уходит, когда наши души возносятся к Господу, благодаря этому чудесному хоралу.
Она говорила все громче и возбужденнее, совершенно забывая, что совсем заглушает кандидата, неутомимо продолжавшего свое пение.
– Ах, ты не должна обижаться на доктора, – ответила Елена. – Он очень занят. Может быть, ему надо навестить в Л. какого-нибудь пациента. Ведь он хотел уже уходить, когда мы начали играть.
– Однако языческие чары «Лесного царя» заставили его забыть своих пациентов, – язвительно прервала ее баронесса.
– Боже мой, Амалия, что ты хочешь?.. Ты же прекрасно знаешь, что Фельс мне необходим. Он единственный из врачей, умеющий облегчить мои страдания! – воскликнула Елена, причем ее глаза заблестели, а щеки покраснели от волнения.
– Мне кажется, – медленно и торжественно начала госпожа Лер, молча сидевшая до тех пор в углу, притаившись, как паук, – что на первом плане должно стоять спасение души. Заботы о телесном здоровье – дело второстепенное. Кроме того, в Л. есть немало других врачей, которые смело могут соперничать с доктором Фельсом.
– Если бы я даже согласилась принести эту жертву и обратиться к другому врачу, то я не могу сделать это без согласия моего брата, – твердо заявила Елена, – я натолкнулась бы на решительное сопротивление, я это знаю, потому что Рудольф очень высоко ставит этого врача и вполне доверяет ему.
– Да, к сожалению! – воскликнула баронесса. – Это одна из слабых сторон Рудольфа, которую я никак не могла понять! Господин Фельс импонирует ему своим так называемым свободомыслием, которое я, скорее, назвала бы нахальством! Ну, я умываю руки и не желаю больше принимать его у себя. И уж, – извини, Елена, – не буду приходить к тебе во время его визитов.
Елена не сказала ни слова. Она встала и окинула комнату грустным взглядом, как будто не находя чего-то. Елизавете показалось, что причиной такого взгляда был Гольфельд, за несколько минут до того вышедший из комнаты.
Баронесса взяла свою накидку. Госпожа Лер с дочерью тоже собрались уходить. Обе они сказали несколько любезностей кандидату, окончившему свое пение и стоявшему, потирая руки, у рояля. Все распрощались с Еленой, которая усталым голосом пожелала им спокойной ночи.
Когда Елизавета спускалась с лестницы, она увидела Гольфельда, стоявшего в противоположном конце слабо освещенного коридора. Во время гневных излияний матери он перелистывал альбомы и не вмешивался в разговор. Елизавете это показалось совсем гадким. Она страстно желала, чтобы он стал на сторону Елены и прекратил выходку баронессы; еще более не понравилось ей, что он постоянно не сводит с нее глаз. Она чувствовала, что начинает краснеть под его взглядами, и очень рассердилась на себя, тем более, что это случалось уже не в первый раз и совершенно против ее воли. Всякий раз, когда Елизавета возвращалась из Линдгофа домой, случалось так, что она встречала Гольфельда. В коридоре, на лестнице или же в парке он появлялся где-нибудь из-за куста. Почему ей это было так неприятно и почему она всегда в этих случаях смущалась, девушка сама не знала, она не раздумывала над этим, потому что очень скоро забывала об этих встречах.
Теперь Гольфельд стоял внизу, в темном коридоре.
Большая черная шляпа была надвинута на его глаза, а поверх светлого костюма он надел темное пальто. Казалось, он чего-то ждал, и когда Елизавета достигла последней ступеньки, быстро пошел к ней, как бы желая что-то сказать.
В эту минуту на верхней площадке лестницы показалась госпожа Лер.
– Эй, господин Гольфельд! – позвала она его. – Вы, кажется, собрались идти гулять?
Лицо молодого человека, показавшееся Елизавете очень возбужденным, тотчас же приняло спокойное, равнодушное выражение.
– Я возвращался из сада, где наслаждался чудесным ночным воздухом, – ответил он пренебрежительным тоном. – Проводи барышню домой, – приказал он слуге и, поклонившись дамам, вышел…
– Как хорошо, что завтра воскресенье, – радовалась Елизавета час спустя, сидя на постели матери и рассказывая все, что произошло в течение дня. – Я сниму в нашей милой деревенской церкви со своей души все неприятные впечатления последних часов. Я никогда не думала, что, слушая хорал, смогу испытывать что-либо, кроме благоговения. Сегодня же меня это так разозлило. Кажется, мамочка, во мне никогда не было духа возмущения, а теперь я чувствую непреодолимую склонность к упорству и противоречию.
Под конец она вспомнила еще о Гольфельде и его странном поведении в сенях и добавила, что совершенно не понимает, что ему, собственно говоря, было нужно от нее.
– Ну, не будем ломать себе над этим голову, – сказала госпожа Фербер. – Но если ему когда-нибудь вздумается предложить проводить тебя домой, то ни в коем случае не соглашайся. Слышишь, Елизавета?
– Но, милая мама, что тебе пришло в голову? – рассмеялась дочь. – Скорее небо обрушится на нас, чем он предложит мне нечто подобное. Госпожа Лер с дочерью, которые, кажется, принадлежат к высшему кругу, должны были возвращаться домой одни, так неужели же он снизойдет до моей ничтожной особы!
8
Спустя неделю после прибытия родных, лесничий объявил в своем доме новое постановление, которое, по его словам, было с радостью принято его «министром внутренних дел» и по которому семье Фербер было вменено в обязанность каждое воскресенье обедать в лесничестве.
Это были радостные дни для Елизаветы. Еще задолго до благовеста все отправлялись в церковь. В лесу к ним присоединялись богомольцы из окрестностей, а на лужайке перед церковью их обычно поджидал дядя. Он уже издалека поджидал семью Фербер. Старый лесничий, никогда не имевший детей, сосредоточил теперь всю нежность, на какую было способно его прекрасное сердце, на своей племяннице, душа которой, как он чувствовал, к своей великой гордости, была во многих отношениях родственна его душе, хотя черты ее характера смягчались нежной женственностью.
Она платила ему за любовь глубокой преданностью и заботливостью. Очень быстро Елизавета изучила его вкусы и незаметно, с большим тактом брала на себя хозяйственные заботы, никогда не задевая при этом самолюбия верной служанки. Она сумела окружить его совсем новой, уютной атмосферой.
На обратном пути из церкви дядя обыкновенно вел Елизавету за руку, как маленькую школьницу. Сквозь лесную просеку уже издали виднелся старый, залитый солнцем дом лесничего. С каждым шагом эта живописная картина становилась все яснее, и на пригорке уже можно было различить Сабину, которая прикрывала глаза рукой, внимательно оглядывала лесную дорожку и поджидала возвращавшихся. Завидев их, она поспешно скрывалась в кухне.
В этот день Сабина приготовила особенно вкусный обед. Около дымящейся суповой миски возвышалась целая пирамида ярко-красных ягод первой лесной земляники, которую не только маленький Эрнст, но и большая Елизавета приветствовали громкими криками радости. Лесничий громко смеялся над их энтузиазмом. Не желая отставать от Сабины, он также решил сделать сюрприз и велел запрячь лошадь, чтобы прокатить Эльзу в Л., как он уже давно обещал, тем более, что его там ожидали дела. Это предложение было встречено молодой девушкой с большим восторгом.
За столом Елизавета рассказывала о вчерашнем вечере. Дядя покатывался со смеху.
– В мужестве доктору отказать нельзя, но это, вероятно, последняя чашка чая, которую он выпил в Линдгофе.
– Это было бы возмутительно! – воскликнула Елизавета. – Такого не может и не должна допустить Елена фон Вальде. Она всеми силами воспротивится этому.
– Я хотел бы, чтобы ты расспросила госпожу фон Вальде о ее взглядах относительно доктора, – ответил дядя, – ты была бы вне себя от удивления. Да и как может в таком хрупком создании жить сильный дух? С нею эта деспотичная баронесса, на которую нет никакой узды: до Бога высоко, до царя далеко, как говорится в пословице. Нам пришлось видеть немало чудес с тех пор, как баронесса забрала в свои руки бразды правления. Не правда ли, Сабина?
– Ах да, господин лесничий, – проговорила Сабина, подавая на стол новое кушанье, – как только я подумаю о бедной Шнейдер… Это – вдова работника из деревни Линдгоф, – обратилась она к другим, – она всегда усердно работала, и никто не может сказать о ней ничего дурного, но она должна кормить четверых детей, а живет только своим трудом. И вот прошлой осенью ей как-то пришлось очень туго. Она не знала, что делать с детьми и тут совершила поступок, который, конечно, был скверным: она взяла с господского поля немного картофеля. Управляющий Линке, стоявший за кустом, в один миг выскочил и набросился на бедную женщину. Если бы он только угрожал ей, то была бы еще не беда, но он совсем избил ее и под конец даже стал топтать ногами. Мне в тот день надо было зачем-то сходить в Линдгоф. Поравнявшись с полем, я увидела, что кто-то лежит на земле. Это была Шнейдер. Она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лежала в полном одиночестве. Когда я позвала людей, мне помогли отнести ее ко мне домой. Я ухаживала за несчастной, сколько могла. Все в деревне были злы на управляющего, но что они могли сделать. Управляющий – правая рука баронессы, он всегда представляется очень набожным. Говорили, что дело дойдет до суда, но баронесса стала каждый день ездить в город и все замяли. Да, управляющий и старая горничная баронессы заодно. Они сидят в замковой церкви и примечают, кого нет, и уже немало хороших людей лишились из-за них работы и места.
– Ну, не будем теперь зря сердиться, – сказал лесничий, – мне кусок не лезет в горло, когда я об этом думаю, а воскресенье, которого я жду целую неделю, не должно омрачаться ни малейшей тенью.
Вскоре после обеда к дому подъехал маленький экипаж. Лесничий сел в него, и Елизавета тотчас же оказалась рядом. Посылая привет остающимся, она окинула их взглядом и испугалась до глубины души, увидев глаза, смотревшие на нее из верхнего этажа. Голова тотчас же снова исчезла, но Елизавета узнала Берту. Видела, что на нее был направлен взгляд, полный ненависти и злобы, хотя совершенно не могла представить себе причину этой ненависти. Берта до сих пор проявляла бесконечно недружелюбное отношение к семье Ферберов. Она никогда не выходила, когда Елизавета была в лесничестве. Узнав, что у дяди каждое воскресенье гости, она стала обедать в своей комнате. Лесничий не обращал на это внимания и был, по-видимому, очень доволен, что обе девушки вовсе не встречаются.
Госпожа Фербер тоже сделала попытку сблизиться с молодой девушкой. Со своей чисто женской точки зрения она считала недопустимым, чтобы причинами поведения Берты были упорство и озлобление. Она предполагала какое-нибудь тайное и горе и надеялась, что участливое слово и приветливое обращение снимут печать молчания с уст молодой девушки. Однако, она имела успеха не больше, чем Елизавета, и поведение Берты так возмутило ее, что она запретила дочери всякие дальнейшие попытки сближения с этим человеком.
После непродолжительной езды цель была достигнута. Л. оказался настоящим маленьким провинциальным городком, хотя обитатели его всеми силами стремились в образе жизни и модах подражать жителям столичных городов. Городок расположился в живописном месте и весь утопал в зелени бесчисленных фруктовых садов.
Лесничий привез свою племянницу в дом одного своего знакомого асессора. Она должна была подождать его там, пока он закончит свои дела. Несмотря на любезный прием хозяйки дома, Елизавета с удовольствием повернулась бы и побежала за уходящим дядей, так как, к своей величайшей досаде, застала здесь целое дамское общество.
Хозяйка объяснила молодой гостье, что в день рождения ее мужа предполагается постановка живых картин из мифологии, для чего и собрались сюда все эти дамы. В довольно хорошо обставленной столовой за кофейным столом сидело порядка десяти дам. Они были в мифологических костюмах, оживленно болтали и при появлении Елизаветы оглядели ее с ног до головы.
Все греческие «богини» охотно подчинились власти моды и надели свои белые туники на кринолины. Елизавета подумала, что, весьма возможно, вечернее освещение скроет недочеты своеобразных костюмов некоторых дам, но теперь, при ярком освещении солнца, некоторые из них производили весьма странное впечатление.
Хозяйка дома хлопотливо бегала взад-вперед, время от времени вставляя несколько слов в разговор гостей.
– Вот тебе раз, – проговорила она, входя в комнату после довольно продолжительного отсутствия, – советница Вольф прислала сказать, что ее Адольф заболел и лежит в постели. Получив это известие, я побежала к доктору. Но легче сдвинуть гору с места, чем переубедить этого человека в вопросе воспитания детей. Он повторил свой отказ и при том в еще более резкой форме, чем раньше. Он считает совершенно невозможным, чтобы такие юнцы, как его Мориц, выступали вместе со взрослыми. Он говорит, что они становятся слишком высокого мнения о себе, отвлекаются от занятий, делаются рассеянными и невесть еще что. Я, мол, тоже сделала бы лучше, как сказал он, если бы своему больному мужу… Скажите, пожалуйста, «больному»! Он здоров, как рыба в воде, только немножко страдает ревматизмом. Да, так по словам доктора, для меня было бы лучше приготовить своему больному мужу сегодня вечером его любимое кушанье, чем тешить таким маскарадом, который только нарушит его покой и из которого все равно ничего не выйдет.
– Какое невежество! Как глупо! Он всегда строит из себя ценителя искусства, а сам ничего в нем не понимает! – посыпалось градом со всех дамских уст.
– Утешься, милая Адель, – сказала дама, изображающая Цереру. – Если бы мой муж мог обойтись без Фельса как врача, его ноги давно бы уже не было в моем доме. Когда я в прошлом году устраивала детский маскарад, который ведь прекрасно удался, он наотрез отказался отпустить своих детей. А что он мне сказал, когда я лично пошла просить за его детей? «Неужели так интересно смотреть на обезьянью компанию?» Я этого ему никогда не прощу.
Елизавете вдруг представилось умное лицо доктора с пронизывающим взором и насмешливой черточкой у рта. Она в душе посмеялась над его резкостью, но вместе с тем невольно подумала о том, как трудно иногда бывает человеку поступать соответственно своим взглядам.
– Ах, что же вы хотите? – воскликнула «Флора» – хрупкое, тоненькое создание с очень хорошеньким, но совершенно бледным личикам, которое до сих пор было поглощено своим изображением в зеркале. – С нами он поступил не лучше. Два года тому назад он сказал моим родителям, что не только глупо, но даже преступно так рано начинать вывозить меня в свет при моем сложении. Будто родители не знают, что полезно их детям! Мы прекрасно знаем, чем объяснить подобную заботливость. Младшая сестра доктора в то время была еще не замужем, а таким всегда неприятно появление на балу более молодых. Папа хотел тотчас отказать доктору от дома, однако мама не может обходиться без его лекарств. Но, слава Богу, его советов не послушали и, как видите, я еще жива.
Молчание слушательниц подтвердило мнение Елизаветы, что это торжество весьма сомнительно и что этому хрупкому созданию с узкой впалой грудью и болезненным цветом лица придется тяжело поплатиться за пренебрежение докторскими советами.
Вдруг всех дам привлек к окну нарядный экипаж, проезжавший по улице. Елизавета со своего стула могла видеть всю ее, а вместе с тем и предмет всеобщего любопытства. В экипаже сидели баронесса Лессен и Елена фон Вальде. Последняя обернулась в сторону дома асессора и, казалось, старательно считала в нем окна. Ее щеки имели слегка красноватый оттенок, что служило признаком внутреннего волнения. Баронесса небрежно откинулась на спинку и вроде бы не замечала ни людей, ни домов.
– Дамы из Линдгофа! – воскликнула «Церера», – но что это значит? Они совершенно не обращают внимания на окна доктора. Ха-ха! А ведь там, в окне, его жена! Посмотрите, как у нее вытянулось лицо… Она поклонилась, но у этих дам, к сожалению, нет на затылке глаз!
Елизавета взглянула на противоположные окна. Там стояла очень красивая женщина с прелестным ребенком на руках. В ее голубых глазах, проводивших экипаж, действительно, светилось недоумение, но овал ее цветущего личика нисколько не «вытянулся». Ребенок потянулся ручонками в направлении разукрашенных голов дам в доме асессора. Следуя взглядом за его движениями, она посмотрела в ту сторону и с лукавой улыбкой кивнула дамам, которые отвечали на ее поклон воздушными поцелуями и другими нежными жестами.
– Странно! – удивилась асессорша. – Что случилось с этими дамами, ведь они проехали, не поклонившись. До сих пор они всегда останавливались, докторша по полчаса стояла возле экипажа, и Елена фон Вальде, кажется, находила большое удовольствие в беседе с нею, хотя баронесса и строила при этом очень кислую физиономию. Просто удивительно. Ну, будущее покажет, в чем тут дело.
– Господин фон Гольфельд, вероятно, остался в Оденбурге. Утром, когда экипаж проезжал мимо нас, он находился с ними, – сказала «Диана».
– Как Елена фон Вальде перенесла разлуку? – спросила «Флора», насмешливо улыбаясь.
– Разве уже так далеко зашло?..
– Неужели ты еще этого не знаешь? – воскликнула «Церера». – Что думает он, мы еще не выяснили, но что она страстно влюблена – вне всякого сомнения. Впрочем, можно безошибочно предположить, что любовь существует только с одной стороны. Разве такая несчастная калека может внушить любовь, к тому же такому ледяному человеку, как Гольфельд, не обращающему внимания даже на красавиц?
– Да, это верно, – заметила «Венера», искоса бросая взгляд в зеркало, – но Елена фон Вальде очень богата.
– Ну, он может получить это богатство и за меньшую цену. Ведь он – их прямой наследник.
– Но ведь сам фон Вальде еще может жениться, – произнесла асессорша.
– Ох, не говори мне о нем! – с гневом воскликнула «Церера». – Женщина, которая согласилась бы на это, видимо, еще не родилась и должна свалиться с неба специально для него. Он весь соткан из высокомерия, у него еще меньше сердца, чем у его двоюродного брата. Как я злилась на него в то время, когда была еще барышней, за то, что он на придворных балах стоял у дверей, скрестив руки, презрительно смотря на всех и сдвигался с места только тогда, когда должен был танцевать с княгиней или принцессой. Ведь мы достаточно хорошо знаем, что он думает о той, которую считает достойной славного имени фон Вальде: она должна иметь предков и вести свой род по возможности от тех мужчин и женщин, которые плавали еще в Ноевом ковчеге.
Все рассмеялись. Только Елизавета оставалась серьезной. Поведение Елены фон Вальде произвело на нее глубокое впечатление. Она была возмущена и чувствовала, что ее взгляды относительно человеческого характера начинают колебаться.
Неужели была возможна такая перемена мнения за несколько часов? Для других, с менее идеальными взглядами, чем у Елизаветы, непонятное влияние, которое баронесса оказывала на Елену, было бы вполне объяснимо тем, что последняя любила ее сына. Для Елизаветы же – нет. По ее убеждению, такое возвышенное, идеальное чувство, как любовь, не могло быть причиной каких-либо низких поступков. По ее мнению, Гольфельд вовсе не мог являться воплощением идеала прекрасной женской души. Он не был ни умен, ни остроумен, отличался большим самомнением и хотел производить на женщин впечатление не только своей наружностью, но и внутренним содержанием, а поэтому напускал на себя молчаливость и замкнутость, давая людям повод предполагать, что за этими качествами скрываются разные другие – не имеющиеся у него достоинства. Среди мужчин у Гольфельда не было ни одного друга. Из хитрости он никого не пускал в свою душу, а дамы вполне удовлетворялись «жесткой скорлупой» и утешали себя надеждой на «сладкое ядро». Гольфельд прекрасно умел рассчитывать, и для достижения блестящего положения в свете не останавливался ни перед какой интригой, для которой у него была в качестве камер-юнкера при дворе самая благоприятная почва.
Елизавета очень обрадовалась, увидев экипаж дяди, поворачивающий за угол, и облегченно вздохнула, когда села рядом с ним. Она сняла шляпу и с удовольствием подставила свой лоб прохладному вечернему ветерку.
Лесничий несколько искоса посмотрел на молчавшую племянницу. Вдруг он сложил вожжи и кнут в одну руку, а другой взял Елизавету за подбородок и повернул ее лицо к себе.
– Ну-ка, покажись, Эльза! Что означают эти хмурые складки на лбу? Что-то случилось там? Выкладывай-ка скорее, в чем дело. Ты рассердилась на что-нибудь?
– Нет, дядя, я не рассердилась, но мне было очень больно, что твои предсказания относительно Елены фон Вальде оправдались, – ответила Елизавета, краснея от волнения.
– Тебе было больно, потому что я оказался прав, или потому, что Елена фон Вальде поступила нехорошо?
– Потому что ты предрекал гадкие вещи.
– Ну, а какое же обстоятельство принесло победу моим отвергнутым взглядам?
Эльза рассказала ему о поведении Елены и сообщила предположения дам. Лесничий улыбнулся.
– Ах, уж это бабье, а дамы в особенности! – проговорил он, – они уже женят людей, которые видятся в первый раз в жизни. В этом отношении они, пожалуй, правы чего только не делается ради любви! Хотя я нисколько не оправдываю слабость и уступчивость Елены фон Вальде, но не так строго сужу ее теперь. Любовь есть сила, которая заставляет нас забывать отца и мать ради одного человека.
– Вот этого-то я не могу совершенно понять! Как можно совсем чужого человека любить больше, чем отца с матерью? – с жаром заявила Елизавета.
– Гм, – пробормотал лесничий, слегка трогая кнутом спину Гнедого, чтобы немного подогнать его и, ничего не возразив, продолжал: – пока дело обстоит так, мое определение любви не будет понятно для тебя, если бы я даже обладал красноречием ангела.
А он сам!.. Давно прошли те времена, когда он вырезал имя любимой женщины на коре дерева, нежно пел любовные романсы. Когда он бегал за много верст, чтобы поймать один только взгляд, и считал смертельным врагом всякого, кто осмеливался взглянуть на его возлюбленную. Теперь, оглядываясь назад, он с удовольствием вспоминал то безумное время, но передавать словами все свои волнения, радости, отчаяние больше не мог.
– Видишь черную полосу там, за лесом? – спросил он после непродолжительного молчания, указывая бичом в направлении синеющих гор.
– Да, это флагшток на замке Гнадек. Я уже давно видела его и испытываю громадное наслаждение при мысли, что на этом кусочке земли мы дома, и что никто не может согнать нас оттуда. Слава Богу, у нас есть родина!
– Да еще какая! – сказал лесничий, окидывая окрестность блестящими глазами. – Еще будучи маленьким мальчиком, я всегда мечтал о тюрингенском лесе. В этом виноваты рассказы дедушки. Он провел здесь свою юность и знал массу всяких легенд и сказок. Изучив свое дело, я приехал сюда. В то время весь этот лес еще принадлежал фон Гнадевицам, но я не хотел поступать к ним на службу, потому что слишком хорошо знал их по рассказам деда. Я был первым из Ферберов, отказавшихся служить у них, и нашел место у князя Л… Наследник последнего Гнадевица продал часть леса князю Л., пожелавшему увеличить свои лесные владения и давшему за них хорошую цену. Таким образом, мечта моей юности осуществилась: я поселился в доме, который был, так сказать, колыбелью Ферберов. Ведь ты знаешь, что мы родом из Тюринга.
– Да, еще с детства.
– А знаешь ли ты, как обстояло дело?
– Нет.
– Правда, с тех пор прошло уже много времени, и я, пожалуй, единственный человек, знающий это. Но история эта не должна быть предана забвению, и потому ты услышишь ее от меня теперь, чтобы потом передать когда-нибудь ее дальше. Около двухсот лет тому назад… Видишь, наше генеалогическое древо тоже не молодо, только жаль – мы не знаем, кто была наша родоначальница. Если тебя спросит баронесса Лессен, например, или кто-нибудь другой в этом роде, ты спокойно можешь ответить с полной уверенностью, что мы происходим от знатной дамы, а может быть, это была какая-нибудь маркитантка – дело-то происходило во времена Тридцатилетней войны. Ну-с, около двухсот лет тому назад, в одно прекрасное утро, жена охотника Фербера, открывая наружную дверь, ту самую, которую ты можешь видеть и теперь, нашла на крыльце маленького ребенка. Она поспешно захлопнула дверь, потому что в это время в окрестностях бродило много цыган, и она решила, что это такое же поганое создание. Но муж ее был человечнее и взял ребенка в дом. Это оказался новорожденный мальчик. На груди у него была записка, в которой выражалась просьба приютить ребенка, родившегося в браке и в святом крещении нареченного Иоанном, и обещание подробности о нем сообщить впоследствии. В пеленках нашли кошелек с небольшим количеством денег. Жена охотника была в общем хорошей женщиной и, узнав, что это ребенок христианских родителей, взяла его и воспитала со своими девочками. Это было его счастье, потому что из его родных никто больше не показывался. Позднее его приемный отец усыновил его и в довершение своего счастья он женился на своей молочной сестре. Он, его сын и внук служили егерями потомкам Гнадевицев, жили и умерли в нынешнем доме. Только мой дед был переведен в силезское поместье. Будучи мальчиком, я страшно сердился, что после многих лет не появилась какая-нибудь графиня, которая узнала бы в приемыше своего украденного сына и торжественно водворила бы его в свой родовой замок. Но потом я вполне смирился с этим, да и наше имя мне так нравится, что я не хотел бы менять его. – Лесничий наклонился и, указав Елизавете сквозь чащу ветвей, спросил: – Видишь эту белую точку?
Белой точкой оказался чепец Сабины, сидевшей на крыльце. Увидев экипаж, она поспешно встала, высыпала содержимое своего передника, оказавшееся массой незабудок, в корзину, и помогла Елизавете выйти.
Гнедой с радостным ржанием побежал во двор, где его ожидал работник. Лесничий пошел в дом, чтобы заменить свой форменный сюртук на удобную домашнюю куртку и затем с газетой и трубкой вернулся под липу.
– Какое глупое времяпровождение для такой старой бабки, как я! – рассмеялась Сабина, проходя мимо Елизаветы, усевшейся на пороге и принявшейся за продолжение гирлянды, начатой старушкой. – Но я уже привыкла так с детства. У меня в комнате висят два маленьких портрета моих покойных родителей, они, без сомнения, заслужили, чтобы я чтила их память и плела им веночки, пока есть цветы. Каждое воскресенье деревенские ребята приносят мне свежие незабудки, а сегодня я получила их столько, что хватит на веночек и для Эльзочки. Вы положите его в воду, и он простоит всю неделю.
Елизавета еще долго сидела у дяди. Перед лесничим промелькнул ряд воспоминаний, пришли на ум различные планы, решения и предположения, разрушенные действительностью. Теперь он совершенно спокойно говорил об этом, как человек, стоящий на твердой почве и только слышащий грозный прибой волн.
– Вот, – сказала через некоторое время Сабина, надевая Елизавете на голову венок из незабудок, – так вы его донесете до дома неизмятым.
– Ну, пусть он так и останется, – со смехом проговорила молодая девушка, вставая. – Большое спасибо за прогулку. Спокойной ночи, дядя, спокойной ночи, Сабина.
С этими словами она побежала через двор в сад и вскоре уже двигалась по лесной тропинке, ведущей в гору.
Наверху, в гостиной, горела лампа, ее свет был ясно виден, несмотря на луну. Когда Елизавета очутилась на опушке, на дорогу упала какая-то тень. Это оказалась незнакомая мужская фигура, стоявшая в стороне от дороги, но увидев испуг девушки, направившаяся к ней. «Приведение» вежливо сняло шляпу, и страх у Елизаветы моментально испарился, потому что она увидела улыбающееся, добродушное лицо пожилого, изящно одетого господина.
– Простите, я, кажется, испугал Вас, – проговорил он, приветливо поглядывая на нее поверх очков. – Но я не посягаю ни на вашу жизнь, ни на кошелек. Я – самый мирный путешественник и очень хотел бы знать, что означает этот огонек, который светится там, наверху, в развалинах. Впрочем, в данную минуту я убеждаюсь в праздности своего вопроса, потому что в них поселились эльфы и феи, одна из которых стоит передо мною, готовая наказать меня за вторжение в заколдованный круг.
Это галантное сравнение, как бы банально оно ни было, в данный момент оказалось очень удачным, так как молодая девушка в белом платье, с венком на голове, при свете луны действительно напоминала сказочный образ.
Елизавета в душе посмеялась этому комплименту, но с огорчением подумала, что вовсе не похожа на такое эфирное создание и решила немедленно высказать это пожилому господину.
– Мне очень жаль, что придется вернуть вас к суровой действительности, – ответила она, – но при всем желании я не могу видеть в этом огоньке ничего другого, кроме света настенной лампы в уютной комнате письмоводителя лесничества.
– Э, – рассмеялся незнакомец, – что же он, живет один в этих неприветливых старых стенах?
– Он мог вполне отважиться на это, потому что над теми, «кто идет по пути истины, злые духи не властны», но его одиночество разделяют еще некоторые живые существа, среди которых, между прочим, две породистые козы и прелестная канарейка, не говоря уж о совах, которые ведут теперь очень замкнутый образ жизни, так как оживленная деятельность людей не согласуется с их взглядами.
– Я думаю, они избегают яркого солнечного света, который засиял теперь в развалинах.
– Бедные совы! – со смехом воскликнула Елизавета и, слегка поклонившись, заторопилась дальше, потому что ее родители только что вышли из калитки и направлялись ей навстречу.
Они очень обеспокоились, услышав голос Елизаветы и какого-то незнакомого мужчины. Когда молодая девушка рассказала им о своей встрече, они побранили ее за то, что она пустилась в разговор с незнакомцем.
– Твои легкомысленные речи могли иметь очень неприятные последствия. К счастью, это были люди из общества.
– Люди? – с изумлением прервала их дочь. – Но ведь он был один.
– Ну, тогда оглянись, ты еще сможешь увидеть их.
Действительно, на крутой дорожке, ведущей под гору, еще виднелись две светлые мужские шляпы.
– Ты видишь, мамочка, эта встреча была вполне безопасна. Один из них даже не решился выйти из кустов, а у другого такое добродушное лицо, что вряд ли он может быть разбойником.
В своей комнате Елизавета осторожно сняла венок и, положив его на тарелку, поставила перед бюстом Бетховена. Затем она поцеловала спящего Эрнста и пожелала спокойной ночи своим родителям.
9
– Эльза, да не беги же так! – крикнул лесничий, выходя на другой день с ружьем через плечо из леса на лужайку, ведущую к дому. Елизавета бежала под гору, ее шляпа висела на руке, косы блестели на солнце. Она со смехом бросилась в объятия дяди, а затем, сунув руку в карман, отступила на шаг и спросила с улыбкой:
– Угадай-ка, что у меня в кармане, дядя?
– Ну, что же там может быть? Тут, не придется особенно ломать голову. Вероятно, клочок сентиментального сена, несколько засушенных цветков или кусочек печатной мировой скорби, заключенной в золоченый переплет.
– К сожалению, оба раза мимо, господин лесничий. Во-первых, потому что я не сержусь на ваши слова, а во-вторых… Вот, смотри!
Она вынула из кармана маленькую коробочку и приподняла крышку. Там, на зеленых листиках, лениво потягивалась толстая гусеница. Ярко-желтого цвета, с черными точками, косыми синевато-зелеными полосками и кривым рогом на хвосте.
– Батюшки, «сфинкс атропос»! – с восхищением воскликнул лесничий. – Однако, постреленок, где же ты раздобыла этот чудный экземпляр?
– В Линдгофе, на картофельном поле. Не правда ли, она хороша. Так, теперь мы хорошенько закроем коробочку и спрячем…
– Как, я не получу этой гусеницы?
– Нет, ты можешь получить ее, но только за плату.
– Ну и ну, ты, кажется, превратилась в торгаша-еврея? На вот тебе десять пфеннигов, давай сюда гусеницу!
– Боже упаси! Меньше, чем за тридцать, я ее не отдам. Всякие заплесневелые пергаменты, до которых противно дотронуться, ценятся на вес золота. Неужели же такое прекрасное произведение природы не стоит тридцати пфеннигов?
– Старые заплесневелые пергаменты! Сказала бы ты это какому-нибудь ученому – то-то бы тебе попало!
– Ах, здесь, в свежем зеленом лесу их нет!
– Берегись, господин фон Вальде…