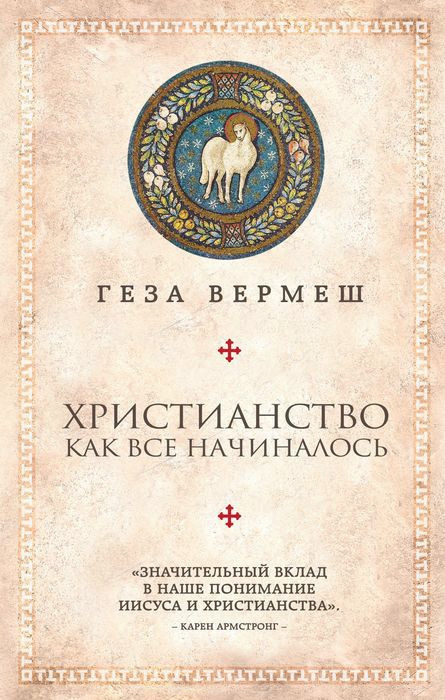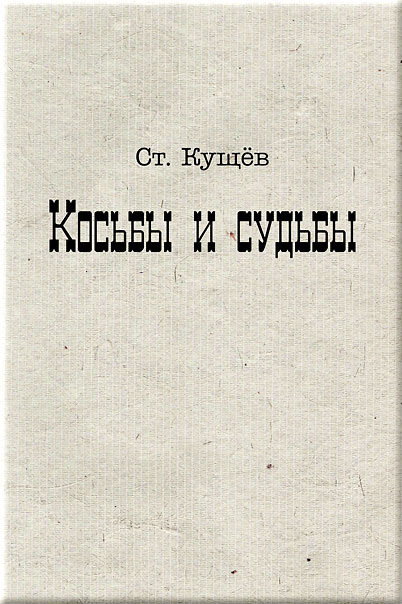Пес. Книга историй Покровский Александр
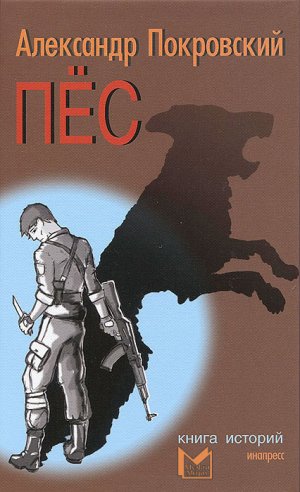
– Сосновый! Как заказывали!
– Тут какая-то ошибка, товарищ!
– Какая ошибка? А заказ? А наряд? Ты Свиридов?
– Ну?
– Что «ну»? Деньги давай! Еще сорок рублей!
Надо заметить, что в те времена сорок рублей были большими деньгами. С ними до Магадана можно было доехать.
– Всего восемьдесят, так? – не унимался мужик.
– Ну, допустим, так, а я-то здесь при чем?
– Сорок за тебя ребята заплатили, остальное – ты!
– Какие ребята?
– Вася! – крикнул мужик за дверь, – тут платить не хотят!
– Кто? Где? – послышалось с лестницы, а потом там раздались шаги. От них сотрясался весь дом. Когда Вася зашел в прихожую, заполнив ее под потолок, стало ясно, что деньги придется отдать.
Причем все.
– Да ты смотри, какой товар! – никак не унимался мужик. – Дерево, не хухры-мухры! А запах? Смолой же пахнет! Ему там хорошо будет! Год пролежит чистенький! Доски! Ни одного же сучка! Материя! Чистый шелк! А бантик?
Получив деньги, мужик успокоился, сделал себе скорбное лицо и, выходя, пропел:
– Пусть в вашем доме это будет последнее горе!
Жена от всех этих разговоров все-таки проснулась.
– Кто там? – спросила она, потягиваясь.
– Гроб! – сказал командир.
– Что? – сказала она.
– Гроб!
В этот момент в дверь позвонили. За дверью стоят тип в черном пиджаке. У него был очень прилизанный вид.
– Вы Свиридов? – спросил тип очень вкрадчиво.
– Мы! – сказал командир, и ему внесли в дом венки.
– Обратите внимание! – заговорил при этом тот, в пиджаке. – Надписи на лентах: «От друзей и просто так, знакомых», «От скорбящих неуемно женщин», «От родных и любящих ни за что» и «Я ушел от тебя, непрестанно рыдая».
– Может быть, «неприлично рыдая»? – усомнился командир.
– «Неприлично»? Сейчас проверим! – тип достал какие-то бумажки, порылся в них, нашел нужное и сказал: – Нет, все так! Проверили остальные?
– Проверили, – немедленно кивнул командир.
– Тогда с вас еще двадцать рублей.
После ухода того, в пиджаке, какое-то время было тихо.
– Что это, Саша? – спросила жена.
– Это? – задумчиво протянул командир.
Ответить ему не дали. В дверь позвонили. За дверью была целая команда.
– Оркестр когда подавать?
– Оркестр?
– С катафалком!
– С катафалком?
– Ну да! Кстати, надо утвердить репертуар. «Прощайте, скалистые горы» сказали обязательно надо.
– Хорошо!
– И «Варяга»!
– И «Варяга».
– Тело сами обмывать будете?
– Тело?
После оркестра, катафалка и обмывалыциц с плакальщицами наступило относительное затишье.
– Надо гроб вынести на лестницу, – осенило вдруг командира. – Может, кто-нибудь его там украдет! – Вид у него был самый безумный, отчего жена сейчас же кивнула и начала бестолково метаться по квартире.
Через пять минут после того как он вынес гроб, в дверь позвонили.
За дверью мялся какой-то субъект.
– Там ваш гробик… – откашлялся он.
– Ну?
– Гробик, говорю, ваш…
– Ну?
– Его могут скоро украсть…
– Ну?
– А гробик-то хороший…
– Ну?
– Вещь, одним словом…
– Ну?
– Это я насчет помощи от соседей…
После этого командир сказал жене почему-то шепотом:
– Надо его на улицу отнести. Тут его никогда не украдут. Тут его, похоже, охраняют. Все стерегут!
И он вынес гроб на улицу.
Через мгновение в дверь позвонили. За дверью стояла решительная старуха.
– Там на улице ваш гроб! – сказала старуха.
– Да!
– Его скоро украдут. Сопрут!
– Да!
– В дом надо занести. Гроб – вещь, а этот очень хороший, крепкий. Сто лет пролежит.
И тут командира осенило.
– Бабушка! – вскричал он. – А может, я вам его подарю! А? Воспользуетесь при случае!
– Ирод! – взвизгнув, пошла на него старуха. – Я, может, дольше тебя проживу!
Он еле успел захлопнуть перед ней дверь.
К исходу дня гроб так и не сперли.
Командир сам оттащил его на пустырь, с грохотом волоча по асфальту.
Там он целый час рубил его топором.
С грудным хряканьем.
О ней
Ах, Россия, Россия!
Все вокруг тебя кружится, кипит, тянет в сторону, образует и смерчи погибельные, и опасные водовороты, куда затаскивает, крушит, переламывает, перекручивает, перекореживает, перемешивает, перерождает, а потом выносит на поверхность свежими волнами.
Вокруг тебя идут великие преобразования мира, и что-то обязательно происходит, случается.
А в тебе, за исключением нескольких городов, жизнь течет размеренно и сонно.
Так и кажется, что из-за поворота дороги, утопая колесами в теплой пыли, появится красивая рессорная небольшая бричка, в которой по российским дорогам ездят одни только холостяки, а при приближении можно будет рассмотреть и лицо ее пассажира – холеное лицо Павла Ивановича Чичикова, помещика по своим надобностям.
И отправится он снова собирать свои бессмертные мертвые души, чтоб затем с немалою выгодой перепродать их любимому государству.
А у самого леса на дорогу может выехать Илья Муромец с Добрыней Никитичем и с Алешей Поповичем и, приложив руку ко лбу, станут они высматривать воинство поганое, чтобы учинить с ним битву раздольную.
Ох и битва та, ох и битва! Пойдет битва та – не удержитесь. Свист стрел, скрежет, звон мечей да рычанье людей, и лошади падают, топчутся, мечутся по полю, и несутся они вскачь, потеряв седоков.
А молодцы все сражаются, И рукой они махнут – ляжет улочка, а другой рукой – переулочек.
А в самом том лесу тишина, глухота, а на старом дубу Соловей сидит, Соловей сидит, на тебя глядит.
Или бабушка-карга из чащобы выскочит, сверкнет глазом и опять нырнет, уйдет в чащобу, и только сердце твое заполошится.
А потом не дай тебе бог встретить самого Ивана-царевича, потому что не в духе он, рыщет-свищет-мается.
То ли смысл своей жизни ищет, то ли от жизни постылой спасается.
То ли оправданием дел своих занят.
В эти минуты не следует ему на глаза попадаться с тем, что ты знаешь, где зарыт меч-кладенец.
«Уйди, бабуля! – скажет он, даже если ты совсем не бабуля. – Зашибу!»
И зашибет.
Пополам переедет и на косточках твоих покатается, потому как в печали великой пребывает наш благодетель.
Это ж сколько на него всего понадвинулось!
Тут успей, туда долети, здесь доделай, а там и воеводы опять лихоимствуют и режут без ножа простой народ, о котором единственном и печалится сокол наш ясный.
А вот и песня нас отвлечет. Тихо льется она над родимой степью, и не видно певца в ней, не разобрать и слов, но так сладко, так томительно сладко пение то, такое редкое в нем различимо разноголосье, будто не один там певец, а много их, будто все мы, как один человек, как один человек… но полноте, полноте, слов-то нет, и одни только раны, и так больно все сжалось, что и слезы уже на глазах, а в мыслях только она – Россия!
Потеря
От удара головой об угол стола у Ильи Ивановича откололся кусочек детства.
Отскочил и улетел куда-то в кусты.
Точнее сказать, он ударом был извлечен из того сегмента памяти, где совсем еще маленький Илья шел на нетвердых ножках, направляясь на мамин зов «Тю-тю-тю!».
Вот его движение в том направлении еще сохранилось, а потом – все, темнота.
Вот что было потом? Потом же что-то было. И он точно помнил – да, вот оно.
Илья Иванович неделю ходил сам не свой. Автономка, последние сутки похода, скоро домой, а у него – нет, отскочило, причем во сне, – и сразу в кусты.
Кусты тоже были во сне, а удар был снаружи – ударился он во сне головой о стол, причем вместо стола под височной костью оказалась та часть койки, за которую надо держаться, когда на нее влезаешь. Поручень такой. Вот об него и…
Интересно, как же теперь без этих воспоминаний?
Он обратился к приятелям. Приятелей было два – Саша и Гоша.
– Слушай, – сказал он Гоше.
– Да?
– Тут такое дело.
– Ну?
– Я вот в прошлый раз головой ударился…
– Ну?
– И кое-что из головы…
– Выпало? – быстро спросил Гоша.
– Как ты догадался?
И тут Гоша начал хохотать. И чем дольше он всматривался в Илью Ивановича, тем больше он хохотал. Он просто заходился от смеха, подвывал, скрипел легкими, приседал, показывал на него пальцем: «Ой, не могу!» – хватался за колени, падал на четвереньки.
А Илья Иванович мрачнел, на все это глядя.
– Ну? – спросил он. – Ты закончил?
– Я-то? – все еще всхлипывал Гоша.
Гоша был идиот и командир группы дистанционного управления.
– Ты-то! – сказал Илья Иванович.
– Я закончил, – совершенно серьезно сказал Гоша, собой овладев. – Расскажи, пожалуйста, поподробней, – попросил он смиренно, – как все это произошло.
И Илья Иванович рассказал все подробно, как он шел, маленький, растопырившись, а потом – вжик! – и кусты.
– А в кустах-то что было? – заинтересовался Гоша.
– В кустах?
– Ну да! Может быть, там все так и лежит?
Илья Иванович посмотрел на него с великим подозрением.
– Да чего там может быть в кустах! – вступил в разговор приятель Саша. Он все это время сосредоточенно молчал – ни одной в глазах смешинки. – Вот я однажды очнулся в кустах…
Саша тоже был идиотом и командиром группы дистанционного управления.
И вообще, с этого момента Илья Иванович стал подозревать, что все офицеры на корабле идиоты, хотя не все они были командирами групп дистанционного управления, но все приняли в поисках воспоминаний Ильи Ивановича самое живое участие. Они подходили и живо интересовались, не нашел ли он эти свои воспоминания детства и как он теперь планирует свою жизнь с искаженными воспоминаниями или совершенно без оных.
Стоило только Илье Ивановичу войти в кают-компанию, как его сейчас же спрашивали:
– Ну что? Нашел?
А заместитель командира его даже молча обнял и попросил держаться.
Старпом сказал, что он обнимать его не собирается, пусть его другие пидорасы обнимают, а он уж как-нибудь потерпит, но только если он те воспоминания найдет где-либо, так пусть сразу же его, старпома, известит. В любое время дня и ночи.
– В любое! – подчеркнул старпом.
А помощник командира сказал, что, несмотря на старпомовские рассуждения насчет пидорасов, он готов не только Илью Ивановича обнять, но даже и расцеловать, если ему, Илье Ивановичу это поможет в поисках.
– Помнишь, как у двух капитанов Каверина? – спросил помощник и продолжил: – «Искать и не сдаваться!» Я тут недавно читал Каверина. Все у него полная херня, конечно, но это в меня сильно запало!
А доктор попросил к нему потом зайти – словом, все проявили участие.
И с каждым часом напряжение только нарастало.
Уже команда «По местам стоять, к всплытию!» – а у него все никак.
Командир даже спросил у старпома:
– Ну, чего там? Нашел?» – на что старпом только покачал головой.
И тут Илья Иванович снова ударился головой, но только не во сне, а наяву. Он шел по проходному коридору, а там у нас из трубопроводов вентиляции, как вы знаете, все время торчат болтики, кончик у которых все время выглядывает.
Очень больно на него напарываться.
Вот Илья Иванович и напоролся.
И тут же – яркая вспышка, и воспоминание вернулось: мама приняла его в свои объятия.
Это я
Говор тихий, говор задушевный и прерывистый, волнительный, торопливый; говор чуть слышный, шепот горький, шепот страстный. Сперва и не понимаешь вовсе, на каком языке это говорят, а потом тебя осеняет: ба, да это же русский язык, а ты и не уразумел, не учуял сразу, никак не мог, не вник.
Ты отвык от такой речи. Ты приучил себя к выкрикам и командам, а тут такое тихое, неспешное бормотание.
Ночь. Ночь все небо выпростало, выстлало звездами, и у каждой свой тон, свой неповторимый блеск, отличный от соседнего.
Ты давно не видывал ночь. Ты только закрывал глаза во время кратких часов сна там, под водой, и она тебе являлась. Приближалась она не спеша, боясь спугнуть, и глушила, затапливала собой все вокруг, а после устраивалась со всеми своими удобствами и никуда тебя уже не отпускала.
Похожа ли она на то, что тебе грезилось?
Похожа. Почти одно и то же, но только живее она, лучше и душистее, что ли.
Запах моря приносит ветер. И сразу зябко, но хорошо.
Ветерок только шалит, гладит кожу.
Как же все тут правильно устроено. Как же все тут томительно и сладко.
Земля. Она все время была с тобой. Там, под водой, далеко от твоего дома.
Над тобой переплетение труб, палуб, переборок и два корпуса – легкий и прочный.
И еще над тобой толща воды в сто метров, а под тобой – километры синей мглы.
Глубоко. Океан – и ты в нем один. Совсем один, особенно по ночам, когда лежишь на узкой койке в каюте под самым потолком, потому и видится тебя земля.
А хорошо там, на земле! Ой как на ней хорошо, вольно – иди куда хочешь, делай что вздумается, и сразу грезятся женские руки. Они обвивают, обнимают тебя. Сначала они только касаются тебя нежно, и ты немедленно успокаиваешься, заполошное дыхание твое становится ровнее, тише.
Чего это ты разволновался, зашелся ни с того ни с сего? Приснилось, почудилось?
Эва! Конечно, тебе что-то привиделось. Непонятно что, но стало тревожно – оттого и сердце сразу заколотилось. Брось, все в прошлом, ты уже дома. Ты шел и шел через ночь, ты шел один, и ты дошел – вот он, твой дом, там тебя ждут.
Стучись в дверь скорее! Что, боязно, непривычно? Стучись!
И ты стучишься. Ты не звонишь в дверь, потому что не любишь звонков – их всегда у тебя было много, они режут слух. Ты стучишься, а из-за двери: «Кто там?»
Вот теперь самое время, говори же: «Это я!»
Посильная помощь
– Андрей Антоныч, мы должны оказать посильную помощь молодежному движению «Наши»!
Мы сидим в кают-компании на завтраке – я, зам и Андрей Антоныч.
Андрей Антоныч с утра не в духе, и я бы на месте заместителя помолчал бы, но «Остапа понесло».
– Вчера получено распоряжение из штаба флота!
Андрей Антоныч ест сушку. Мы уже съели все, что было на этот час в буфетной, так что догрызаем эти удивительные творения человеческой цивилизации. Во рту Андрей Антоныча сушка пропадает сразу. Он запивает ее чаем из гигантской кружки. На замовское воркование он пока никак не реагирует.
– Следует составить план мероприятий по организации встречи!
– Эти «Наши» что-то вроде нового комсомола, что ли? – вопрос старпома обращен ко мне.
– Движение «Наши» возникло в недрах… – вмешался было зам.
– В недрах, говоришь? – Андрей Антоныч бросает все это без тени насмешки, но я чувствую фронтальной своей частью, что этим дело не закончится.
– Тут важен патриотический настрой…
– Настрой, говоришь…
Андрей Антоныч пока немногословен, но все может измениться в одно мгновение. Я делаю вид, что выскребаю из сахарницы остатки сахара.
– Это не те патриоты, что вокруг эстонского посольства недавно плясали? – думаю, Андрей Антоныч спросил это у меня.
– Те.
– А до того они еще какие-то книжки очень вредные жгли, кажется.
– Да нет, Андрей Антоныч, по-моему, они их только рвали.
– Ну да это все равно. Комсомол уничтожает книжки, а потом у него истерика у ворот. Вот такая борьба. Теперь! Так чего они от меня хотят, Сергеич? Чтоб я их еще чему-то научил? Книжки, к примеру, они уже рвать умеют. По-моему, достаточно. Как считаешь?
– Андрей Антоныч, в распоряжении штаба…
– Ты мне тут штаб не плети… – обрывает его старпом, а я стихаю со своей сахарницей – началось. – Эта молодая безграмотная хунвейбинщина возникла не в штабе. У нас корабль отстоя. И мы готовимся к утилизации. Какую посильную помощь я им могу оказать? Отдать корабль на разграбление? Так у нас здесь грабить уже нечего! Плакатами они будут тут по отсекам трясти? Кто это там в нашем штабе на инициативу исходит? А, Сергеич? Эти «Наши» небось даже не знают пока, что они к нам уже едут? Я прав?
– Патриотическое движение… – попробовал зам вставить слово.
– Движение у них? Куда? Куда у нас может происходить движение? Они меня тут патриотизмом будут лечить? Или они у меня хотят им запастись, чтоб потом у ворот всей Европы благим матом орать? Зачем они сюда едут? А? Не знаешь? Тут жизнь, а не прокламация! Тут дерьмо, в котором мы все сидим по уши! Им что, дерьма не хватает? Они на асфальте! В столице нашей Родины должны тоской по этой самой Родине исходить, а у меня тут тундра! У меня молодежь делом занята, и как там е…тся ваши пионервожатые, она давно не помнит! Она служит! Что это за записной патриотизм? Патриотизм по случаю? Всех сюда через военкоматы, и у них сразу название поменяется! «Наши»! На мне обороноспособность одной, отдельно взятой воинской части! И я не паяц, чтоб плясать по команде! Я зверь другой формации! У меня тут совсем иной вой! Не шакалий! Учтите! Все!
В общем, «Наши» к нам не приехали.
Где-то они по дороге свернули.
Орденская ленточка
– Вот! Всем желающим надо раздать!
Зам в каком-то месте нарыл орденских ленточек по случаю праздника Великой Победы, и теперь я их должен всем желающим раздать.
Конечно, в первую очередь я напоролся на старпома.
– Что это? – мимо Андрей Антоныча на корабле муха не пролетит.
– Орденские ленточки. Зам велел всем желающим раздать.
Старпом повертел ленточку в руках, а потом вызвал в кают-компанию зама. Зам явился тут же. В приподнятом настроении.
Его настроение не укрылось от старпома.
– Сергеич! – обратился к нему старпом ласково, – это что такое?