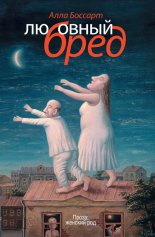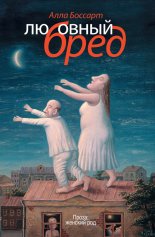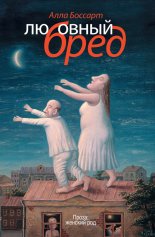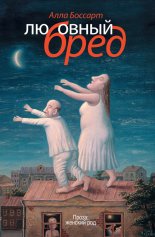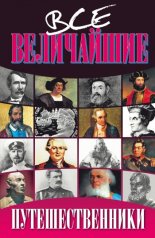Издранное, или Книга для тех, кто не любит читать (сборник) Слаповский Алексей
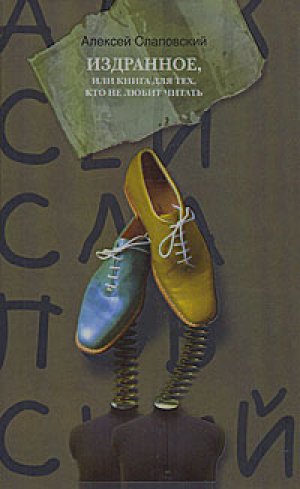
Но Емельянов не успокоился, страдал, роптал, обвинял Оксану и т. п.
Ей это надоело, она сказала:
— Да ну тебя, дурак!
И ушла.
Ушел и Емельянов — в запой.
Это случалось с ним редко, раз в три-четыре года, но уж если случалось, то тяжело, громоздко, масштабно.
Выйдя из запоя, Емельянов обнаружил, что серебристую свою машину продал, а деньги продул легкой рукой, забредя случайно в казино, что здоровье придется теперь поправлять не меньше года, и без зарядки не обойтись, что Петя Кантроп не желает с ним больше иметь никакого дела.
И он — догадайтесь, что сделал?
Правильно, вздохнул с облегчением.
Мораль, с одной стороны, очевидна и давно выведена: «Не в свои сани не садись». Но особенность нашего времени именно в том, что многие люди свои родные сани считают не своими, ошибочными, не хотят смириться с их кармической безысходностью, а вот чужие сани как раз кажутся своими, по ошибке доставшимися другим людям. Вот мы и прыгаем из розвальней в кареты и наоборот, вот и становятся философы товароведами, а товароведы философами.
Но знаете, что я вам скажу?
Вы удивитесь, но я скажу: мне это, в общем-то нравится, хотя в этом нет ничего хорошего.
Мне не нравится только социальная ориентированность. Я ее просто ненавижу. Хотя и сознаю, что это остатки псевдоинтеллигентности. Каждому по вкусам его, вот какой мыслью надо успокоиться. Не судить, не рядить и не пытаться. Человек естественный, Homo naturalis, вот образец нашей эпохи. Хочется кому-то писать умные слова в книге — пусть (все равно никто не читает). Хочется кому-то в телевизоре лапать девушкину грудь с ее одобрения — пусть. Это весело.
А Емельянов остается при своих, ему же хуже. Он вернулся к своему образу жизни и пытается написать книгу о своем хождении в социально ориентированное пространство, но у него ничего не получается, бесплодно висит над ненаписанным текстом эпиграф, который он у кого-то выкопал: «Быть неестественным — естественное состояние человека, стремящегося преодолеть свое естество, если он считает его противоестественным».
Книгу он так и не напишет.
А вот мысль о естественности неестественного приведет его к новым поворотам в жизни, о которых речь — впереди.
Как Емельянов День пограничника отметил
Иван Емельянович Емельянов, как и все потомственные интеллигенты советского образца, испытывал отвращение ко всему, что форма, строй или, напротив, толпа. Когда всех много и все вместе. В детстве он ненавидел стоять на утреннике в галстучке или с комсомольским значком, в единообразной одежке — черный низ, белый верх, и распевать бодрые песни безголосым голосом. В юности не любил демонстраций и субботников. В зрелости ни разу не ходил на футбольные или хоккейные матчи, не принимал участия в массовых акциях защиты или, напротив, протеста.
Он всегда был сам по себе, хоть и мысленно заодно с передовыми людьми своего времени.
Он даже, господа патриоты и генералы, не служил в армии. Впрочем, на законном основании: учился на военной кафедре и получил офицерское звание после сборов. Ни звание, ни офицерские знания ему ни разу в жизни не пригодились.
И вот однажды, а точнее, 28-го мая, он шел вечером по улице и заметил, что вокруг довольно много людей в одинаковых зеленых фуражках.
Пограничники, предположил Емельянов.
И был прав.
Но Емельянову, в отличие от вас, господа генералы и патриоты, мало просто быть правым, ему надо увиденное всесторонне осмыслить.
В частности: есть ведь еще День танкиста, День военно-морского флота, День военного строителя и даже, кажется, День моряка-подводника, в общем, по всем родам войск, но только пограничники и вэдэвэшники, то есть воздушные десантники, отмечают свои праздники с такой помпой, с таким накалом. Особенно десантники. Почему? Может, они рискуют жизнью больше других, а оттого и фронтовая дружба крепче — следовательно, и желание встретиться в мирной жизни? Но воины, к примеру, внутренних войск подвергаются опасности в не меньшей, а, возможно, большей степени, однако на улицы в свой день, 27-го марта (справился после Емельянов), не выходят. Почему? И стройбатовцы не выходят. И прочие.
И Емельянов сделал такой вывод: все дело в форме. Только у пограничников такие ярко-зеленые фуражки, только десантники ходят в таких беретах и таких безрукавных тельняшках (на плече при этом желательна татуировка).
Им легко отличить друг друга в любой толпе — и их все видят издалека. А надень пехотинец свою фуражечку общеармейского образца, ну и что? Да ничего. Никакого ощущения избранности. А без ощущения избранности, как известно, праздник невозможен.
Вот «погранцы» и ликовали. Отрадно было видеть, как они, встречаясь на улице или проезжая навстречу друг другу по эскалаторам метро, или входя-выходя в вагоны, приветствовали своих: махали руками и дружно кричали: «У-у-у-у-у!» Или: «О-о-о-о-о-о!» Или: «А-а-а-а-а-а!»
А если в близком контакте — обнимались, хлопали друг друга по плечам. Как можно крепче.
Отметил Емельянов также усиленные наряды милиции.
И перестал об этом думать, продолжая гулять.
А гулял он на Арбате, потому что, хоть и не любил толпы, но ему занятно было находиться в ней инкогнито — не смешиваясь.
Естественно, многочисленные арбатские ларьки в этот день бойко торговали военной атрибутикой, в первую очередь зелеными фуражками. Большинство пограничников были в своих головных уборах, но некоторым требовалось: у кого-то, например, в прошлом году выкинула раздосадованная жена, кто-то порвал околыш или сломал козырек, а кто-то и вовсе потерял в веселой драке с ментами или подвернувшимся под руку гражданским населением. При этом, конечно, посторонние не рисковали покупать и тем более надевать такие фуражки или панамы цвета хаки (для тех, кто служил в жарких пустынях южных границ, когда еще эти границы были). Упаси бог обнаружится, что ты не свой — снесут фуражку вместе с башкой: не смей, не тронь святого. Тут ведь, выражаясь по блатному, надо строго отвечать за базар, а базаром как раз фуражка и является.
Емельянов остановился лишь на минутку, посмотреть. Но расторопный торговец, ошибочно приняв интерес в глазах Емельянова за конкретный, одним движением нахлобучил ему на голову фуражку и подставил зеркало:
— Отлично сидит!
Емельянов хотел снять фуражку и уйти, но тут его ударили по плечу:
— Земеля!
Емельянов обернулся. Увидел мужчину своего возраста (преобладали вообще-то молодые, но встречались люди и совсем почтенных лет, хоть и весьма легкомысленного вида). Тот был красен и возбужден.
— Земеля! Где служил?
— Я? Я в Тоцке… — припомнил Емельянов баснословные тоцкие военные лагеря, надеясь, что мужчина сообразит: Оренбургские степи далеко от границ, каковыми они являлись во время их молодости. Но тот не сообразил. Мало ли Тоцков в бывшем СССР, да и в современной России, уж какой-нибудь из них да находится на границе!
— А я в Чаганлыке! — похвастался мужчина. — Чего один бродишь, пошли с нами!
— Платить кто будет? — обеспокоился продавец.
— Чего?! — презрительно уставил на него ветеран гневный взгляд.
— Я говорю: за фуражечку не заплатили.
Емельянов хотел вернуть фуражку и объяснить недоразумение, но не успел: мужчина выхватил купюру, щедро сунул продавцу:
— На — и заткнись! И только скажи, что мало!
Продавец, конечно, промолчал: сказать, что мало, в такой день и такому человеку было опасно. А если вдруг много, он тем более не сказал бы.
И Емельянова повлекли по Арбату.
Краснолицего сопровождали два товарища, один осоловел уже от выпитого и был сосредоточен на координации движений, время от времени вскидывая голову и расправляя плечи, демонстрируя этим, что он еще орел, а второй, сухой, маленький, нервный, горячо спорил, доказывая, что на его заставе в горном местечке Бешлан-Тюбе было служить гораздо интересней и трудней, чем в Чаганлыке. Краснолицый не соглашался. Спор при этом был мирный: чаганлыкский и бешлантюбинский считали себя земляками по службе, их заставы находились всего лишь в трехстах километрах друг от друга.
Вопросом места службы они интересовались больше всего, встречая других бывших пограничников. Если сосед, то сразу же друг навеки, если служил на той же заставе, хоть и в другое время, то просто как брат, а если встречались полные сослуживцы, знавшие друг друга, но потерявшие связь, это было грандиозное событие, они были даже не братья, а больше — нет такой близкой степени родства, чтобы обозначить, кем они себя чувствовали, обнимаясь, хохоча и проливая скупые мужские слезы.
И с каждой минутой Емельянову было все затруднительнее признаться в недоразумении. Обидеться могут люди, оскорбиться, посчитав его наглым самозванцем, не станут разбираться на словах, а примут действенные меры… Может кончиться плохо. Сначала Емельянов посматривал в переулки, пытался отойти в сторонку, за ларек, за будку, потеряться в скоплении людей, но его отсутствие тут же обнаруживали:
— Земеля! Не отставай!
И Емельянов отдался судьбе.
Их компания становилась все больше, и действия этого стихийного сообщества были так же непонятны и непредсказуемы, как поведение, к примеру, стаи воробьев. Те тоже, если понаблюдать, ведут себя странно: кучей слетятся на забор или дерево, пощебечут, погомонят какое-то время, а потом одновременно и неизвестно почему вдруг снимутся, летят дальше, чтобы вдруг спикировать опять на другое дерево или другой забор, выбранные по непостижимым причинам.
Емельянову пришлось пить пиво из горлышка, водку из пластикового стаканчика, коньяк из фляжки, вино из стеклянной банки…
Через час он шел, обнимая очередного нового товарища и доказывал ему, что Тоцк, брат, это тебе не крендель с маком, это, знаешь ли, серьезно; и товарищ с уважением соглашался, расхваливая в свою очередь белорусские приграничные болота, где он дважды чуть не утонул (вспоминалось это, конечно, с умилением, как лучшие дни жизни).
И Емельянов все больше проникался сутью праздника и атмосферой братства. Он почувствовал гордость от осознания себя неделимой частью воинства, народа, России, в конце-то концов! Но Россия Россией, а их пограничное братство — дело особое. Тут ты за всех, а все за тебя, поэтому кто не понимает — отойди в сторону. Был момент — проходящий старикан хилого интеллигентского вида что-то такое сказал неодобрительное. «У-у-у-у-у!» — тут же надвинулась на него толпа с угрожающем воем, и Емельянов полез вперед, чтобы дать хоть щелчка придурку, портящему праздник. Не успел: старикан с неожиданной прытью скрылся среди прохожих, юркнул в подворотню, исчез. Или: Емельянов не рассчитал положения тела в пространстве, задел стульчик арбатского художника, художник чуть не упал и крикнул: «Осторожней!» Сейчас же все повернулись, готовые наказать обидчика, Емельянов удержал, уговорил простить, но преисполнился при этом благодарности, оценил в полной мере силу взаимовыручки.
Их стало человек двадцать, преимущественно молодежь.
Вдруг как-то выяснилось, что надо ехать на «Измайловскую».
Кучей повалили к метро «Смоленская», спустились, поехали.
По дороге выяснилось, что там, в районе «Измайловской», их ждет какой-то Прохор с компанией. Зачем, почему, вопросов не возникало. Ждет — надо ехать.
Ехали весело — с шумом, с песнями, с распитием пива из пластиковых бутылей по кругу, с добродушным пошучиванием над мирным населением, которое по глупости своей жалось в углы и пугалось — кого? Своих же защитников!
В Измайлове встретились с компанией Прохора. Объятия, восторги.
Пошли дальше.
В пути был неприятный случай: разоблачили человека, который, как кто-то выяснил, считал себя пограничником лишь на том основании, что служил хоть и на границе, но совсем в другом роде войск — был связист. Самозванец, не робея, кричал, что он пограничней любого пограничника, ибо своими руками однажды задержал двух старух-шпионок, тащивших в своих торбах анашу и четыре автомата Калашникова, но Емельянов убедительно объяснил ему, что это ничего не значит — кто раз на скрипке сыграл, даже пусть и хорошо, еще не музыкант! Это сравнение понравилось окружающим.
— Понял, скрипач недоделанный? — закричали они. И прогнали наглеца, дав ему несколько раз по шее. То есть даже и не били всерьез, если говорить объективно. Хоть и следовало.
Тут, кстати, вспомнили о боевых приемах, которыми обязан владеть любой настоящий пограничник. Многие стали их немедленно применять, особенно старательно отрабатывая ножные удары — на деревьях, на стенах домов, на друзьях и товарищах. Не обошлось без неприятности — один перестарался и сломал ногу. Его бережно подняли на руки, вызвали «Скорую».
К сумеркам все постепенно начали уставать. Не хватало цели. А Емельянов подумал, что хорошо бы показаться сейчас жене Виктории, которая считает, чтоб бывший муж никогда не умел себя поставить ни в каком обществе, ни в какой компании. Пусть увидит его не только частью компании, но даже и во главе ее. И он предложил:
— А поехали к Вике!
— К Вике! — тут же подхватил кто-то.
— К Вике! — рявкнули и остальные, оживившись.
Появилась цель.
Опять пошли к метро, спустились, поехали. Емельянов руководил — он один знал маршрут.
Командовал:
— На выход! За мной! Переходим!
И т. п.
Его, конечно, слушались.
Меж тем за ними тенью крался усиленный наряд милиции. Пока не ввязывался: было указание брать пограничников лишь в крайних случаях — чтобы не спровоцировать масштабных драк. Но глаз с них не спускали, переговариваясь по рации. Главным был майор-омоновец, опытный служака, прошедший огонь и воду и знающий толк в пресечении массовых беспорядков.
— Главное — обезвредить зачинщиков, — давал он указания. — Вычисляйте их и будьте наготове. Вон тот мужик, видите, впереди идет — он, похоже, самый главный, — указывал майор на Емельянова.
Уже затемно добрались до дома Вики.
Встали под ее окнами, Емельянов дирижировал, все скандировали:
— Ви-ка! Ви-ка! Ви-ка!
Вика выглянула в окно, не понимая, в чем дело.
Емельянов снял фуражку и помахал ею:
— Вика! Привет! А мы вот тут… празднуем!
— Ты с ума сошел? Чего это ты празднуешь?
— День пограничника! — заявил Емельянов.
— Уа-у-у-у-у-у! — подтвердили ревом его товарищи.
— Какого пограничника, опомнись! Ты и в армии-то не служил! Иди отсюда, перед соседями стыдно!
Все стихло.
Тот, кто не служил в погранвойсках, был для присутствующих человеком заведомо второго сорта. Но тот, кто совсем не служил, это даже не третий сорт, это, если разобраться, вообще не человек!
— Так! — раздался голос. — Земеля, это что за шутки? Это правда?
И даже вы, господа патриоты и генералы, я полагаю, в такой ситуации слукавили бы, тем более, что Вика, поняв свою оплошность, кричала из окна: «Не трогайте его, он просто идиот!»
Но Емельянов не мог солгать. Потомственная интеллигентность допускает вранье по неосторожности, по увлечению, но соврать осознанно, ради спасения своей шкуры? Нет.
И Емельянов, снимая с головы фуражку, сказал:
— Да, ребята. Это правда.
— Ну… — задохнулся кто-то гневом.
— Дайте мне его, падлу! — завопил молодой голос пограничника, сохранившего еще силу. Да и в других силы не иссякли.
И быть бы Емельянову биту, а то и покалечену, если б не милиция. Она набросилась с целью пресечь побоище и, как это часто бывает, побоище именно поэтому и состоялось — масштабное, лихое. Один перелом, четыре вывиха, мелкие повреждения и одна черепно-мозговая травма, таков был итог. Но все остались живы.
А Емельянова под шумок увела Вика, вырвав из его руки фуражку, которую он судорожно сжимал в руке, горестно глядя на происходящее.
Вот и вся история.
Мораль.
Она, возможно, не та, какую вы ожидаете, господа патриоты и генералы.
Мораль: когда гуляете по Арбату, где во множестве продаются нашивки, фуражки, лычки и полностью обмундирование всех родов войск, ничего не покупайте. Не покупайте также значков, орденов, медалей, вымпелов и флажков советского времени. Могут принять за своего. Сначала, конечно, вам будет очень приятно. Но можете увлечься. Посчитать себя действительно своим. И вам же в результате будет плохо. Гарантирую.
Как Емельянов женщину, которая его любила, не любил, а женщину, которая его не любила, полюбил
Емельянова в жизни тоже любили женщины, несмотря на его потомственную интеллигентность, которая в наши времена скорее отвращает — хлопот с ней много. Вы сами знаете, господа артисты и меломаны: женщина предпочитает обращение хоть и деликатное, но прямое и точное. Для нее все просто: если мужчина говорит «раз», то обязан сказать и «два». Ну, то есть, если не имеешь намерения жениться, то не зови, гад, вечером кофе попить. И напротив — когда прощаешься, то уходи, не тяни душу. Нормальный мужчина так и поступает. «Иди ты к черту!» — говорит. И исчезает. Без объяснений. Оно, конечно, обидно, зато все ясно. А как поступает интеллигент? Он поступает глупо, безвольно и, если вдуматься, подло. Часто, позвав выпить кофе, он только кофе и имеет в виду. А когда собирается уйти после многих совместных счастливых лет, начинает жевать: «Не кажется ли тебе, что в последнее время что-то у нас иногда местами как-то немного не так? Скорее всего, это я во всем виноват, но, полагаю, прояснилось несовпадение каких-то наших психофизических параметров, и я начинаю задумываться, не пора ли нам направить наши отношения в другое русло с перспективой их вовсе прекратить?»
— Сиди уж, лопай! — отвечает женщина. — Задумывается он! Параметры его не устраивают!
Возможно, она говорит не так. Возможно, тоже интеллигентка, она выражается следующим образом: «Видишь ли, я согласна, что у нас где-то что-то местами немного не так, а иногда даже весьма не так, но прежде, чем принимать какие-либо решения, надо всесторонне обсудить проблему и, возможно, в итоге мы увидим, что ее нет вообще!»
И т. д., и т. п.
Морока.
— Мужчина — воин на коне, — задумчиво сказал однажды Лагарпов, родственник Емельянова, — а женщина цепляется за стремя, когда он стремится в битву. И тут так — либо ударить плеткой по рукам, чтобы отцепилась, либо, жалея, волочить ее за собой и в результате покалечить.
— А может, сойти, обнять и успокоить? — спросил Емельянов.
— Ну, сойди. А биться за тебя другие будут?
Слишком долгое вступление грозит вылиться в мораль, а мораль у нас будет, как обычно, в конце.
После многих мытарств Емельянов вернулся в свое родное учреждение.
И пришла туда на работу довольно милая женщина Ольга Чибирева. Местные женщины вскоре узнали: разведена, дочь десяти лет, снимает квартиру, поскольку сама из Астрахани, где не нашлось работы по ее специальности и интересам.
Как-то Емельянов неосторожно поднял папку, которую она уронила. Ольга поблагодарила лучистой улыбкой и пошла на свое место.
И стала с этого момента посматривать на Емельянова как-то выжидательно. Дескать, что же ты? Папку поднял, как джентльмен, а дальше? Неужели на этом все твое джентльменство кончилось?
Однажды они одновременно вышли с работы. Холодная весна, дождь моросит. А рядом кафе. Не зайти ли? — предложил Емельянов. Ольга с улыбкой согласилась.
Ну, посидели в кафе, поговорили о том, о сем, оказалось много общих тем. Женщина отогрелась, похорошела, рассказала о своем детстве и прочла стихотворение Марины Цветаевой.
После этого они дружелюбно расстались.
А Емельянова начало что-то грызть.
Сидит и чувствует, как в затылок ему впивается взгляд Ольги. И даже грезится ее мысленный шепот: «Ну, что ж ты? Папку поднял, в кафе пригласил — и все?»
Емельянов отгонял эти видения, крепился.
Через месяц, в субботний день, Ольга, зная телефон Емельянова, позвонила ему и сказала, что находится неподалеку от его дома: приехала в большой магазин электротоваров за чайником.
— А откуда вы знаете, где я живу? — спросил Емельянов.
— Так вы сами говорили! — засмеялась Ольга.
Что ж, он позвал ее выпить чаю.
Попили чаю, поговорили, она читала стихи Марины Цветаевой. Глядь — ночь на дворе.
— Давайте я вам такси вызову? — предложил Емельянов, внутренне коробясь от бестактности предложения.
— Хорошо, — сказала Ольга, печально глядя в сторону.
— А можете и остаться, — исправился Емельянов. — Место найдется.
— Удобно ли? — засомневалась Ольга.
— Вполне! — воскликнул Емельянов.
И Ольга осталась.
Но того, о чем вы подумали, господа артисты и меломаны, не случилось. Емельянов, во-первых, не имел привычки сразу набрасываться на женщину, даже и симпатичную. Во-вторых, он думал о последствиях. В-третьих, он в это время был влюблен совсем в другую женщину, о чем позже. В-четвертых, как это ни покажется вам невероятно, господа артисты, мужчины не всегда имеют должный физиологический настрой. Не хочется им, да и шабаш, что с ними, сволочами, поделать?
Емельянов лежал на раздвинутом кресле, ворочался, мучался. Потом не выдержал, окликнул Ольгу, которая тоже не спала, и честно, по пунктам, признался ей в том, что выше перечислено.
— Да я ничего такого и не ждала! — успокоила его Ольга. — Надо же, какой ты мнительный!
Через неделю, опять в субботу, вечером, она позвонила Емельянову и, смеясь и плача, призналась ему в любви. Сказала, что разглядела в нем неординарного человека. Что это как маленький атомный взрыв. Что она не может с собой справиться. Читала стихи Марины Цветаевой.
Что сделали бы вы, господа артисты и меломаны? Правильно, поблагодарили бы и сказали: очень приятно, но — извини. Не совпало.
Емельянов так и сказал.
— Не верю! — ответила Ольга. — Сейчас я приеду к тебе!
— Не надо! — крикнул Емельянов.
Через час она приехала с другого конца Москвы. Стояла внизу и звонила в домофон. Опять вопрос, господа артисты и меломаны: ваши действия?
Женщина ведь под дверью!
Молодая, симпатичная!
Любящая.
Ну вот, и Емельянов поступил так же.
Ольга осталась на ночь. И на следующую ночь. И еще на одну — она не была ничем стеснена, так как отправила дочку в Астрахань к бабушке.
Неделю Емельянов терпел, хоть и при этом наслаждался, но наслаждался, как бы это сказать, поневоле. Как бы нехотя.
А потом сказал:
— Все. Извини. Не совпало. Я так не могу.
— Хорошо, — сказала Ольга.
И ушла.
На другой день Емельянову стало совестно.
На третий — совсем худо.
Ведь женщина от меня ничего не хочет и прямо об этом говорит, размышлял он. Она не захватчица, ее не интересует прописка или моя квартира, она просто влюбилась.
И он позвал ее к себе. Но сказал:
— Я врать не люблю. У меня, извини, душа молчит. Но ты мне нравишься вообще-то. Ты мне подходишь. При этом учти: у меня свои привычки. Я, например, привык спать один.
— Хорошо, — сказала Ольга.
Через неделю они спали вместе.
— Ладно, — сказал Емельянов. — Вместе так вместе. Но учти, я люблю под своим одеялом. Автономное пространство, понимаешь? Я даже когда женат был, так спал. Не люблю этой супружеской фамильярности.
— Хорошо, — сказала Ольга.
Но через неделю как-то так получилось, что они оказались по одним одеялом. Причем Ольга не настаивала, просто… То ли второе одеяло в чистку пошло или стирку, то ли еще что-то… Неважно.
— Я еще от прежней семейной жизни не очухался, — сказал Емельянов через месяц. — А получается, будто мы уже парой живем. Извини, но я не могу. Хочешь приезжать — приезжай. Но только по выходным.
Ольга согласилась — тем более, что как раз устроилась на другую работу, которая отнимала много времени.
Она приезжала по выходным и иногда в будни, по вечерам.
— Честно предупреждаю, — говорил Емельянов. — Кончится лето — кончится всё. Ты мне нравишься, ты мне всем подходишь, но — не совпало.
— Хорошо, — грустно сказала Ольга.
И Емельянову стало совестно, и он повез ее в Турцию, к морю, чтобы ей было не так больно расставаться.
Осенью вернулась дочь Ольги, у которой начались школьные занятия.
Как и было намечено, отношения прекратились. На некоторое время. Потом приехала мама Ольги помочь дочери, у Ольги появилась возможность навещать Емельянова. Он не противился, хотя регулярно говорил:
— Пора бы нам… Извини… Не совпало…
— Да мне от тебя ничего не нужно! — улыбалась Ольга.
На новогодние каникулы Ольга привезла к Емельянову дочку Стешу — не сидеть же девочке одной дома.
Стеша оказалась прелестной девочкой, хоть и безмерно при этом капризной, помыкающей матерью так же беспредельно, как Ольга к этому времени помыкала Емельяновым — правда, в отличие от дочери, без капризов, без требований. Само собой получалось. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!» — навсегда сказал А.С. Пушкин, хотя и по другому поводу.
Праздники они провели так, как хотела Стеша: ходили в кино, в «Макдоналдс», по вечерам смотрели комедии с приторно кривляющимися американскими комиками и фильмы ужасов, которые Стеша обожала. На досуге Ольга читала вслух стихи Марины Цветаевой.
— Извини, Оля, — сказал Емельянов. — Я рад видеть тебя и общаться с тобой. Но еще и дочь — это слишком. Я не готов. Если бы у нас с тобой совпало — другой разговор. Но не совпало.
— Хорошо, — сказала Ольга. — Только вот беда, хозяйка просит освободить квартиру. Пока другую буду искать, ума не приложу, куда вещи девать…
— Ко мне пока можно, — хмуро сказал Емельянов.
Два дня перевозили вещи.
Они громоздились узлами и ящиками в прихожей, на балконе, по углам.
Пока суть да дело, приближалось опять лето.
— Извини, — сказал он Ольге, — но летом — всё. Отправишь дочь к родителям, и пусть там остается учиться. А мы… Мы тоже расстанемся. Ты мне очень нравишься. Ты мне подходишь. Но — не совпало.
— Хорошо, — сказала Ольга. Отправила Стешу к родителям, потом даже отгрузила туда вещи. Не сразу, правда, но к осени управилась.
— Ну вот, теперь все. Мне было очень хорошо с тобой, я буду скучать, — сказал Емельянов. — Но что я могу поделать? Не совпало.
— Хорошо, — сказала Ольга. — Правда, я беременна.
Емельянов онемел.
Дальше, господа артисты и меломаны, я не буду длинно рассказывать.
Вкратце: Емельянов еще два года прожил с Ольгой, а потом все-таки отправил ее в Астрахань вместе с сыном (он не сумел полюбить ребенка от нелюбимой женщины).
Жестоко?
Да.
А вы как хотели?
Маленькое уточнение: Ольга сама решила уехать, поскольку свои слова о том, что «рад бы, да не совпало», Емельянов стал произносить не раз в месяц или в неделю, как раньше, или даже в день, что еще терпимо, а по десять, а то и двадцать раз на дню. Ей просто это надоело.
Вы скажете: как могла женщина мириться с таким, прямо скажем, унизительным положением?
Но на это существует кем-то выдуманный афоризм: «Любовью унизить нельзя». То есть и другого нельзя, и себя, так понимать? Наверно, так.
Правда, Емельянов неоднократно повторял Ольге постмодернистское изречение одного из современных писателей, укравшего его у другого, у классика, и переиначившего: «Мы ответственны за тех, кто нас приручает!».
Она понимала — но не понимала.
Ведь величие женщины именно в том, чтобы уметь не понимать, не видеть, не замечать, не помнить то, что она понимать, видеть, замечать и помнить не хочет.
Зря куковал Ольге Емельянов свое «не совпало»: она не желала этого слышать, следовательно — не слышала.