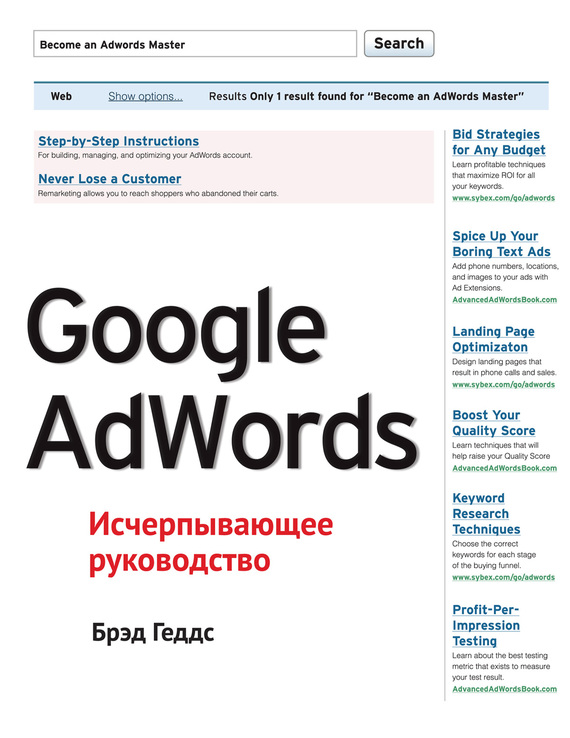Дитя волн Сюпервьель Жюль

Мух тоже попросили удалиться, но те, в силу природной недоброжелательности, остались, мотивируя это тем, что всегда были здесь. Иосиф просто не знал, как их уговорить.
От сверхъестественных явлений и событий, происходивших вокруг, у вола то и дело перехватывало дух. Научившись задерживать дыхание, как это делают аскеты в Азии, вол стал мечтателем, и, хотя радость от величия происходящего смешивалась с покорностью и смирением, он познал мгновения настоящего экстаза. Тем не менее вол был животным на редкость совестливым, именно совесть руководила всеми его поступками, и это почему-то мешало ему представлять в своих мечтаниях ангелов и святых. Он видел их лишь тогда, когда они и в самом деле появлялись поблизости.
«Бедный я, бедный, – думал вол, напуганный этими явлениями, – ведь я всего лишь вьючное животное. Или все-таки демон? Почему у меня такие же рога, как у него, – у меня, который никогда не творил зла? А может, я всего лишь колдун?»
Иосиф не мог не заметить, каким беспокойным стал вол, худевший прямо на глазах.
– Иди на луга и поешь там! – повышал он голос. – Целыми днями путаешься под ногами. Скоро от тебя останутся кожа да кости.
И вол с ослом ушли.
– Верно, ты очень худ, – заметил осел. – Твои кости так торчат, что скоро по всему телу вырастут рога.
– Хватит о рогах!
И вол сказал тогда себе: «Он прав. Да, надо жить дальше. Возьмем, например, эту роскошную охапку зелени. Или эту. Что, неужели это отрава? Нет, я просто не чувствую голода. Как же прекрасен младенец! А эти большие создания, которые влетают и вылетают, непрестанно машут крыльями? Весь этот небесный мир, который с такой легкостью проникает, не пачкаясь, в наш простой хлев. Ладно, вол, жуй свою жвачку и не думай больше об этом. А еще не позволяй себе просыпаться от счастья, которое вытаскивает тебя за уши из сна прямо посреди ночи. И не стой подолгу возле яслей, преклонив одно колено, пока оно не заболит. У тебя шкура стерлась до костей, еще немного, и твои раны облепят мухи».
Однажды наступил черед созвездия Тельца дежурить на темном полотнище ночного неба над яслями. Огненно-красный глаз Альдебарана величественно сиял совсем близко. Казалось, воловьи рога и бока украшены огромными драгоценными камнями. Вол гордился тем, как хорошо охраняют ребенка. Все мирно спали. Уши осла доверчиво поникли. Но вол, хотя его и подбадривало сверхъестественное присутствие родственного и дружественного созвездия, чувствовал необыкновенную слабость. Он размышлял о жертвах, которые принес ради младенца, о бесполезных бдениях возле яслей, о своих слабых попытках обезопасить Иисуса.
«Видит ли меня созвездие Тельца? – думал он. – Знает ли этот огромный красный глаз, что так грозно сверкает, о моем существовании? Ведь эти звезды сияют так высоко, они так далеки, что непонятно даже, каким боком они смотрят».
Внезапно Иосиф, который уже несколько минут ворочался на своем ложе, встал и воздел руки к небу. Всегда такой сдержанный в жестах и словах, он разбудил всех, даже младенца.
– Я видел во сне Господа. Нам нужно немедленно уходить. Это все Ирод. Он озлился на Иисуса.
Дева схватила сына и прижала к себе, будто царь иудеев уже стоял на пороге с большим мясницким ножом в руке.
Осел поднялся на ноги.
– А этот? – спросил Иосиф Деву, показывая на вола.
– Мне кажется, он слишком слаб, чтобы отправиться в путь вместе с нами.
Вол хотел показать, что с ним все в порядке. Он сделал невероятное усилие, чтобы подняться, но никогда еще не чувствовал себя так крепко прикованным к земле. Тогда, моля о помощи, он устремил свой взгляд на созвездие Тельца. Только на него он и мог сейчас уповать, стремясь отправиться в путь. Небесный бык не шелохнулся, вол всегда мог видеть только его профиль, а глаз всегда был огненно-красным.
– Уже много дней он ничего не ел, – сказала Дева Иосифу.
«О-о! Я понимаю, они хотят оставить меня здесь, – подумал вол. – Все было слишком прекрасно, чтобы длиться еще и еще. Впрочем, в пути я выглядел бы костлявым, все время отстающим призраком. Мои ребра уже устали от шкуры, мне ничего не хочется, пора собираться на небесные пастбища».
Осел подошел и потерся своей мордой о морду друга, давая ему знать, что Дева уже вверила вола заботам соседки и попросила добрую женщину ни в чем ему не отказывать, после того как семейство отправится в путь. Но вол лежал, смежив веки, полностью раздавленный происходящим.
Дева приласкала его.
– Конечно же, мы никуда не уходим! – воскликнула она. – Это все только затем, чтобы попугать тебя.
– Разумеется, – подхватил Иосиф. – Мы тотчас же вернемся. Кто отправляется в дальний путь посреди ночи?!
– Ночь прекрасна! – продолжала Дева. – Мы хотим, чтобы младенец подышал свежим ночным воздухом, последние дни он что-то побледнел.
– Святая правда! – подтвердил Иосиф.
Но то была святая ложь. Вол все понимал и не хотел мешать сборам, поэтому сделал вид, что впал в глубокий сон. И это была святая ложь с его стороны.
– Он заснул, – прошептала Дева. – Давайте положим рядом с ним солому из яслей, чтобы он ни в чем не нуждался, когда проснется. Оставим рядом флейту, чтобы он мог до нее дотянуться, он ведь так любит играть на ней, когда никого нет поблизости.
Они собираются выходить. Скрипит дверь хлева.
«Давно надо было ее смазать», – думает Иосиф, боясь разбудить вола, но тот по-прежнему притворяется спящим.
Дверь осторожно закрывается.
И в то время, когда осел, друг по хлеву, шаг за шагом начинает приближаться к спасительному Египту, глаза вола неотрывно прикованы к соломе, на которой только что лежал младенец Иисус.
Вол прекрасно знает, что никогда не прикоснется ни к этой соломе, ни к флейте.
Созвездие Тельца стремительно возвращается в зенит и одним ударом рога пригвождает себя к небу в том самом месте, которое оно больше никогда не покинет.
Когда на заре соседка вошла в хлев, челюсти вола уже перестали жевать бесконечную жвачку.
Незнакомка из Сены
«Я думала, что останусь на дне реки, но вот – поднимаюсь к поверхности», – путаясь в мыслях, думала девятнадцатилетняя утопленница, влекомая подводным течением.
Как только она миновала мост Александра, ее охватил жуткий страх – эти безжалостные люди из речной полиции били ее по плечу баграми, безуспешно пытаясь зацепить за платье.
К счастью, надвигалась ночь, и они оставили свои попытки.
«Ну, выловят меня, – размышляла она, – придется лежать перед этими людьми на столе какого-нибудь морга. И не сделаешь ни малейшего движения, чтобы защитить себя или отскочить в сторону, там ведь даже и мизинцем не шевельнешь. Чувствовать себя мертвой, когда гладят твою ногу. И ни одной женщины, ни одной женщины вокруг, которая обсушила бы твое тело и приготовила его в последний путь».
Наконец она покинула пределы Парижа и плыла теперь меж берегов, поросших деревьями и луговыми травами. Днем она старалась пристать к какой-нибудь заводи, чтобы путешествовать только по ночам, когда лишь звезды и луна скользят по рыбьей чешуе.
«Только бы добраться до моря, ведь я не боюсь теперь самых высоких волн».
Она все плыла, не ведая, что на ее лице сияет трепетная, но все же неугасимая улыбка, конечно, более неугасимая, чем на лице живого человека, с которым каждую минуту может случиться все, что угодно.
«Добраться до моря» – эти три слова сопутствовали теперь ей в путешествии по реке.
Глаза закрыты, ноги согнуты, руки раскинуты по воле волн, горло, уже за границей жизни, все еще искало силы для вдоха… Утопленницу раздражало, что один чулок сполз и ниже колена образовалась складка. Она смиренно плыла и плыла, кружась в потоке, не ведая иной дороги, кроме этой старой французской реки, которая, повторяя из века в век одни и те же извивы, слепо струилась к морю.
Проплывая через какой-то город («Где я – в Манте? в Руане?»), утопленница ненадолго застряла в омуте неподалеку от пролета моста, и только волна от проходившего мимо буксира освободила ее и позволила отправиться дальше.
«Никогда, никогда я не доберусь до моря», – думала она глубокой ночью на третьи сутки путешествия в воде.
– Но вы уже у цели, – раздался совсем рядом мужской голос, и она догадалась, что это был крупный мужчина, совершенно обнаженный.
Он привязал ей к лодыжке кусок свинца и взял за руку так властно и уверенно, что она, наверное, не смогла бы сопротивляться, даже если б была не маленькой утопленницей, а чем-то иным.
«Надо покориться ему, делать нечего».
И тело девушки стало опускаться все глубже и глубже. Когда они достигли долгожданных песков на дне моря, к ним устремилось множество фосфоресцирующих существ, но мужчина – это был Великий Мокрец – жестом остановил их.
– Доверьтесь нам, – сказал он девушке. – Ваша ошибка в том, что вы еще хотите дышать. Пусть вас не пугает, что вы больше не чувствуете сердца, – оно уже почти не бьется, разве лишь когда ошибается. И не сжимайте так плотно губы, будто боитесь наглотаться морской воды. Она для вас сейчас то же, что вы раньше называли питьевой водой. Вам больше нечего опасаться, слышите, нечего. Чувствуете, как к вам возвращаются силы?
– Ах, я сейчас упаду в обморок!
– Ни в коем случае. Чтобы свыкнуться с обстановкой, наберите горсть песка – он у вас под ногами – и перекладывайте его из одной руки в другую. Это не так просто. Вот, вот так, хорошо. И побыстрее восстанавливайте чувство равновесия.
Сознание полностью вернулось к ней. И вдруг утопленницу вновь охватил ужас. Как же так – не было произнесено ни единого слова, а она прекрасно понимала этого обитателя морской пучины? Впрочем, ее испуг длился недолго: она догадалась, что мужчина изъясняется исключительно свечением своего тела. И еще она увидела на своих хрупких обнаженных руках блестки света, они были точно маленькие светлячки. Другого способа общения Струящиеся – так звали жителей подводного мира – не знали.
– А теперь могу я узнать, откуда вы? – спросил Великий Мокрец, который все время поворачивался к ней в профиль – по обычаю Струящихся, только так мужчина мог держаться с девушкой.
– Я ничего больше не знаю о себе, не помню даже собственного имени.
– Ну что же, отныне вы будете Незнакомкой из Сены, вот и все. Поверьте, мы и сами знаем о себе не больше. Учтите только, что здесь расположена большая колония Струящихся и среди нас вы никогда не будете несчастной.
Она заморгала, как будто ей мешал избыток света, и тогда Великий Мокрец дал знак рыбам-фонарикам удалиться, оставив подле себя лишь одну. Да, здешним обитателям светили рыбы-фонарики, подолгу остававшиеся на одних и тех же местах.
Люди разного возраста с любопытством приблизились к Великому Мокрецу и Незнакомке из Сены. Все они были обнажены.
– У вас есть какое-нибудь пожелание? – спросил Великий Мокрец.
– Я хотела бы остаться в платье.
– Вы в нем останетесь, это очень просто.
В глазах жителей морской пучины, в их медленных, исполненных грации жестах сквозило желание услужить новенькой.
Ей очень мешал привязанный к ноге свинец. Она хотела освободиться от него или, по крайней мере, ослабить узел, как только никого не будет поблизости. Великий Мокрец угадал ее намерения.
– Ни в коем случае не трогайте груз, умоляю вас. Вы потеряете сознание и всплывете на поверхность, если только удастся прорваться сквозь мощные кордоны акул.
Девушка сдалась и, подражая окружающим, стала раздвигать руками водоросли и отгонять рыб. Здесь было много рыбешек, которые, словно мошкара, с любопытством водили хороводы вокруг Незнакомки и даже касались ее лица и тела.
Одна-две (редко три) большие домашние рыбы постоянно следовали за каждым Струящимся, охраняли его и оказывали мелкие услуги: держали во рту всякие предметы или снимали со спины прилипшие водоросли. Они спешили на помощь по первому знаку, а то и до него. Порой их угодливость даже раздражала. В глазах домашних рыб можно было прочитать простодушное и неистовое обожание, что, впрочем, многим нравилось. И никогда не случалось, чтобы они поедали мелких рыбешек, которые тоже прислуживали Струящимся.
«Почему же я бросилась в воду? – думала новенькая. – Я даже не знаю, кем была там, на поверхности. Девушкой? Женщиной? Моя бедная головушка заполнена теперь только водорослями и ракушками. Мне очень хочется сказать, что все это чрезвычайно печально, но я в точности не представляю, что означают эти слова».
Обратив внимание на понурый вид Незнакомки, к ней приблизилась девушка, которая утонула двумя годами раньше, ее здесь называли Простой.
– Вот увидите, дорогая, пребывание в глубинах моря дает чувство защищенности, – сказала она. – Только нужно время, чтобы ваша плоть преобразилась, стала тяжелее, – тогда тело не всплывет на поверхность. И забудьте о желании есть и пить. Это детство у вас быстро пройдет. Надеюсь, вскоре из ваших глаз выплывут самые настоящие жемчужины, если, конечно, вы подождете немного. Жемчужины – первейший признак акклиматизации.
– Чем же здесь занимаются? – спросила Незнакомка из Сены, воспользовавшись паузой в разговоре.
– О, тысячами вещей! Здесь никто не скучает, уверяю вас. Мы опускаемся на большие глубины в поисках утопленников-одиночек и приводим их сюда, чтобы укрепить нашу колонию. А какую радость испытываешь, когда удается найти отчаявшегося, который уверен, что уже приговорен к вечному одиночеству в этой гигантской хрустальной тюрьме! Он все время спотыкается и запутывается в морских растениях. Как же он прячется! Ему всюду мерещатся акулы. И вдруг появляется такой же, как он, человек и уносит его – словно санитар с поля битвы – туда, где ему уже нечего опасаться.
– А вам часто попадаются затонувшие корабли?
– Всего один раз я видела, как сквозь толщу воды опускались тысячи и тысячи предметов, предназначенных для жизни на поверхности. Мы получили сверху самые различные вещи: столовую посуду, чемоданы, канаты, даже детские колясочки. Нужно было оказать помощь запертым в каютах пассажирам, освободить их от спасательных поясов. Самые сильные Струящиеся кинжалами разрезали путы, а потом, спрятав оружие, как могли успокаивали спасенных. Все припасы были распределены по складам, которые находятся под землей – так мы зовем морское дно.
– Но зачем вам это? Ведь здесь никому больше ничего не нужно.
– Мы притворяемся, что приберегаем это на черный день.
Появился мужчина, который вел в поводу лошадь – великолепное животное, хотя немного перекошенное. Лошадь была исполнена достоинства и почтительности, и еще в ней чувствовалось приятие смерти, все это было достойно восхищения. А серебряные пузырьки воздуха на крупе!..
– У нас очень мало лошадей, – сказала Простая. – Здесь это большая роскошь.
Подойдя к Незнакомке из Сены, человек придержал лошадь, на которой было седло амазонки.
– Это вам от Великого Мокреца, – произнес он.
– О, надеюсь, он меня простит, но я еще недостаточно окрепла.
И отвергнутое прекрасное животное повернуло обратно – столь величественна была его поступь, столь ослепителен блеск, что, казалось, ничто на свете не могло его взволновать или обескуражить.
– Здесь всем распоряжается Великий Мокрец? – спросила Незнакомка из Сены, хотя уже успела в этом убедиться.
– Действительно, он самый сильный из всех наших и лучше других знает окрестности. Он настолько ловок, что может подниматься почти до поверхности. Самые простодушные из Струящихся считают, что Великому Мокрецу известны все последние новости о солнце, звездах и людях наверху. Но это не так. Главное – его замечательная способность подниматься выше всех и спасать заблудившихся утопленников, а это уже немало. Да, он из тех существ, о которых на земле никому не известно, зато здесь, под водой, они пользуются огромным авторитетом. Там, наверху, изучая историю, вы не найдете никаких сведений ни о французском адмирале Бернаре де Ла Мишлет, ни о его жене Пристине, ни о нашем Великом Мокреце, который, будучи простым юнгой, утонул в двенадцатилетнем возрасте, но так хорошо освоился в подводной среде, что вымахал до устрашающих размеров и стал настоящим гигантом.
Незнакомка из Сены не расставалась со своим платьем, даже когда ложилась спать. Это была единственная вещь, которая осталась у нее от прошлой жизни. Незнакомка ухитрялась так уложить складки вечно мокрого платья, что они придавали ее фигуре просто волшебную элегантность в глазах множества лишенных одежды женщин, а мужчинам не терпелось разглядеть очертания ее нежной шеи.
Девушка хотела, чтобы ей простили привязанность к платью, и она жила особняком, жила скромно, может быть, даже чересчур скромно, проводила дни, собирая ракушки для ребятишек или для самых обездоленных, искалеченных утопленников. Она всегда первой со всеми здоровалась и часто извинялась, порой без малейшего повода.
Каждый день Великий Мокрец навещал Незнакомку из Сены, они подолгу беседовали, фосфоресцируя, и казались при этом маленькими рукавами Млечного Пути, целомудренно вытянувшимися друг подле друга.
– Мы не должны удаляться от побережья, – сказала она ему однажды. – О, если б я могла подняться по реке против течения, чтобы послушать звуки города или хотя бы различить звонок ночного трамвая, опаздывающего в депо…
– Бедное дитя! Какие ужасные воспоминания! Вы забыли, что мертвы, и если вы сделаете подобную попытку, вас заключат в худшую из тюрем. Живые не любят, когда мы блуждаем среди них, и немедленно наказывают за бродяжничество. А здесь вы свободны и в безопасности.
– Разве вы сами никогда не думаете о том, что происходит наверху? Меня просто преследуют какие-то беспорядочные воспоминания, и я очень несчастна. Вот прямо сейчас мне видится хорошо отлакированный дубовый стол, совершенно пустой. Стоит ему исчезнуть, появляется кроличий глаз. А теперь – след воловьего копыта на песке. Бесконечная процессия картинок, они ничего не говорят мне, просто являются, и все. Иногда мне мерещатся сразу две картинки, совершено несовместимые. Вот, я вижу цветущую вишню в водах озера. А что мне поделать с этой чайкой в кровати, с куропатками на стекле чадящей лампы? Я не знаю ничего более безысходного, чем эти осколки жизни, лишенные жизни, может, это как раз то самое, что и называется – смерть?
Про себя же она добавила: «И как называть вас, лежащего возле меня, вечно в профиль, – павшим воином в плавучей льдине?»
Из-за платья, которое Незнакомка из Сены не снимала ни днем, ни ночью, все матери запретили своим дочерям с ней общаться.
Одна потерпевшая кораблекрушение женщина, которая никак не могла найти успокоения, потому что ее разум после смерти помутился, сказала:
– Да ведь она живая. Я вам говорю: эта девушка живая. Будь она как мы, ей было бы все равно, носить платье или нет. Наряды не для мертвых.
– Замолчите же, у вас совсем ум за разум зашел, – возразила ей Простая. – Как, по-вашему, она может оставаться живой здесь, под водой?
– Да, верно, под водой нельзя выжить, – удрученно согласилась сумасшедшая, будто внезапно вспомнила урок, выученный давным-давно.
Это, впрочем, не помешало ей повторить через несколько минут:
– А я вам говорю, она живая!
– Оставьте нас в покое! Вот ненормальная! – воскликнула Простая. – В конце концов, есть же вещи, о которых просто не дозволено говорить.
Но даже она, всегда считавшаяся лучшей подругой Незнакомки из Сены, как-то подошла к ней, и на ее лице было написано: «Я на вас тоже обижена».
– Почему вы так дорожите своим платьем здесь, в морской глубине? – спросила Простая.
– Мне кажется, оно защищает меня от всего, пока мне непонятного.
Тогда одна из женщин, которая накануне уже набрасывалась на нее с упреками, закричала:
– Ей хорошо выделяться среди нас! Маленькая развратница! Поверьте мне, хотя на земле я была матерью семейства, сейчас, окажись моя дочь рядом, я без колебаний приказала бы ей: «Снимай платье немедленно!» И ты тоже снимай! – заорала она Незнакомке из Сены, тыкая, чтобы унизить ее (здесь, на глубине моря, это считалось страшным оскорблением). – Или же берегись, милочка!
И, потрясая в воде ножницами, она яростно бросила их к ногам девушки.
– Вам лучше уйти! – воскликнула Простая, возмущенная ее злобой.
Оставшись одна, Незнакомка спрятала свою боль, уплыв в дальние, тяжелые воды.
«Не это ли на земле называется завистью?» – подумала она. И, обнаружив, что на ее глаза навернулись крупные жемчужины, воскликнула:
– Нет! Никогда! Не могу, не хочу привыкать ко всему этому!
И она бежала из колонии. Попала в какие-то пустынные местности, плыла очень быстро – насколько позволял кусок свинца, тянувшийся за ногой.
«Какие страшные гримасы жизни! – думала она. – Оставьте меня в покое. Оставьте меня наконец в покое! Почему вы хотите, чтобы я что-то делала для вас, ведь всей остальной жизни уже не существует!»
Когда последние рыбы-фонарики исчезли далеко позади и девушка осталась совершенно одна посреди глубокой ночи, она взяла черные ножницы, захваченные перед бегством, и перерезала веревку с грузом – тот стальной якорный канат, который держал ее в глубинах. «Надо окончательно умереть, – подумала она, поднимаясь к поверхности. – Совсем».
Во мраке морской ночи свечение ее тела сначала резко усилилось, а потом погасло. И тогда улыбка блуждающей утопленницы вернулась на уста Незнакомки из Сены. И любимые рыбки девушки без колебаний последовали за ней, я хочу сказать, последовали ее примеру – умереть от перемены давления, поднимаясь все выше и выше из глубины.
Хромые на небесах
Тени бывших обитателей Земли собрались на небесных просторах. Они ходили по воздуху, как некогда по земной тверди.
И тот, кто прежде был доисторическим человеком, сказал себе: «Все, что нам нужно, – это хорошая, просторная, надежно защищенная пещера и несколько камней, чтобы высекать огонь. Но как тут убого! Вокруг ничего твердого, одни лишь призраки да пустота».
А отец семейства, живший уже в наши дни, осторожно всовывал то, что считал ключом, в воображаемую замочную скважину, а потом делал вид, что заботливо закрывает за собой дверь.
«Ну, вот я и дома, – думал он. – Еще один день прошел. Сейчас поужинаю – и на боковую».
Наутро ему представлялось, что за ночь у него выросла борода, и он долго намыливал щетину кисточкой тумана.
Да, все это – дома, пещеры, двери и даже физиономии крупных буржуа, прежде красноватые, – стало теперь серыми тенями, наделенными воспоминаниями, карикатурой на свой прежний облик, фантомами людей, городов, рек, континентов, ведь здесь, наверху, можно было обнаружить настоящую небесную Европу, с Францией, всей целиком, с полуостровами Бретань и Котантен, которые никак не хотели расставаться, с Норвегией, не утратившей ни единого фьорда.
Все, что происходило на Земле, отражалось в этой части небес, пусть даже на какой-нибудь никому не известной улочке заменяли всего один булыжник в мостовой.
Здесь можно было видеть души экипажей всех времен – карет праздных королей, колясок рикш, грузовых автомобильчиков, омнибусов…
А те, кто в земной жизни не знал иного средства передвижения, кроме собственных ног, и на небесах ходили только пешком.
Одни еще не ведали об электричестве, другие предсказывали его скорое появление, третьи щелкали воображаемыми выключателями, и им казалось, что от этого становится светлее.
Время от времени голос, единственный, который можно было услышать в межзвездном пространстве, голос, звучавший неизвестно откуда, проникал каждому туда, где прежде было слуховое отверстие: «Никогда не забывайте, что вы всего лишь тени!»
Однако каждый проникался смыслом этих слов только на какие-нибудь четыре-пять секунд, а потом все продолжалось по-прежнему, словно никто ничего не говорил. Тени вновь поддавались самообману, веря в подлинность всего, что они делали.
Ни словечка, ни даже шепота.
Впрочем, душа настолько прозрачна, что для начала разговора достаточно встать лицом к лицу к «собеседнику», если так можно выразиться.
Можно было с изумлением увидеть мать, стоящую перед своим малолетним сыном, – на лице ее было написано: «Осторожно! Ты можешь упасть и убиться!» – будто малыш и впрямь подвергался опасности.
А потом она же сообщала соседке: «Вчера он вернулся из коллежа с разбитыми коленками».
У всех был застывший, неизменный облик, никто не старел, но это не мешало родителям спрашивать детей, кем они станут, когда вырастут, подмечать, как те выросли за последнее время – действительно выросли и стали настоящими помощниками, это радует… Но когда молодые люди целовались, то делали это с полнейшим безразличием.
Слепые были такими же зрячими, как и все, и притворялись, будто палочки им ни к чему, но при ходьбе все равно откидывали головы назад, чтобы уберечься при столкновении с несуществующими, увы, препятствиями.
А человек, испытавший на Земле большую любовь, часто перебегал с одной стороны улицы на другую в надежде оказаться лицом к лицу с возлюбленной. (Это был Шарль Дельсоль, скоро вы о нем узнаете.)
Часто новоприбывшие, чтобы избавиться от страданий, вырывали у себя из груди сердце, трепещущий серый комочек, бросали под ноги, долго разглядывали, а потом топтали ногами, после чего сердце, совершенно неизменившееся, просто и спокойно занимало место в груди «развоплощенного», если так можно выразиться, человека, и тот навеки терял способность страдать и плакать.
Здесь утешали новичков, которые еще не знали, что делать с собственной тенью, не осмеливались переступить кому-либо дорогу, поднять руку для приветствия, скрестить ноги, побежать, прыгнуть, с разбега или без, – словом, совершать все то, что для старожила не составляло никаких проблем. Новички все время оглядывались, растерянно смотрели по сторонам и ощупывали себя, будто потеряли кошелек.
«Это пройдет, это сей момент пройдет…»
Момент, который может пройти!
«Нечего жаловаться, – говорили им. – Есть существа куда более несчастные». И пальцем указывали туда, где должна была находиться Земля, невидимая Земля. Даже малыши, даже новорожденные, разбуди их внезапно посреди ночи, всегда могли точно показать, где она.
Как ни напрягай слух, не услышишь ни звука! Можно вглядываться в серые губы мужчин и женщин, склоняться над колыбелью в надежде, что оттуда донесется возглас младенца, – тщетно!
Тени собирались то у одной Тени, то у другой, чтобы «послушать» пьесу, сыгранную на бестелесной виолончели, – тогда каждый, отдавшись своей фантазии и сообразно собственному вкусу, мог представить игру камерного квартета, или звуки большого органа, или соло флейты, или шум ветра в ельнике, скрытом завесой ливня.
Однажды человек, бывший при жизни большим пианистом, сел за свое призрачное фортепьяно и пригласил друзей посмотреть, как он играет. Все знали: будет исполняться Бах – и надеялись, что благодаря гениальности композитора и пианиста удастся хоть что-то услышать. Приглашенные вертели головами в надежде на чудо. Некоторые думали, что перед ними Бах собственной персоной. В сущности, так оно и было. Он сыграл токкату и фугу. Слушатели взволнованно следили за игрой маэстро, и каждый верил, что в самом деле слышит музыку. Когда композитор снял руки с клавиатуры, все принялись хлопать в ладоши – понятное дело, не раздалось ни звука. Тогда, убедившись, что чуда не случилось, все поспешили разойтись по домам.
Но самая большая беда Теней состояла в том, что они ничего не могли ухватить руками. Все вокруг было абстрактным. Подержать в пальцах хоть что-нибудь – обрезок ногтя, волосок, хлебную горбушку, не важно что, лишь бы осязаемое…
Однажды гуляющие прохаживались по тому месту, которое всегда считалось центральной площадью, и вдруг заметили длинный ящик из настоящего дерева, чистого белого цвета. Тени так часто обманывались в своих ожиданиях, что не сразу поняли важность нового предмета и подумали, будто перед ними очередная галлюцинация, фантом ящика, более удачный, чем обычно. И все необыкновенно удивились, когда один из них, при жизни упаковщик, известный резвостью ума, крутанувшись на пятках, чтобы обратить лицо ко всем неверящим, объявил, что ящик и впрямь сделан из настоящего некрашеного дерева – из дерева, которое найдешь только на Земле.
Тогда множество Теней всех времен – готы, козы, волки, вестготы, гунны, протестанты, мускусные крысы, лисицы, чирки, католики, большеголовые римляне, проститутки, – смешавшись с романтиками, классицистами, пумами, орлами, божьими коровками, – все сгрудились вокруг ящика, и воцарилась тишина еще более глубокая, чем всегда: было даже слышно, как ящик поскрипывает.[1]
«Изменится, что-то определенно изменится! Ведь жизнь стала совершенно невозможной! Раз появился этот ящик из настоящего некрашеного дерева, может быть, и солнце вдруг засияет, заменит наконец это жалкое освещение, источник которого непонятен, оно всегда одинаково, не похоже ни на свет дня, ни на темноту ночи и напоминает скорее грязь, разлитую по небу. А это небо… Да, птицам удается иногда полетать в нем, но надо видеть, как, выдохшись, они то и дело замирают в пустоте, а когда слишком сильно машут крыльями, с них осыпаются мертвые перья, и потом птицы падают, падают целую вечность…»
Никто не смог поднять крышку ящика, и более ста тысяч Теней вызвались охранять его, чтобы… из страха, что… потому что… Ни одна версия не выглядела правдоподобной, и в конце концов все гипотезы перемешались, как ручейки эфира в Сахаре неба.
«Не надо спешить, не будем поддаваться сумасшедшим иллюзиям, – говорили те, кто на Земле достиг почтенного возраста. – Что это мы – из-за простого ящика, да к тому же, скорее всего, пустого!»
Но надежда продолжала жить. Одна Тень, пришедшая неизвестно откуда, утверждала, что в ближайшее воскресенье (это так говорили – воскресенье, но иногда вспыхивали жаркие споры, воскресенье сегодня или нет) появится настоящий бык и на глазах у всех собравшихся станет поедать траву, а потом, возможно, удастся услышать его мычание.
– Кажется, он будет роскошного черного цвета, с несколькими белыми пятнами.
– Что до меня, то мне хочется увидеть не быка, а жеребца англо-арабской породы, и он должен бегать перед нами не менее пяти минут. После такого зрелища я целые века чувствовал бы себя счастливым.
– А я бы поглядел на своего фоксика, как он прогуливается со мной на природе в департаменте Сена и Марна.
– С вами?
Прошел слух, будто Тени скоро смогут увидеть свои тела, какими они были на Земле, – естественного цвета и комплекции.
– Слушайте, я уверен, что в ближайшие четыре дня все по утрам смогут видеть, как я иду в свой офис и спускаюсь по ступеням станции метро «Шатле».
– А я увижу день, – размышляла другая Тень, – когда я спешил на поезд и непременно опоздал бы и не попал в Лиссабон, если бы не любезность начальника вокзала, который помедлил со свистком к отправлению.
Выходит, вот-вот можно будет приглашать друг друга, чтобы посмотреть, как выглядела эта Тень в день свадьбы, а та – в момент получения телеграммы о смерти отца, или еще что-нибудь…
– Вы что, и впрямь хотите заставить нас во все это поверить?
– А почему бы и нет? Я считаю, здесь нет ничего невероятного. Разве может жизнь стоять на месте? Подумайте немножко над этим!
– И все только потому, что появился какой-то злосчастный ящик из белого дерева?
– Но это же потрясающе! Вспомните о миллиардах Теней, которые до сих пор были лишены каких бы то ни было твердых предметов.
Однако нового чуда не произошло, ящик недели и месяцы оставался на площади, окружаемый все менее многочисленной охраной. А потом его и вовсе оставили в покое.
Разочарованные Тени стали избегать друг друга, чтобы скрыть охватившее их отчаяние. Никогда еще они так не страдали от окружавшей их пустоты. Бродили в одиночестве, брат избегал брата, жена – мужа, влюбленный – возлюбленную.
Шарль Дельсоль не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он стал мертвым и в буквальном смысле превратился в собственную тень. Маргерит Деренод он потерял из виду за несколько дней до своей кончины и не знал, жива ли она еще. Он вспоминал о том дне, когда впервые увидел ее в библиотеке Сорбонны. Она сидела напротив. Быстрый, как мазок художника, взгляд, и он уже знал, что она брюнетка. Еще один взгляд четверть часа спустя (он корпел над философией) – и стал известен цвет ее глаз. Десять минут чтения, последний взгляд – и он увидел, какие у нее руки и запястья. Плюс небольшое усилие воображения, чтобы соединить эти детали в живое целое.
Каждый день он усаживался за библиотечный стол напротив нее, но не сказал ни единого слова: хромота сделала его застенчивым. Он всегда уходил первым – и очень быстро, несмотря ни на что. Однажды она поднялась с места, чтобы взять новую книгу. Она тоже хромала.
«Отныне я стану смелее», – тут же сказал себе Шарль Дельсоль.
Но затем эта мысль показалась ему недостойной их обоих.
«Нет, теперь я с ней вообще не смогу заговорить», – думал он.
А Маргерит Деренод просто раздражали изредка бросаемые взгляды этого молчальника. Он как бы предлагал ей обменяться хромотой, словно рукопожатием!
Однажды мартовским днем, открывая настежь окно, она услышала, как сосед по библиотечному столу шепчет Шарлю:
– Вам же холодно, нужно попросить разрешения закрыть окно. Это так естественно, тем более что вы только после болезни.
– О, что вы, я просто задыхаюсь, все хорошо, спасибо. И он даже не пошевелился.
Все-таки он попытался бороться с холодом и, чтобы сохранить хоть немного собственного тепла, стал делать почти незаметные движения, напрягая мускулы плеч и ног, растирая грудь просунутой под жилет рукой. Студентка бросила на него раздраженный взгляд, будто он мешал ей заниматься. И тут он почувствовал странное спокойствие, ощутил близость самой смерти, которая касалась его плеч, груди, ног, и он представлялся ей неплохой добычей. Когда Шарль вернулся к себе, у него не хватило сил даже разжечь огонь. Он умер три дня спустя.
Очутившись там, наверху, Шарль Дельсоль продолжал занятия в библиотеке Сорбонны, спроецированной на небеса.
Однажды он увидел Тень, которая села напротив его обычного места и тут же напомнила силуэт Деренод.
«Она точно так же держала свой портфель и так же резко его открывала, – подумал он. – Но что стало с ее лицом? На ней тот же плащ, что и в Париже, и ей еще меньше дела до меня, чем на Земле. Почему же она не открывает окно?»
Он забыл, что все его мысли просматриваются сквозь прозрачную душу, и серая Тень девушки, приблизившись, сказала ему – молча, как говорят мертвые:
– Скажите, месье, уж не потому ли, что я в тот день не закрыла окно, вы…
– О нет! Меня сбило такси.
И он отвернулся, чтобы скрыть свои мысли. Несколько дней спустя они вместе выходили из библиотеки. Их друзья говорили между собой:
– Что случилось с этими двумя? Они идут как влюбленные! Наверное, надо быть хромым, чтобы испытать здесь такое. Можно подумать, на небесах кому-то нужна любовь!
И хотя ее объемистый портфель был легче самого легкого перышка, Дельсоль предложил понести его. Девушка смеялась, но он сказал это очень серьезно.
Наконец она согласилась отдать ему портфель, хотя и находила это нелепым, особенно если учесть, что студент умер довольно давно и, стало быть, накопил немалый опыт здешней жизни.
Едва он взял портфель, как почувствовал, что ноша… оттягивает руку. Какая-то благость разлилась там, где раньше была кисть Шарля Дельсоля. Тело оставалось серым, но это был сияющий, едва ли не лучистый серый цвет с каким-то алым, если не сказать шалым, оттенком. Ему казалось, у него вновь рождаются руки, и он попытался спрятать эти беспокоящие его отростки под одеждой Тени – отростки, каждый из которых стремился обрести по пять пальцев.
– Вы сегодня какой-то странный, – мысленно сказала Маргерит Деренод. – Вам нехорошо?
– Вы же знаете, что это невозможно, – ответил он протестующим жестом.
И тут же почувствовал острую боль в кулаке, сжимавшем ручку портфеля. А когда портфель выпал и раскрылся, из него вывалились настоящие, полновесные словари Кишера и Гельцера, с пронумерованными страницами.
Потрясенная, студентка захлопала ресницами, настоящими ресницами земной девушки. А ее глаза стали голубыми, как когда-то, хотя в остальном лицо по-прежнему было лишено признаков жизни. Она стояла неподвижно, словно после огромного, нечеловеческого усилия, затем, очень быстро, ее нос, губы, щеки обрели цвет и стали даже чуть румянее, чем были на Земле. И стояла она вовсе не обнаженная, нет, Маргерит была одета, как и подобало девушке в 1919 году, году ее смерти.
Было сухо и прохладно, молодые люди дышали полной грудью, выдыхая хорошо видимый пар.
Ничуть не смущаясь оказавшихся поблизости Теней, они слили свои возродившиеся губы в долгом поцелуе. Затем, движимые радостью, переполненные вновь пробудившимися силами, направились на площадь, где стоял ящик из некрашеного дерева. Открыть его не составило труда. Достаточно было поднять крышку руками, которые ничуть не потеряли прежней ловкости. Влюбленные нашли там много вещей, которые принадлежали им на Земле, а главное, карту неба – исключительно четкую, многоцветную. Карта ожила и дала Шарлю и Маргерит множество советов и наставлений по поводу того, куда направить взоры, а потом позвала молодых людей в путь.
Рани
В племени он был единственным, кто получил воспитание в большом городе, и тем не менее его избрали касиком только после испытания голодом. Соперники выбывали один за другим, и на девятый день Рани остался один – он лежал, закутанный в бычьи шкуры, и тело его напоминало высохшую деревяшку.
С начала испытания время застыло для него в образе больших стенных часов с шестью лицами девушек по циферблату. Именно девушки с циферблата каждые четыре часа приносили ему воду и листья коки, которые он мог только сосать – сил жевать уже не осталось. Но он все тянул и тянул испытание, надеясь еще раз дождаться, когда придет очередь Яры, его невесты. Ее взгляд говорил ему: «Держись, настанет время удивительных вещей!»
С приближением ночи ему слышался отдаленный топот кавалерии, всегда на одном и том же расстоянии, несмотря на отчаянные попытки всадников добраться до него. Голод рождал в его воображении высокие фигуры, которые с фосфорическими корзинами входили в палатку. Одна из фигур мягко опускала веки индейца, другая поднимала их. Иные набрасывались на его печень и выжимали из нее все соки или со сноровкой хирурга вгоняли в почки большие полые иглы. Потом все объединялись, перешептываясь, и выпускали перед лицом Рани крохотных воробышков смерти.
В начале десятой ночи он увидел, что у изголовья его ложа распростерся огромный верблюд из последнего сна, – обнажая песчаные десны, животное двадцать раз подряд пыталось подняться на ноги, почти уже рассыпавшиеся в прах. Тогда, из боязни уступить превосходящим силам зверей, которые только и ждут внутри нас и вокруг нас своей очереди пожить за наш счет, индеец уголками губ (одна губа побелела, другая была лиловой) дал понять, что готов прекратить голодовку.
Спустя несколько дней после своего избрания новый касик, еще очень слабый, решил повидать Яру, которая сидела у общего костра. Внезапно у Рани закружилась голова, и он ничком рухнул в очаг – лицо при этом обгорело до самых костей. Отныне все опускали глаза и расступались, когда проходил он – человек с изъеденным лицом, лицом, которое, казалось, все еще горело: какой демон разворошил эти угли? Рани думал, что теперь и Яра избегает его, как вдруг увидел свою невесту (была ли она еще его невестой?) – девушка стояла перед палаткой нового вождя и пристально смотрела на обожженного. Не теряя надежды, касик помчался за вязанкой дров, принес ее и – знак любви! – сбросил поленья с плеч к ногам девушки. Два чурбачка отделились от других и упали, произведя какой-то неясный звук – в нем были и боязнь, и незаданный вопрос; Рани стало стыдно. Когда он поднял голову и открыл глаза (огонь не тронул веки), Яра исчезла. Он лишь услышал крики ужаса, будто девушку насиловала толпа врагов.
На следующее утро шестеро из совета старейшин пришли к Обожженному Лицу и разом повернулись к нему спинами, давая этим жестом, а также своим молчанием понять, что он больше не может оставаться касиком.
Несколько недель Рани скрывался в лесах. Он стал интересоваться перьями, яйцами птиц, мхами и папоротниками – вообще всем хрупким и тонким в лесу, что не пугалось его присутствия и не изменялось при виде обожженного лица. Окраска птичьих яиц напоминала цвет утренней зари, перья походили на серые в яблоках облака, которые резвыми лошадьми носились по небу, папоротники рождали в воображении образ темной и прохладной ночи – в нее хотелось окунуть лицо и тут же снять с него все беды и изъяны.
Птица умирает, но ее перья продолжают жить, и красота их не теряется, не блекнет – перья неподвластны гниению. Рани любил их – гордость и надежда служили им защитой. В тонких полых роговых стержнях и нежном пухе он различал загадочные письмена. Уверенный, что его никто не видит, он раскладывал перед собой и этот невесомый пух, и листья редкостных деревьев, и необычные сверкающие камни, если удавалось их найти. И часто приговаривал при этом: «О! Получилось! Как раз то, что я искал».
Или же, огорченный скудностью форм и бедностью цветовой гаммы леса, высокого леса без окон и дверей, он принимался рассматривать небо. Так рассматривают старинный, готовый рассыпаться документ, который почти невозможно расшифровать.