Рок-н-ролл под Кремлем – 2. Найти шпиона Корецкий Данил
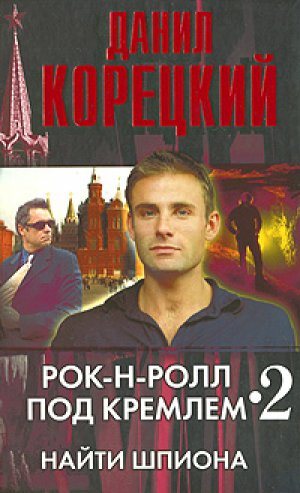
– Вода в подвале собралась, вот и сигналит, – сказал он тихо. – Спи. Я сейчас спущусь, гляну.
Света взяла с прикроватного столика телефон, глянула на время. Легла.
Значит, опять вода. И это несмотря на то, что дом стоит на пригорке, а насос работает двое суток без перерыва. Конечно, это можно было предвидеть еще тогда, когда они выбирали участок под застройку; архитектор предупреждал, что такая проблема может возникнуть из-за особенностей местной почвы, и потому советовал взять соседний участок, расположенный в низине, – хлопоты те же, но десятки тысяч экономии. Только Мигунову не нужен участок в низине. Ему нужен замок на холме. Доминирование. Обзор. Контроль.
Мигунов встал, одним ловким движением вдев ноги в мягкие тренировочные брюки и натянув на крепкое тело легкую спортивную курточку с капюшоном. Блок с аппаратурой находился слева от кровати, с его, мужской, стороны, а широкий и плоский экран, который все-таки чаще использовался для просмотра фильмов, чем для видеонаблюдения, висел на стене, в ногах. Включать картинку подвала Мигунов не стал, чтобы не будоражить супругу, – хотя камера с инфракрасной подсветкой имелась и там.
Он спустился в темный холл, по дороге выдернув из сигаретницы на столе любимый «Пэлл-Мэлл», чиркнул спичкой, закурил. Огонек спички выхватил из темноты лицо уставшего пятидесятилетнего человека с резкими, но, в общем, правильными чертами, которые удерживаются на самой грани этой «правильности»… удерживаются, возможно, только усилием воли и постоянным напряжением симпатических мышц.
Еще десять ступенек вниз – через спортзал и мастерскую, где на фоне тускло освещенных окон-амбразур темнеет «нотрдамский» силуэт буфета из ольхи, – когда-то они с Родионом загорелись сделать нечто эдакое, маман удивить, но постепенно забросили за неимением времени и «потухновением» (еще одно словечко Родиона) творческого огня.
А в подвале никакой воды не было.
Под ботинком хрустнул камешек, отлетел с сухим щелчком. Мигунов остановился на пороге. Датчики разгерметизировались, подумал он. Глючат. Он сделал последнюю затяжку и швырнул окурок вперед, в темноту, уже не ожидая, что тот с шипением потухнет. Он и не зашипел. И не потух. Огонек сигареты прочертил неширокую дугу, ударился в пол, рассыпав искры, – и застыл там тусклой красной точкой.
Завтра нужно пригласить представителя фирмы, пусть разбирается – система на пожизненной гарантии. Иначе и следующую ночь поспать не удастся… Нет. Завтра не получится, вспомнил он. Встреча выпускников в «Пирогове», они со Светкой собирались появиться. И Катрану он уже пообещал… Переиграть нельзя, Катран и так обижен: в одном городе живем, а лет семь уже не виделись… Родиона, конечно, вечером будет не выловить – до шести он в библиотеке, готовится к своей бомбейской конференции, потом футбол, потом… как ее бишь, последнюю пассию… Анастасия, что ли? М-да. А может, крысы погрызли эти датчики? Крысы, интересно – это гарантийный случай или стихийное бедствие? И вообще… Надо взглянуть хотя бы.
Мигунов положил руку на выключатель и вдруг застыл. Красная точка на полу, обозначающая место падения окурка, сдвинулась с места… поползла… словно кто-то с этим окурком игрался или толкал его ногой. Мигунов почувствовал, как похолодел и провернулся спрятанный где-то глубоко внутри острый стержень. Он снова ощутил себя куском мяса на шампуре.
«Крысы», – вдруг дошло до Мигунова. Мерзкие твари. Такие же, как кроты. Но советский офицер никого не боится!
Крыса схватила окурок и побежала…
А огонек замер на месте, потом вдруг резко взлетел вверх и остановился на уровне человеческого роста. И разгорелся ярче, так что проступившие вокруг тени на миг очертили чьи-то губы и узкий ребячий подбородок. Запахло сладковато-едким «пэлл-мэлловским» дымом.
– Царский бычок, – произнес кто-то в темноте. – Жалко бросать, Серый.
– Кто здесь? – громко, по-командирски, спросил Мигунов, одновременно нажимая рукой на клавишу выключателя.
Света не было, выключатель не работал.
– Не-а, не старайся, – ответил голос. – Насос твой того… Коротнул… Электричество закончилось.
– Кто ты? Отвечай! – властно приказал Мигунов.
– А ты подойди. Увидишь.
Мигунов отступил назад, опрокинув ящик со столярным инструментом. В мастерскую и спортзал проведена отдельная линия от самого щитка, здесь свет должен быть… Он подбежал к выключателю, хлопнул по нему ладонью. Безрезультатно.
– Накрылась твоя система, Серый. Нигде ничего не работает.
В глубине подвала, там, где стоит дренажный насос, раздался хлопок, что-то ослепительно полыхнуло, оставив в глазах Мигунова отпечаток белого шара и темного человеческого силуэта. Брызнули искры.
– Вот-вот… Так и до пожара недалеко, – насмешливо произнес голос. – А ты подойти боишься.
Вспыхнула старая рабочая куртка, которую он повесил на вентиль, когда последний раз возился с насосом. Рядом на стене – полки с барахлом, оставшимся после ремонта. Пятилитровые банки с краской и лаком. Растворитель. Обои. Клей… Послышался негромкий хлопок – видимо, рванула зажигалка в кармане куртки. И огонь разгорелся ярче, веселее, осветив сутуловатую фигуру в углу подвала. Надо бежать, звонить, тушить, но ноги приросли к полу.
– Я знаю, кто ты! – крикнул Мигунов.
– Тем более не должен бояться, – был ответ. – Спускайся.
Мигунов медленно, как завороженный, переступил порог и сошел по ступенькам, считая про себя: раз, два, три, четыре…
Какой бред, подумал он, какая нелепица. Или это мне снится?…
Он уже шел по подвалу, следуя средним курсом между курткой, висящей на вентиле, и темнеющей в углу фигурой. Идти было почему-то трудно, мешало что-то. И ноги зябли. Мигунов глянул вниз – обмер. Вода заливала весь пол сантиметров на двадцать, не меньше, доставая почти до середины икр. На темной поверхности, расцвеченной ломаными оранжевыми штрихами огня, плавал мусор… Наваждение какое-то. Почему же он решил, что воды нет и в подвале сухо?! Как он мог не заметить?!.. Нет, но он же – видел! Видел! Не было ничего!
Еще Мигунов обнаружил, что ноги его почему-то босы. Хоть стой, хоть падай – босы. Босы! Он видел просвечивающиеся сквозь воду свои белые ступни, похожие на ноги утопленника. Рассказать кому – не поверят ведь… Но хуже было другое: толстый трехфазный провод с оплавленной изоляцией, один оборванный конец которого торчал из насоса, а второй конец – тот, что под напряжением, – лежал в воде, продолжая выпускать рои голубоватых искр и даже пузыри, что вообще ни в какие ворота не лезло… ведь… ведь это означало…
Он проснулся от болезненного толчка внутри. Открытые глаза смотрели в потолок спальни, и казалось, они все это время были открыты, сейчас лишь сменилась картинка, только и всего. Мигунов часто дышал, а в ногах все еще ощущалась ледяная ломота. Он встал и поднял с пола сброшенное одеяло. Прикрыл дверь на террасу. Света крепко спала, плотно завернувшись в свое одеяло, словно в кокон. На контрольном дисплее мирным зеленым светом горели цифры – «2:18». И больше ничего.
Мигунов надел тренировочные брюки и куртку с капюшоном, спустился в холл. Взял из сигаретницы «Пэлл-Мэлл» и закурил. Он курил и смотрел в окно, за которым фонари освещали лужайку, обступившую полукругом его дом, и молодые груши, которые со временем обещали превратиться в густой тенистый сад, и проглядывающую за деревьями, увитую вечнозеленым плющом чугунную ограду, оснащенную по последнему слову охранной техники. Он курил и смотрел и о чем-то думал, но лицо его, лицо уставшего пятидесятилетнего человека, привыкшего управлять своими эмоциями, – оно ничего не выражало.
Потом Мигунов спустился в подвал и на всякий случай проверил насос – чего не бывает в жизни! Насос в порядке, в подвале сухо. Мигунов пощелкал выключателем – и здесь порядок. Выходя из подвала, он прихватил с собой старую куртку, висевшую на вентиле, ощупал – в кармане действительно лежала дешевая разовая зажигалка. В прихожей он бросил куртку в шкафчик, где хранилась рабочая одежда. Во всем должен быть порядок.
Нехорошие предчувствия, которые мучали капитана Евсеева, подтвердились неожиданно и наглядно. Утром, как обычно, он шел на работу и вдруг увидел на тротуаре, справа от входа в Управление, огромную фигуру Рогожкина с потертым саквояжем у ног. Все сразу стало ясно. Если обвиняемый в шпионаже выпущен из камеры и ждет тебя у входа на службу, это может означать только одно… Вряд ли он стоит здесь случайно, маловероятно, что пришел попрощаться или хочет поблагодарить за справедливость и доброе отношение. Скорей всего, собирается начистить морду или плюнуть в физиономию. Свернуть было некуда, поворачивать назад – глупо. Юра напрягся и сделал каменное лицо.
– Ну что, мозгляк, поймал шпиона? – громко вопросил Рогожкин.
Проходящие мимо женщины с интересом обернулись. Его рокочущий бас действительно мало напоминал юношеский голос, записанный на магнитной ленте из семьдесят второго года. Но ведь фонографисты заверили, что вероятность 85–90 %… Как же так?
– Не удалось на мне карьеру сделать? А как хотелось! – Полковник надвигался, как разъяренный медведь.
Юра стал лихорадочно вспоминать уход от удара в голову с переходом в контратаку. Счастье еще, что сейчас пьющий медведь трезв…
– Подтасовал все, наклеветал целый вагон, а оказалось, что меня в это время вообще в Москве не было! Что теперь скажешь?
Прием не вспоминался. Но Рогожкин остановился в полуметре. Некомфортная дистанция. Евсеев ощущал угрозу, запах немытого тела и стыд.
– Извините, – пробормотал он, глядя под ноги. – Видно, специалисты ошиблись…
– Это ты ошибка судьбы! – гремел Рогожкин. – Если бы хотел – разобрался! Как Званцев. У него и экспертиза правильная, и выводы верные! Оправдали меня подчистую!
– Извините, – повторил Евсеев и обошел Рогожкина, чувствуя, как жжет спину ненавидящий взгляд.
– Вот выгонят тебя отсюда – опять приедешь к нам, в Дичково. Я посодействую, на пищеблок возьмут, там тебе самое место!
Рогожкин смачно сплюнул на тротуар, поднял саквояж и пошел прочь.
Униженный Юра, сгорбившись и волоча ноги, поднимался по ступенькам. Уже на пороге его вихрем обогнал энергичный, в распахнутом светлом пиджаке, Кашинский. То ли случайно, то ли нет, он оттолкнул коллегу плечом, обернулся, произнес со значением:
– Ну, куда вперед батьки лезешь, Евсеев? Отучайся! Скоро разжалуют тебя в младшего лейтенанта за твои подвиги!
И, засмеявшись, по-хозяйски вошел в Управление. Тугая пружина с силой захлопнула высокую дверь. Юра опустил голову и остался стоять. Возникло невероятно острое желание – повернуться и уйти от всех своих проблем. Шагать и шагать, куда глаза глядят, без всяких мыслей и без определенной цели. Но во взрослой жизни так не бывает.
Юра взялся за латунную, со стертыми узорами ручку, с силой потянул. Еще недавно он заходил сюда, как триумфатор. Теперь он поднимался на Голгофу.
А Алексей Михайлович Рогожкин шел по самому центру Москвы, куда глаза глядят. Просто шел, крепко держа в руках свой видавший виды командировочный саквояж. Ни шум проносившегося транспорта, ни встречные толпы прохожих не отвлекали его от собственных мыслей. Может быть, потому, что он был на голову выше всех и находился как бы в другом измерении.
Он ни на кого не смотрел, никому не мешал, и ему не мешала вечная столичная суета, так не похожая на сонный покой Дичково. Он размышлял о том, какие все-таки разные люди живут на этой земле. Отпетый негодяй Евсеев, милый и доброжелательный сосед Иван Петрович, справедливый следователь Званцев… Арест усугубил его и так непростую жизненную ситуацию. И хотя теперь он был свободен, это не радовало. Потому что он был свободен от всего: от любви и дружбы, от семьи и детей, от службы, от собственной квартиры… С жилищными сертификатами и так напряженка, а сейчас ему, ясно, – никто ничего не даст. В неуютной Москве он не был никому нужен. И во всей России тоже. Хоть спускайся в метро и бросайся под поезд!
Хотя нет, в Дичково его ждет верный пес, Атому он нужен! И работа для отставника там найдется, и из квартиры авось не выселят… Его шаг стал более четким и упругим, появилась цель: аэропорт, самолет, и домой, в Дичково! Этому негодяю Евсееву не удалось разрушить его жизнь! Но ведь шпионский прибор кто-то заложил в памятник… Кто?
Ресторан «Пирогов» в советские времена был обычной столовкой, где кормились студенты «2-го меда» – мединститута имени Пирогова. Здесь же имелся небольшой пивной зал, прозванный в народе «Сарай», здесь же многие будущие медики готовились к сессии, встречались с девушками, устраивали студенческие свадьбы и пьяные потасовки.
По легенде, один из «пироговцев», некогда постоянный клиент «Сарая», ушел в начале девяностых в какой-то совершенно перпендикулярный бизнес: то ли металлургический, то ли нефтяной… Где весьма преуспел. Одна из его дочерних фирм, осваивающая столичный рынок общепита, выкупила столовку и переоборудовала в довольно приличный по меркам Юго-Западного административного округа ресторан. На интернетовском сайте данная точка позиционировалась как «ресторан европейской и восточной кухни» с намеком на какие-то оригинальные авторские блюда, которые готовятся только здесь, в «Пирогове», – и больше нигде в мире.
…Первым прибыл, как и всегда, Валька Рыбаченко, он же Бакен, он же командир учебного взвода и самый организованный курсант факультета средств электроники за всю историю Кубинского училища. Год на полигоне, адъюнктура, защита кандидатской диссертации, двенадцать лет работы в НИИ ракетной техники… С должности главного инженера полковник Бакен перевелся в родную «Кубинку» заместителем начальника по науке и имел репутацию человека строгого, но справедливого и ответственного. Именно Бакен – а кто ж еще? – организовал это мероприятие, сколотил инициативную группу, которая занялась поисками бывших однокурсников, звонками, телеграммами, а также выбиванием необходимых средств.
За час до начала банкета Бакен ворвался в «Пирогов», как инспектор из главного штаба в проверяемую войсковую часть, с ходу взял метрдотеля за холку и тут же нашел, к чему придраться. Столы, расставленные в стандартном «свадебном» порядке – буквой «Т» с длинной-предлинной ножкой, были срочно перерисованы в более компактную, по его, Бакена, мнению, букву «П». Потом на нескольких столах были сменены не слишком свежие, на его, Бакена, взгляд, скатерти.
Потом было проведено блиц-тестирование группы длинноволосых, с серьгами и косичками лабухов (две гитары, саксофон, электроорган и певица в люрексовых штанах), в результате которого длинноволосые унисексы вместе с певицей были отправлены на хер, а место на подсвеченном через стеклянный пол подиуме заняли приличного вида молодой паренек с синтезатором и худощавая девушка в черном платье с умеренным декольте.
Потом – жратва. Бакен пришел в ярость, когда выяснил, что помимо утвержденного списка блюд на каждый стол будет подано – без его, Бакена, утверждения! – некое фирменное кушанье под названием «Котлета севастопольская»: свинина на косточке, запеченная в хрустящей оболочке из теста по триста сорок рублей за порцию.
– Это ж открытый перелом в гипсе, а не котлета! – возмущался Бакен.
– Совершенно верно, – пытаясь соблюсти достоинство, начал объяснять подавленный таким напором метр. – Это блюдо, как и многие другие, посвящено памяти выдающегося русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, который, кстати сказать, впервые в мировой практике применил гипсовую повязку, работая в военных госпиталях во время Крымской войны…
– А что он еще сделал? – подозрительно спросил Бакен.
– Еще он был одним из основателей пластической хирургии – в 1830 году изготовил безносому цирюльнику из Риги новый нос, – со знанием дела продолжил метрдотель. Очевидно, в прошлой жизни он был врачом. – В честь этого мы готовим отличный птичий паштет «Рижский цирюльник»…
– А оплачивать эти медицинские излишества кто будет? – с военной прямотой спросил Бакен. И с полковничьим остроумием добавил: – Пирогов? Пушкин? Или за счет заведения? Ах, никак не получится! Тогда отбой медицине. А то вы еще и наркоз выставите… Эфир там, или морфий…
Врач-метрдотель поскучнел.
– Наркотиков у нас никогда не было. Кстати, могу предложить массандровские портвейны. Есть французские вина, испанское шампанское дамам…
Бакен вздохнул, посмотрел с сожалением, как на полудурка, и обнял отставного врача за плечи.
– Вы не совсем меня поняли, дорогой доктор. К вам приходят не олигархи, а ракетчики. Мы парни простые, небогатые и пьем только водку или спирт. И дамы наши всякими французскими да испанскими винами не избалованы: они знают всего два сорта – красное и белое. Вот и сделайте нам отечественного винца по пять бутылочек. Задача ясна?!
– Ясна, – грустно сказал метр.
– И замечательно! А вот картошечки отварной, селедочки, да солений – добавьте!
Отдав распоряжения, Бакен еще раз переговорил с музыкантами:
– У нас со студенческих лет есть фирменная песня – «Шестнадцать тонн». Ну-ка давайте подберем мотив: та-ра-ра-ра-ра, та-та-та…
Музыкант кивнул:
– Я знаю, это же классика…
Он сделал на пульте нужные переключения и сразу заиграл нужную мелодию.
Полковник Рыбальченко был приятно удивлен:
– Молодец, парень! Тебе сколько лет? Двадцать три? Так поступай к нам, выучишься на ракетчика, и пойдешь, и пойдешь…
Бакен хотел раскрыть музыканту сверкающие горизонты его возможного будущего, но как ни напрягался – не получалось. Пойдет он на край земли, залезет под землю на боевое дежурство – вот и вся перспектива на ближайшие десять лет…
Молодой человек засмеялся и покрутил головой:
– Не-а… У меня белый билет. Плоскостопие.
– А-а-а… Ну, тогда ничего не получится. Ладно, все равно молодец! Только песню врубишь по моему сигналу! И басов не жалей!
– Сделаем! – сказал музыкант и подмигнул певице.
А в начале седьмого стали подтягиваться ребята. Точнее, не ребята уже, а – зубры, лоси, кабаны, медведи… Орлы! Козлы и бараны на такие встречи обычно не ходят…
Почти все с женами, военная выправка, солидные, властные лица, которые при виде взводного командира начинают разглаживаться, пропуская наружу давно спрятавшиеся черты молодых неискушенных курсантиков.
– Ракет-привет! Как дела?
– Порядок в ракетных частях!
– Здорово, ракетчик!
Васька Зубатов, главный двоечник и неряха на курсе, явился в костюме с бабочкой, чужеморским загаром и девушкой сногсшибательной красоты… Дочка, что ли?
– Это Люся, жена… Только приехали с Канар…
Вот те раз! А Колян Дубинин, Дуба, худоба метр шестьдесят пять росту, который писал песенки «под Окуджаву», – явился в полной полковничьей форме, с зачехленной гитарой в левой руке, черной перчаткой на правой и многоэтажными орденскими планками на груди. Он ушел из РВСН и всю жизнь воевал – Афган, Ангола, Чечня…
– Здорово, Бакен! Все ничтяк?
– Здорово, Дуба! Сыграешь сегодня «Ночную морзянку»?
– Не… У меня протез, Бакен. Если кто-нибудь другой только… Кузькин, надеюсь, притопал уже?
Витька Кузькин, лучший друг и соратник Дубы по песенному творчеству, ныне генерал-майор в Главном штабе ракетных войск, так и не отреагировал на шквал телефонных и электронных посланий. Последний контрольный звонок был произведен сегодня утром: секретарь сообщил, что Виктор Павлович на совещании у главкома, просил передать привет всем бывшим однокурсникам, а если дела позволят, он обязательно подъедет…
– Здоров, дружище! – Бакен хлопает по плечу невыразительного мужчину среднего роста, с обвисшими, как у бульдога, щеками и зачесанными через лысину редкими волосами. Рядом с ним столь же невыразительная, но сильно накрашенная женщина. Игорь Максимов – генеральский сынок, все годы учебы у него прокатились сплошным праздником, и впереди маячил праздник, с ковровой дорожкой, раскатанной прямо к генеральскому Олимпу. Только сегодня вид у него совсем не праздничный.
– Здорова, твоя корова! – остроумно ответил Максимов. – Все командуешь?
– А куда деваться? – добродушно развел руками бывший комвзвода. – А ты?
Максимов машет рукой и проходит в зал, увлекая за собой свою спутницу.
– Накомандовался. Надоело все, – бросает он на ходу.
А в дверях появляются новые гости.
– Привет, Марик! – Бакен сердечно обнимает розовощекого толстяка Ардона. – Ты уже сжег Нью-Йорк? Как твой бомбардировщик «Ту-160»?
– Еще нет, целый пока! – смеется тот. – Но в майорах не засиделся, недавно каперанга получил!
– Какой бомбардировщик, Марк? – удивленно хлопая глазами, спросила толстушка-жена. – Ты разве не на подводной лодке? А про Нью-Йорк я тоже ничего не знаю!
Бакен вытаращил глаза:
– Это военная тайна!
Ардон махнул рукой.
– Ты их больше слушай! Просто шутка такая…
На служебной «Вольво» без водителя прикатил Игореша Катранов с женой – все такой же красавец-мужчина, поседевший Бельмондо, глаза хищной рыси. Жена его явно другой породы – травоядное что-то, мясо-молочное… Но Игореша галантен с ней точно так же, как был галантен с лучшими красавицами своей молодости, – и, кстати, единственный из присутствующих мужчин, кто догадался подвинуть даме стул, усаживая за столик.
– Ракет-привет, Бакен!
– Самара! Ты?!!
Генка Шмаров, чемпион «Кубинки» по вольной борьбе, о котором ходил шепоток, что погиб-де в Туркменистане, то ли на спецоперации, то ли по пьяни в каких-то разборках… конопля, мак… что-то грязное, – вот он, стоит на пороге, жив-здоров, усмехается!.. Да и вымахал вдобавок чуть не под потолок!
Серега Семаго, Сёмга, располневший, но важный, несмотря что майор! Очень важный! Костюм шикарный, дымчатые очки суперфирменные, хороший галстук… Властные манеры, взгляд сверху вниз, хотя ростом-то он не вышел… Не майор, а генерал-майор! Сразу видно: привык рулить, командовать… Но это на гражданке. А здесь майор, он и есть майор. И жена Варя на генеральшу не похожа: ни одежды дорогой, ни украшений, ни печати высокой самооценки на лице, да и лицо особенно не ухожено. Как раз так жена майора и выглядит!
Увидев комвзвода, Сёмга подтянулся, была бы сигарета – выбросил бы. Но только на миг, потом барственно протянул руку:
– Приветствую, Валентин, рад видеть!
Глаза красные, щеки и нос в синеватых прожилках – видно, бухает Сёмга втихую…
А вот Мигунов, тезка его и дружок закадычный, – просто иллюстрация из глянцевого журнала: преуспеваюший мужик в расцвете лет, римлянин, патриций, атлет, и жена ему под стать, на актрису эту похожа, с Высоцким которая… Марина Влади. Красивая пара, ничего не скажешь.
– Сашка, зараза, здоров!!
– Лешка! Чья сегодня очередь на «тумбочке» стоять, а?!
– Рядовой Котельников, смир-р-рна!
– Я те сейчас покажу «рядовой»… Я уже пять лет полковник!..
– А я – десять!
Последним явился сухонький, желтенький, словно осенний кленовый листок, старичок с огромной волосатой бородавкой на подбородке, прошелестел на входе:
– Это здесь «кубинцы» гуляют?
Охранник не понял и хотел было направить дедушку в «Гавана Клаб» на шоссе Энтузиастов, но Бакен вдруг увидел, узнал и громко провозгласил:
– Нашему педагогу, Ивану Семеновичу – виват!
– Виват, виват! – довольно вяло отозвались «кубинцы».
Это и в самом деле был доцент Носков, единственный вольнонаемный преподаватель на кафедре истории КПСС, но сильно постаревший, будто это он дежурил неделями в подземных КП рядом с ядерными монстрами, и у него не выслуга, а жизнь шла с коэффициентом «год – за два». Вид у него был изрядно траченный: выношенный, лоснящийся на локтях и коленях костюм, мятые брюки, сворачивающийся в трубочку галстук и стоптанные туфли, нелепый рыжий портфель, потертый до неприличия…
Когда-то он носил толстые свитера и гавайки «под Хемингуэя». Въедливый, заводной, по-мальчишески беспощадный, он мог два часа кряду спорить со студентами о… ну хотя бы об истинной роли немецких троцкистов в подготовке военного переворота в СССР в конце 30-х или о раскулачивании времен коллективизации, он организовал дискуссионный кружок, кричал с пеной у рта: «Говорите, что думаете! Честно и откровенно! Вы взрослые люди и должны широко мыслить!» С ним было интересно, но потом у курсантов появились нехорошие подозрения: самые активные участники кружка хотя и получали «автоматом» экзамены и зачеты, но одновременно с ними происходили какие-то неприятности – одному степень секретного допуска снизят, другой по спецдисциплине неожиданно засыплется, у третьего вдруг неправильности в личном деле отыщутся… Хотя, может быть, это были обычные совпадения.
К семи часам наздоровались, наорались, наузнавались, нахлопались по плечам – расселись. После краткого периода брожения выкристаллизовались те же старые компании и группировки, что и в годы учебы: «лирик» Дуба оказался за одним столиком с Лехой Гришиным и Пашкой Клеверовым, такими же, как и он, искателями чего-то среди звезд, Генка Самара по старой дружбе подсел к Зубатовым, вызвав, похоже, приступ ревности у «молодожена» Васьки. Но кое-где бывшие курсанты расселись по ранжиру: вон, там за столиком одни полковники, которые в молодые годы едва здоровались друг с другом, зато сейчас болтают без умолку, нашли какие-то точки соприкосновения… а здесь – одни неудачники-майоры, тоже не друзья и не товарищи, скорее «интернационал» своего рода…
Валька Рыбаченко, недолго думая, присоединился к троице Мигунов-Катранов-Семаго. Эти, по крайней мере, не строят из себя невесть что, все та же «шобла-вобла», что и тридцать лет назад, только Пашки Дрозда не хватает. Семаго хлопнул для разгона фужер водки и по старой памяти вызвал Катрана на «рукопашную», армрестлинг то бишь, – сидят друг напротив друга за столиком, сцепились лапами, красные, пыхтят. Жены Катранова и Мигунова шумно болеют, смеются, а Варя Семаго смотрит грустно и молчит, будто не игра тут происходит, а серьезная схватка.
– А я слышала – они развелись, – шепчет Ирон Светлане.
– Да я тоже слышала… Но вот видишь…
В первом раунде Сёмга попал рукавом в паштет и сейчас, явно проигрывая, корчит страшные рожи и просит подставить ему следующее блюдо.
– Не повезло тебе, Варюша, придется пиджак в химчистку нести! – улыбнулась Ира Катранова.
Варя тоже слабо улыбнулась.
– Да уж… – ответила, но как-то неуверенно, будто на самом деле никакого отношения к Сёмгиному пиджаку она и не имеет.
– У всех налито?
Бакен встал, постучал вилкой по рюмке. Самара рявкнул, подражая голосу давно покойного майора Титова, куратора их группы: «Тихо там, ссза-ал! Два наряда вне очереди!»
Зал притих.
– Ну вот, – произнес Бакен, держа перед собой, как свечку, рюмку с водкой. – Вот мы и собрались, как тридцать лет назад… Тридцать лет. Кто мы были тогда? Зеленые пацаны, мечтавшие о точных запусках. Ни Афгана не было еще, ни «Комсомольца», ни Грозного. Помните, Колян нам песню пел: «За тридевятым облаком – дворец из серебра, за тридесятым облаком – алмазная гора, за тридвадцатым облаком…»
– …Летит какой-то хер, – хором подхватили за столиком Зубатова. – Но он и там не спрячется от нашей МБР!
– Да там не так было!.. – отозвался Дуба.
– «Шестнадцать тонн» давай! – крикнули полковники.
– «Ночную морзянку» лучше! – возразил Марик Ардон.
– Тихо!.. Неважно, – продолжал Бакен. – Я что хочу сказать… Вот в газетах пишут: «Ракетный щит страны…» Звучит здорово и красиво. Важное дело – защита от внешнего врага, от ядерного агрессора – ничего важнее этого вообще нет. А где он, этот щит? Что это вообще за щит такой? Как его увидеть?
За столом наступила тишина. Изготовившийся над пультом музыкант внимательно смотрел на тостующего, и певица слушала с интересом, и врач-метрдотель слушал, и три официанта…
– Так вот все мы и есть этот ракетный щит! – Бакен торжественно обвел рукой собравшихся. – Это и Зубатов, и Ардон, и Катранов, и Шмаров, и Дубинин, и Мигунов, и все остальные! Вчерашние зеленые пацаны, а ныне старшие офицеры, каждый – частица ракетно-ядерного щита! Поэтому первый тост за всех нас и за всех офицеров-ракетчиков!
Загремели отодвигаемые стулья. Офицеры встали, чокнулись, выпили до дна… Белобилетник за синтезатором заиграл, девушка запела: «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом…»
Ножи и вилки ударились о тарелки, образуя привычный шум застолья.
– Интересно у каждого судьба сложилась, – сказал Бакен, закусывая соленым помидором. – Вон Дуба не захотел под землей сидеть да на «точке» дежурить – и без руки остался. А мог вообще сто раз погибнуть! А Ардона мы в самолет посадить хотели, а он на подводный ракетоносец ушел – тоже за шкуру залилось. Двенадцать лет под водой, смертником…
– Почему смертником? – спросил Мигунов.
– А вы у него спросите, он расскажет…
Бакен налил по второй, поднялся, по-хозяйски оглядел стол:
– Напоминаю: не вовремя выпитая вторая есть напрочь загубленная первая! Наливай!
Он подождал, пока команда будет выполнена.
– А вспомните, как мы, еще зелеными пацанами, представляли свое будущее? Жизнь казалась простой и ясной, как распорядок дня в училище. Утром подъем, после завтрака – успешное поражение цели, к обеду – всенародная слава, вечером – любовь и очередное звание, в десять – отбой. Но судьба выпала всем разная. Кто-то узнал и славу, и любовь, и звания, а кому-то… Кому-то достался только отбой…
Бакен поднял рюмку.
– Второй тост – за курсантов и преподавателей, за наших товарищей, за тех из нас, кто ушел навсегда!
Все встали, не чокаясь, молча выпили. Сергей Семаго долго смотрел на свою рюмку, молча двигая губами, словно беседовал с ней. Когда все уже выпили и набросились на закуску, он резко опрокинул в себя водку, вытер губы тыльной стороной ладони и медленно опустился на стул.
– Хороших ребят уже нет, а самые говнистые почему-то живут дольше всех. И ничего им не делается, – он кивнул в сторону любителя политических диспутов Носкова. – Какого хера его позвали, упыря этого бородавчатого?
Иван Семенович, приземлившийся за «полковничьим» столом, уже что-то громко вещал своим ломким тенорком, размахивая вилкой с наколотой отбивной.
– Я тут в одной командировке был, ну, по лекторской работе, там так кормили – чуть ноги не протянул! Суп пустой да макароны. Ни кусочка натурального мяса. Хоть у вас, ребятушки, отъемся…
– Никто не звал, сам пришел, – сказал Бакен. – Старикан чует, где вкусно кормят. Я слышал, у него целая база данных есть на бывших курсантов, кто где живет, чем на жизнь зарабатывает. Ходит в гости к тем, кто побогаче, в рестораны зазывает – устраивает «вечера памяти», слезу вышибает. Естественно, расплачивается не он…
– База данных, – сморщился Семаго. – Знаем мы его «базу данных»… Пришел бы этот говнюк ко мне в гости.
– Сёмга, мы за столом, – напомнил Катранов.
– Миль пардон… Гран миль пардон, – Сёмга нахмурился и замолчал. – Кстати, Пашка Дрозд у него отличником был и в его долбаный кружок исправно ходил…
– К тому же это все не факты, а догадки, – Катранов положил себе разварной картошки, выбрал ломтик селедки потолще. – Мало ли кто что болтает…
– Зря не болтают! Вот про тебя же никто не болтает? И про Бакена, и про Мигуна.
– Замнем для ясности, – сказал Бакен. – Сейчас выпьем за учителей и командиров!
Выпили. Потом за удачу. Потом за отсутствие боевых запусков. Потом за то, чтобы если боевые запуски все же случались, то они были удачными.
Вскоре наступила перемена горячего – сновали туда-сюда нагруженные снедью официанты, похожие в своих белых халатах то ли на пироговских хирургов, то ли на современных стоматологов, – а за столиками, под водку и фирменные «пироговские» пельмени, напоминающие маленькие женские ушки, продолжался процесс нового узнавания старых знакомых.
Прожженный лирик Дуба, оказывается, так ни разу и не женился. Два года как на пенсии, живет в однокомнатной «хрущевке» за первой кольцевой, хохмы ради ходит иногда в боулинг – разрабатывает протез.
– Песни пишешь?
– Не-а. После двух лет в Чечне – только матерные частушки.
А вот Зубатов Васька познакомился со своей Люсей в Марбелье.
– А где это – Марбелья?
– Да ты чего, чувак? В Испании, где ж еще… километров десять от Пуэрто Банус…
Васька по уши влез в турбизнес и очень доволен, Люська тоже держит долю в деле, идет по стопам.
– Фотки хотите посмотреть?… Вот это Тунис. А это Новая Зеландия, там маури живут. А это Багамы, месяц назад. Видишь, Люська из бассейна выходит, а там уже гарсон стоит навытяжку – завтрак принес…
Фото переходит из рук в руки, все понимающе кивают, завидуют и Ваське, и гарсону: Люська в тонком бикини – чудо как хороша.
– А чем хуже Светка Мигунова? Постарше немного, ясный день… но ты посмотри: сочная баба, красивая, а как держится – вылитая жена президента США.
– Да не… С Люськой ей не потягаться!
– Таких одна на миллион, точно тебе говорю. Ну, а что Люська… Как эта Люська будет выглядеть через десять лет, когда ей тоже под сорок станет?… Что? Ты хочешь сказать, Светке не тридцать семь?… Сколько-сколько?! Почти ровесница Мигуна?!.. Сорок семь??… С такой фигурой?! Да хватит тебе заливать! Спорим – на бутылку «Наполеона»! На ящик «Наполеона»! Вот сейчас пойдем и спросим, вот пойдем… Кто сказал? Сам Мигун сказал? Ну, тогда ладно…
– А Смирнов и Кузькин – два наших генерала, так и не пришли. И даже открыточки не прислали.
– Ну и что? Все понятно… Если бы ты был генералом, тоже бы не пришел. И я не пришел.
– А Игореша Катранов, хоть и главный инспектор при начальнике штаба, – до сих пор не избавился от своего южнорусского говорка. Гэкает и хэкает, как на первом курсе.
– А Лешка Желябов в вертолете разбился – помните, в девяносто девятом в Чечне подбили вертушку с начальниками?
– А Пашку Дрозда помните? В первый же год погиб после училища. И глупо так – плитой придавило, представляешь? – стройка у них на полигоне была какая-то, что ли… Не плитой? Электричеством долбануло? А-а, ну, может быть. Вообще – темная история. Разные слухи ходят. Говорили, будто Пашка сам себя порешил… Как чего? Ты же знаешь его: нос задирать любил, всегда и во всем первый, я, я, я… а там, на полигоне, его на место поставили. И шобла-вобла его, Мигунов с Катрановым и Семаго, они вроде тоже прессовали потиху. Дрозд два дня перед тем с разбитой мордой ходил – Сёмга навесил за что-то. А может, Катран… А Катран, кстати, с Мигуном с ним вместе тогда работали, рядом. Говорят, один поссать пошел, второй тоже куда-то намылился – и тут же Дрозда припекло на триста восемьдесят горячих. Странно, да? Зато сейчас они – полковники, вон – морды наели, в английских костюмах и при красивых женах, а Дрозд…
– Оказалось, что лодка эта «разовая»! И экипаж «разовый»! Как, как… Да очень просто! У нее запуск только из надводного положения, время на подготовку – двадцать минут по нормативу. А на ее обнаружение и уничтожение по нормативу НАТО тоже минут двадцать – двадцать пять… Успел дать залп – и тут же тебя накрыли. А может, и не успел, а тебя накрыли… Короче, камикадзе! Офицеры-то знали, да и матросы догадывались. А что толку?
– Запечься живьем – хуже нет… А вот Толик Иванов – который мандарины у Габидзе тырил, – Толик недавно в аварии погиб на Рижском, его «БМВ» на встречную вынесло.
– А Мур Мурыч, помните, курс у нас читал по теории механики? Зачеты ставил не глядя, коньяк со студентами пил. А шпана его на нож посадила…
– Распустили страну… Нянькаются с бандитами, убийцами, шпионами… Доиграются!
– Я звонил, только тебя в Москве не было. Секретарь ничего толком не объясняла. Кто-то сказал, что вроде в какой-то секретной командировке?
– Да слушай их больше! Какая секретная командировка? Ты мне лучше вот что скажи…
– А помнишь?
– А помнишь?…
Музыкант наигрывал что-то тихое и несущественное, прогуливаясь от Гленна Миллера к Исааку Дунаевскому и обратно, зато потом, когда водка растворилась в крови, голоса за столиками стали возбужденнее, а на брюки и пол упали первые консервированные горошины и куски ветчины, – тогда он врезал «Черного кота», певица экспансивно запела, и в центр зала, ободряемые и понукаемые женами, стали выходить седые полковники, раскачиваясь и игриво вращая располневшими торсами, а Катранов с женой майора Полуянова, худенькой брюнеткой, изобразили настоящий твист-«нарезку», синхронно ввинчиваясь в пол и вывинчиваясь под аплодисменты и одобрительные крики зала. Потом были «Замечательный сосед» и «Песенка про зайцев», утоптавшие в желудках первую и вторую перемены и слегка проветрившие разгоряченные спиртным головы.
Когда прозвучали первые аккорды леграновского вальса из «Шербурских зонтиков», Сергей Мигунов встал из-за столика и галантно поклонился мадам Катрановой: позволите? Ирон рассмеялась, подала ему руку, и они тут же растворились в толпе танцующих. Генка Самара, весь вечер не спускавший глаз с Люси Зубатовой, сейчас кружил ее по залу, бережно придерживая огромной лапищей за тонкую талию. Подвыпивший майор Полуянов спотыкался и неловко теснил свою партнершу – обвешанную брильянтами супругу полковника Котельникова.
Раскрасневшийся Носков, чрезвычайно возбужденный обильной едой, выпивкой и разговорами, пригласил некую разбитную майоршу в цветастом платье – и она теперь носила его от колонны к колонне, словно маленькую мумию, закатывала глаза в потолок и еле сдерживала рвущийся наружу смех.
А Свету Мигунову неожиданно ангажировал генеральский сынок Максимов. Она его не сразу узнала, вышла на танцпол и только потом вгляделась и ахнула: это ты?!
– А что, не похож?






