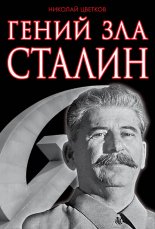В семье Мало Гектор

Глава IX
Когда Перрина проснулась, гроза уже прошла, но дождь лил не переставая и застилал все водяным туманом. Продолжать путь было невозможно — приходилось покориться необходимости и ждать.
Но это обстоятельство нисколько не тревожило девочку. Перспектива провести ночь в лесу ее не пугала, а шалаш даже нравился ей: он отлично выдержал бурю, а толстый слой стружек превращал его в удобное и надежное убежище. Если уж ей приходится ночевать здесь, то, конечно, лучше всего для этого подойдет шалаш, в котором она только что так хорошо выспалась.
С того момента, как Перрина покинула Париж, она не имела ни времени, ни возможности заняться своим туалетом; между тем песок и пыль толстым слоем покрывали ее с головы до пят, отчего во всем теле чувствовался страшный иуд. Здесь она была в полном одиночестве и смело могла приняться за приведение себя в приличный вид, тем более что вырытые вокруг шалаша отводные канавки были полны воды…
В кармане юбки Перрины, кроме географической карты и брачного свидетельства матери, хранился еще и маленький сверточек. В нем лежал кусок мыла, небольшой гребешок, наперсток и клубок ниток с двумя воткнутыми в него иголками. Перрина развязала тряпочку и, сняв кофточку, башмаки и чулки, наклонилась над канавкой, полной чистой дождевой воды, и стала умываться. Вытираться она могла только небольшой тряпкой, в которую были завернуты все ее богатства: все-таки это было лучше, чем ничего.
Умывшись, Перрина причесала свои белокурые волосы и сплела их в две толстые косы. Если бы не голод, снова начинавший терзать ее желудок, да не боль в нагруженных ногах, девочка чувствовала бы себя совсем хорошо. Она успокоилась и готова была бодро идти вперед.
С голодом она ничего не могла поделать: если шалаш и служил надежным убежищем, съестного в нем ничего не хранилось. Что же касается ссадин, то девочка решила заштопать прорвавшиеся во время ходьбы чулки, чтобы грубая кожа башмаков не так натирала ноги. И она немедленно принялась за работу…
Работа эта была полезна еще и тем, что девочка, занятая починкой обуви, меньше думала о еде.
Но когда эта работа была окончена, голод опять стал брать свое.
Так как из-за дождя Перрина не могла никуда уйти, то она придумала средство если не утолить голод, то, по крайней мере, обмануть свой желудок. Шалаш, как уже говорилось, был покрыт хворостом, и Перрине пришло в голову нарезать для еды молодых березовых побегов, которые ей легко было достать, взобравшись на кучу сушняка, наваленного в углу шалаша. Еще во время своих странствований с отцом по белому свету она видела, как в некоторых странах из березового сока приготовляют довольно вкусный напиток: значит, это дерево не ядовитое. Но можно ли его есть и можно ли им насытиться?
Надо было попробовать. Она срезала ножом несколько молодых, почти зеленых веточек и, разделив их на маленькие куски, принялась жевать один из них, но нашла это кушанье очень жестким и горьким.
Пока она занималась своим туалетом, чинила чулки, пробовала ужинать березовыми ветками, время шло да шло, и, хотя солнца не было видно, за облаками, затянувшими небо, судя по сгущающейся темноте, уже наступала ночь. Так и было. На землю опустилась ночь, мрачная, как и всегда в те дни, когда не бывает сумерек. Дождь перестал, но тотчас же поднялся белый туман. В десяти шагах ничего не было видно, а кругом слышался только легкий, мерный шум от последних водяных капель, скатывавшихся с листьев и ветвей на крышу шалаша или прямо в лужи…
Хотя Перрина уже освоилась с мыслью провести здесь ночь, но, тем не менее, ей стало страшно, когда наступила темнота. Положим, она уже провела здесь большую часть дня, и все это время ей не грозила никакая опасность, если не считать страшного удара молнии, опрокинувшего ее на землю. Но лес днем совсем не то, что лес ночью, с его торжественным молчанием и таинственными тенями, так сильно действующими на воображение людей, не привыкших ни к чему подобному.
Вот почему она долго не могла заснуть, несмотря на то, что очень хотела этого.
Какие звери водятся в этом лесу? Нет ли тут волков?
Перрина поднялась со своего ложа, выбрала толстую палку, ножом заострила ее с одного конца, а затем устроила себе еще ограду из хвороста. Если нападут волки, она, по крайней мере, сможет защищаться из-за той ограды, на что, разумеется, храбрости у нее хватит. Это ее успокоило, и когда, уже с оружием в руках, она снова улеглась на свою постель из стружек, то ее сразу же сморил сон.
Разбудило ее пение птицы, торжественное и грустное, с чистыми звучными переливами. Она тотчас же узнала певца: это был черный дрозд. Перрина открыла глаза и увидела, что слабый белесоватый свет пробивается сквозь зеленый покров леса; деревья и ветви четко вырисовывались на бледном фоне утренней зари. Наступило утро.
Дождь перестал, и тяжелые намокшие листья неподвижно поникли на ветвях.
Глубокая тишина, царившая в лесу, нарушалась только пением птицы, раздававшимся над головой девочки. Этому пению издалека вторили другие голоса, точно на утренней перекличке, когда сигналы перекатами несутся от одного конца лагеря к другому…
Перрина слушала, обдумывая в то же время, не пора ли ей вставать и идти дальше, и вдруг почувствовала, что ее знобит; от лесной сырости вся одежда ее промокла и теперь, при утренней прохладе, девочка стала мерзнуть. Недолго думая, она быстро поднялась, встряхнулась и собралась идти, решив, что согреется на ходу…
Однако, поразмыслив, она решила не торопиться, а дождаться полного рассвета, чтобы определить по небу, какая будет погода; прежде чем покинуть этот шалаш, следовало убедиться, не начнется ли опять дождь, как вчера.
Чтобы скоротать время, а также и для того, чтобы быть в движении, она положила на прежнее место связки хвороста, разбросанные ею накануне, потом расчесала волосы и вымылась на берегу канавки, полной воды…
Пока она занималась этим, взошло солнце, и сквозь просветы древесных ветвей блеснуло бледно-голубое, без малейшего облачка, небо: утро будет прекрасное, и, быть может, день окажется не хуже. Надо было отправляться в путь.
Несмотря на починенные чулки, идти ей было тяжело: так сильно болели ее ноги с первых же шагов. И все же она смело и бодро пошла по дороге, которая, впрочем, после дождя стала гораздо мягче. Косые лучи поднимавшегося солнца согревали ей спину, бросая в то же время на песок удлиненную тень, следовавшую рядом с ней. По своей тени Перрина могла заметить происшедшую в ней перемену: это не была уже тень бедного оборвыша с растрепанными, всклокоченными волосами; теперь девочка выглядела так, что могла надеяться на более дружелюбную встречу в деревнях.
Погода была так чудесна, что в сердце бедняжки снова затеплилась надежда. Перрине казалось, что никогда еще не было такого прекрасного, такого радостного утра; гроза и дождь все очистили, все вымыли и вдохнули новую жизнь в природу, которая словно впервые расцвела в эту самую ночь; вверху, в небесной синеве, купаясь в солнечных лучах, весело распевали жаворонки, а с полей, окружавших лес, поднимался свежий запах трав и цветов…
Неужели в то время, как вся природа ликует, прославляя Творца, только одна Перрина не разделит этого восторга? Неужели несчастье всегда будет преследовать ее? Почему бы не выпасть счастливой случайности и на ее долю? Не было ли хорошим знаком то, что она нашла убежище в лесу, и не сулило ли ей это удачу и дальше? Быстро шла Перрина, и фантазии одна за другой рождались в ее голове. Она уже начинала мечтать о возможности найти на дороге оброненные кем-нибудь деньги: ведь люди так часто теряют кошельки, которые потом кто-нибудь находит. Разве не может случиться, что и она найдет не кошелек, конечно, нет, — а просто монету в одно су или, самое большее, в десять су, которые она без всякого угрызения совести могла бы потратить на себя: для потерявшего это не было бы большим ущербом, а ее спасло бы от голодной смерти. Может быть, ей удастся оказать кому-нибудь услугу или выполнить работу и получить за свой труд несколько су… Ведь ей так немного нужно для того, чтобы просуществовать еще три или четыре дня.
И она продолжала идти, внимательно рассматривая каждый камешек и, конечно, не находя ни одной монетки, выпавшей из чужого кармана; не представлялось случая и подработать, хотя мысленно она успела уже наработаться в волю и получить за это не одно су.
А между тем голод снова начал мучить ее и с такой силой, что Перрина боялась, что не будет в состоянии идти: боли под ложечкой, тошнота, головокружение, обильный пот отнимали у нее последние силы.
Скоро она подошла к полю, засеянному горохом, и здесь увидела четырех девочек примерно одних с ней лет и крестьянку: они обрывали стручки. Собрав всю свою храбрость, она перепрыгнула через дорожную канаву и направилась к крестьянке. Та, заметив приближение девочки, крикнула ей:
— Что тебе надо?
— Я хотела вас спросить, не возьмете ли вы меня поработать?
— Нам никого не нужно.
— Я возьму что дадите.
— Откуда ты?
— Из Парижа.
Одна из девочек подняла голову и, бросив на нее недружелюбный взгляд, крикнула:
— Эта бродяга пришла сюда из Парижа отнимать работу у других.
— Я же сказала тебе, что нам никого не нужно, — продолжала крестьянка.
Перрине оставалось только опять перепрыгнуть через канаву и снова пуститься в путь.
— Жандармы идут! — крикнула ей другая девочка. — Спасайся!
Перрина быстро обернулась; все девочки расхохотались, довольные своей шуткой.
Перрина сделала несколько шагов и остановилась. Слезы застилали ей глаза. Что она им сделала, чтобы заслужить такую жестокость с их стороны?
Выходит, бродягам так же трудно найти себе работу, как и потерянное су. Теперь Перрина хорошо понимала это и потому решила больше никому не предлагать своих услуг.
Полуденное солнце окончательно сломило ее; она еле-еле волокла ноги, поминутно останавливаясь, чтобы отдохнуть и собраться с силами.
Так она перешла все поле и опять достигла леса, через который пролегала дорога. Как ни сильно пекло солнце в поле, но в лесу духота становилась просто нестерпимой: хоть бы малейший ветерок, хоть бы глоток свежего воздуха.
Бедная девочка изнемогала и, наконец, изнуренная до последней степени, вся в поту, повалилась на траву, будучи не в силах даже шевельнуться.
Послышался стук колес, и мимо нее проехала телега.
— Ну, и жара, — проговорил правивший лошадью крестьянин, — сил нет терпеть, хоть умирай!
Уже начинавшая бредить Перрина приняла эти слова за произнесенный над ней приговор.
Итак, значит, это правда — она должна умереть; она успела свыкнуться с этой мыслью, и этот вестник смерти только повторил уже известное ей.
Ну, что ж, она умрет. Безумием было бы с ее стороны идти наперекор судьбе и продолжать бороться. Она все равно ничего не могла бы поделать. Отец и мать умерли, теперь настал ее черед.
Печалило ее только одно: отчего не умерла она раньше, вместе с ними. Тогда ей не пришлось бы погибать здесь, в этой канаве, одинокой, покинутой, как какому-нибудь зверьку…
Тогда Перрина решила сделать еще последнее усилие: войти в лес и поискать там место, где она могла бы лечь и уснуть последним сном, скрывшись от любопытных глаз. Немного дальше шла поперечная дорога; девочка пошла по ней и в пятидесяти метрах от дороги нашла маленькую прогалинку, покрытую травой и красивыми лиловыми цветочками. Перрина присела в тени каштанового дерева и затем, вытянувшись на траве, положила голову на руку, как делала это, засыпая каждый вечер…
Глава X
Неизвестно, как бы долго проспала Перрина, если бы прикосновение чего-то теплого к лицу не разбудило ее. Девочка испуганно открыла заспанные глаза и увидела большую, косматую голову, наклонившуюся над ней.
В первую минуту она инстинктивно хотела было откинуться в сторону, но тотчас узнала обладателя огромного языка, лизнувшего ее прямо в лицо.
Перрина увидела стоящего над ней осла и сразу узнала в нем своего старого друга.
— Паликар! Мой милый Паликар!
Она обхватила шею ослика руками и стала целовать его, заливаясь слезами.
Услышав свое имя, осел перестал ее лизать и, подняв голову, издал несколько радостных возгласов.
В это время Перрина рассмотрела, что он был без сбруи, без недоуздка и со спутанными ногами.
Приподнявшись, чтобы лучше охватить его шею и прижать его голову к своей, поглаживая его одной рукой, в то время как он, в свою очередь, опускал к ней свои длинные уши, Перрина услыхала, как чей-то хриплый голос закричал:
— Что там с тобой случилось, старый шут? Погоди немножко, я сейчас приду, мой милый!
На дороге раздался звук торопливых шагов, и Перрина увидела мужчину в блузе и кожаной шляпе.
— Эй, девчонка, что это ты делаешь с моим ослом? — крикнул он ей.
Перрина тотчас же узнала старьевщицу Ла-Рукери, опять в мужской одежде. Именно ей она продала Паликара на конном базаре; но старьевщица сначала не узнала ее и только спустя некоторое время стала удивленно приглядываться к девочке.
— Я где-то видела тебя! — проговорила она.
— Да, когда я вам продавала Паликара.
— Так это ты, девочка? Что ты здесь делаешь?
Перрина не успела ничего ответить; она вдруг почувствовала такую слабость, что опять опустилась на землю, и только ее бледное лицо да глаза, полные слез, говорили красноречивее всяких слов.
— Что с тобой? — спросила Ла-Рукери. — Ты больна?
Перрина едва шевелила губами, не в силах произнести слова; бледная, взволнованная, дрожа как в лихорадке, лежала она на земле, вытянувшись во всю длину своего маленького детского тельца.
— Ну, — воскликнула Ла-Рукери, — что же ты, даже не можешь сказать мне, что с тобой?
Но именно этого и не была в состоянии сказать Перрина, хотя и сознавала все, что вокруг нее происходило.
Ла-Рукери была женщина опытная, отлично знавшая нищету во всех ее видах.
— Она, чего доброго, еще умрет с голоду, — прошептала торговка.
Недолго думая, она направилась к дороге, где стояла маленькая распряженная тележка, боковые решетки которой были украшены кроличьими шкурками, поспешно открыла сундучок, достала откуда краюшку хлеба, кусок сыра и бутылку вина и принесла все это девочке.
Перрина все так же лежала на земле.
Ла-Рукери стала перед ней на колени и приложила горлышко бутылки к ее губам.
— Выпей-ка хорошенько, это тебя подкрепит.
Девочка сделала глоток, другой, и легкий румянец заиграл на ее бледном личике.
— Ты, значит, голодна?
— Очень…
— Ну, так надо поесть, только осторожно, потихоньку… подожди немного.
Ла-Рукери отрезала кусок хлеба, положила на него сыр и подала Перрине.
— Главное — не сразу; лучше я поддержу тебя.
Предостережение было разумно: судя по тому, как принялась Перрина за хлеб, она могла и не послушаться наставлений Ла-Рукери.
Все это время Паликар, лежа на траве, смотрел на происходящее своими большими, кроткими глазами; но когда Ла-Рукери села рядом с Перриной на траву, он встал возле нее на колени.
— И тебе захотелось хлеба? — проговорила Ла-Рукери.
— Позвольте мне дать ему кусочек.
— Хоть два, хоть три, сколько хочешь… когда кончится этот хлеб, я принесу еще. Славное животное так радо, что опять нашло тебя. Знаешь, ведь он и в самом деле очень добрый.
— Вы заметили это?
— Когда доешь свой кусок, то расскажешь мне, как ты очутилась в этом лесу; полумертвая от голода, а теперь мне жалко прерывать твое занятие.
Несмотря на наставления Ла-Рукери, кусок хлеба был быстро уничтожен.
— Ты, может быть, хочешь еще?
— По правде говоря, да.
— Ну, так я дам тебе еще, но только после того, как ты расскажешь мне свою историю; нельзя есть так много после долгого голодания, это вредно.
Перрина стала рассказывать; когда она дошла до приключения в Сен-Дени, Ла-Рукери разразилась целым градом ругательств по адресу булочницы.
— А знаешь ли ты, что она тебя обокрала! — воскликнула старьевщица. — Я никогда не даю фальшивых монет просто потому, что саму меня никогда не обманут. Будь спокойна, она мне ее отдаст, когда я опять буду проезжать через Сен-Дени, иначе я подниму против нее весь квартал; у меня есть там друзья, и мы с ней разделаемся по-своему…
Перрина рассказала свою историю до конца.
— Итак, ты собралась умирать, бедняжка, — проговорила Ла-Рукери, — что же ты чувствовала?
— Я испытывала такие мучения, что кричала, как кричат ночью, когда задыхаются; потом я видела во сне рай и вкусные угощения, которые собиралась есть; мама ждала меня там и готовила мне шоколад на молоке.
— Что ты думаешь делать дальше?
— Продолжать свой путь…
— А что ты думаешь есть завтра? Только в твоем возрасте и можно идти так, куда глаза глядят.
— Что же мне делать?
Ла-Рукери подумала немного и произнесла:
— Вот что, милочка. Я иду до Крейля, не дальше, и буду скупать свой товар в попутных деревнях и городах, а по дороге буду сворачивать немного в сторону, в Шантильи, Санлис; ты пойдешь со мной, если у тебя хватит силы. Попробуй-ка крикнуть хоть в полсилы: «Кроличьи шкурки, тряпки, железо старое покупаем!»
Перрина исполнила это приказание.
— Отлично! У тебя чистый голос, а у меня болит горло; ты будешь кричать за меня и зарабатывать на хлеб. В Крейле я знаю яичника, который возит яйца на продажу в Амьен, а оттуда уже недалеко до Марокура, где живут твои родственники. Я попрошу его подвезти тебя в его тележке, а в Амьене ты сядешь на машину. Я дам тебе взаймы сотню су, взамен тех, что у тебя украла булочница, которая мне их вернет; в этом ты можешь быть уверена.
Глава XI
План Ла-Рукери был приведен в исполнение.
За неделю Перрина успела побывать во всех деревнях, расположенных по обе стороны леса Шантилльи: в Гувье, Сен-Максимине, Сен-Фирмене, Монлевеке, Шамане, а когда, наконец, они прибыли в Крейль, Ла-Рукери предложила девочке остаться с нею.
— У тебя прекрасный голос, очень подходящий для торговли тряпьем; ты бы и мне сделала одолжение, да и самой тебе было бы на пользу: ты могла бы зарабатывать хорошие деньги.
— Очень вам благодарна, но мне нельзя.
Тогда Ла-Рукери попробовала пустить в ход другой довод:
— И Паликар был бы всегда с тобой.
Напоминание об осле смутило Перрину, но она тотчас же поборола свое волнение.
— Мне необходимо идти к моим родным.
— Разве твои родные спасли тебе жизнь, как сделал это Паликар?
— Я не сдержала бы обещания, которое дала матери, если бы не поехала.
— Ну, так отправляйся; но если когда-нибудь тебе придется пожалеть, что ты отказалась от моего предложения, так уж пеняй сама на себя.
— Поверьте, я никогда не забуду того, что вы для меня сделали.
Ла-Рукери, хотя и обиделась из-за отказа, но вовсе не до такой степени, чтобы забыть свое обещание относительно дальнейшего путешествия Перрины вместе с торговцем яйцами. Таким образом, целые сутки Перрина ехала в удобной повозке под парусиновым чехлом, вместо того чтобы тащиться пешком по пыльной дороге. В Эссенто она ночевала в риге, а на следующий день, в воскресенье, была уже на вокзале в Альи и, стоя перед окошечком кассы, протягивала свою монету в сто су, которую на этот раз никто не подумал объявить фальшивой. Кассир взял деньги и вместе с двумя франками семьюдесятью пятью сантимами сдачи вручил девочке билет до Пиккиньи, куда она приехала в одиннадцать часов утра.
За несколько дней, проведенных с Ла-Рукери, Перрина успела зашить юбку и кофточку, сделать маленькую косынку из тряпок, выстирать белье и привести в приличный вид башмаки; в Альи, в ожидании отхода поезда, она сходила на реку, умылась, причесалась и теперь выходила из вагона чистой, свежей и веселой.
Но такой бодрый вид объяснялся не тем, что в кармане ее побрякивали пятьдесят пять су и что сама она уже не казалась, как прежде, жалкой бродяжкой: ее поддерживала надежда, что после всего перенесенного для нее теперь наступают лучшие времена.
Оставив позади себя вокзал, Перрина перешла мост над шлюзами и весело направилась дальше по зеленому лугу; то тут, то там виднелись небольшие озера, или, скорее, болотца, на берегах которых постоянно сидели рыболовы с удочками. Болота чередовались с торфяными ямами, и на пожелтевшей траве виднелись ряды маленьких, черных кубиков, помеченных белыми буквами или номерами; это были кучи торфа, разложенные для просушки.
Сколько раз отец Перрины рассказывал ей об этих торфяных ямах и о больших прудах, которые наполнились водой после того, как из них был извлечен торф: это придавало всей долине Соммы своеобразный вид. Благодаря этим рассказам, край, по которому она проходила, не казался ей незнакомым: она именно так и представляла себе и эти обнаженные, лишенные растительности холмы, окаймлявшие долину, и стоящие на их вершинах ветряные мельницы, вертящиеся даже в тихую погоду под веянием морского бриза.
Узнала она и первую попавшуюся ей на дороге деревушку с красными черепичными крышами: то было селение Сен-Пипуа, где находились ткацкие и канатные фабрики, зависевшие от Марокурских заводов. Вдали сквозь зелень тополей виднелись черепичные крыши сельских церквей и высокие, красные трубы фабрик, над которыми по случаю воскресного дня не вились клубы дыма.
Когда Перрина проходила мимо церкви, там только что кончилась обедня. Прислушиваясь к разговорам выходивших из церкви прихожан, Перрина узнала медленный, певучий пикардийский говор, подражанием которому в детстве так часто забавлял ее отец.
Между Сен-Пипуа и Марокуром дорога, окаймленная ивами, извивается среди торфяных ям, пробираясь по менее зыбкой почве. Люди, идущие по ней, видят дальнейший путь только на несколько шагов вперед. Поэтому Перрина едва не налетела на молодую девушку, медленно шагавшую с тяжелой корзиной, которая висела у нее на руке.
Перрина настолько уже приободрилась, что даже осмелилась сама заговорить с девушкой.
— Эта дорога ведет в Марокур, не правда ли?
— Да, все прямо.
— О, все прямо, — смеясь, повторила Перрина, — только сама дорога не слишком-то прямая.
— Я иду в Марокур, и если вы боитесь заблудиться, то пойдемте вместе.
— С удовольствием, если вы позволите мне помочь вам нести корзину.
— От этого я не откажусь: она и в самом деле тяжелая. — И девушка поставила корзину на землю и с облегчением вздохнула.
— Вы из Марокура? — спросила она Перрину.
— Нет. А вы?
— Конечно, я оттуда.
— Вы работаете на фабрике?
— Да, как и все, я работаю при cannetieres.
— Что это такое?
— Ну, разве вы не знаете, что такое les cannetieres, les epouloirs? Да откуда же вы?
— Из Парижа.
— И в Париже не знают про cannetieres? Чудеса! Ну, так я объясню: это машины, на которых делают нитки для челноков.
— А сколько там платят?
— Десять су в день.
— А работа трудная?
— Не особенно; надо только внимательно смотреть и не мешкать. Вы тоже хотите наняться?
— Да, если меня возьмут.
— Наверное, возьмут, там всех берут, — иначе откуда взялись бы те семь тысяч рабочих, которые трудятся в мастерских. Вам только надо прийти завтра в шесть часов утра к решетке… Ну, довольно, впрочем, болтать: мне нельзя опаздывать.
С этими словами девушка взялась за ручку корзины с одной стороны, Перрина с другой, и они вместе пошли по дороге.
Перрина не могла не воспользоваться случаем узнать кое-что о том, что ее интересовало, но она не решалась прямо расспрашивать эту незнакомую девушку и должна была, болтая обо всем подряд, в то же время наводить разговор только на нужную ей тему.
— Вы родились в Марокуре?
— Да, как и моя мать; а мой отец был из Пиккиньи.
— Ваши родители умерли?
— Да, я живу с бабушкой, которая содержит лавку… с мадам Франсуазой!
— А, мадам Франсуаза!
— Разве вы ее знаете?
— Нет… я просто повторила «мадам Франсуаза».
— Ее, правда, все здесь знают благодаря лавке, а еще потому, что она была кормилицей господина Эдмонда Пендавуана. Если хотят выпросить что-нибудь у господина Вульфрана Пендавуана, то обращаются к ней.
— И им всегда это удается?
— Иногда да, иногда нет; господин Вульфран не всегда бывает в одинаковом настроении.
— Если ваша бабушка была кормилицей господина Эдмонда Пендавуана, то почему она не обращается прямо к нему?
— К господину Эдмонду Пендавуану?! Да он уехал отсюда еще раньше, чем я родилась, и с тех пор его никто не видел. Он поссорился с отцом из-за каких-то дел, когда его посылали в Индию за покупкой джута… Но если вы не знаете, что такое cannetiere, то вы, наверное, не знаете, и что такое джут?
— Трава какая-нибудь?
— Конопля, высокая конопля, которую собирают в Индии, ее прядут, ткут и красят на Марокурских фабриках. Благодаря этой-то конопле господин Вульфран Пендавуан и нажил все свое состояние. Ведь господин Вульфран не всегда был богат: он начал с того, что сам правил своей повозкой, в которой возил нитки и куски полотен, которые ткали наши работники. Я говорю вам это потому, что он сам не скрывает этого.
Девушка остановилась.
— Хотите, переменим руки.
— Хорошо, мадемуазель… Как вас зовут?
— Розали. А вас как?
Перрина не хотела открывать свое настоящее имя и назвала первое пришедшее на ум.
— Орели.
Когда, после краткого отдыха, они зашагали дальше, Перрина опять возобновила интересовавший ее разговор.
— Вы сказали, что господин Эдмонд Пендавуан уехал после ссоры с отцом?
— Да, а когда он вернулся, то они еще сильнее разругались, потому что господин Эдмонд женился там на туземной девушке, а здесь господин Вульфран хотел женить его на барышне из самой знатной семьи во всей Пикардии. Он для того-то и построил свой замок, стоивший многие миллионы, чтобы поселить в нем сына и невестку. Господин Эдмонд опять уехал и с тех пор не возвращался, так что даже неизвестно, жив ли он или умер; никто ничего точно не знает, и от него нет писем уже многие годы. Сам господин Вульфран ни с кем не говорит о своем сыне, и племянники его тоже не говорят.
— У господина Вульфрана есть племянники?
— Теодор Пендавуан, сын его брата, и Казимир Бретоннё, сын сестры, которого он взял к Себе в помощники. Если Эдмонд не вернется, то все богатство и все фабрики господина Вульфрана перейдут к ним.
— Разумеется.
Так как Перрина не хотела выказывать излишнего любопытства, то прошла несколько минут молча, думая, что Розали, у которой язычок был болтлив, не замедлит возобновить разговор сама, что и случилось.
— А ваши родные тоже приедут в Марокур? — спросил она.
— У меня нет родных.
— Ни отца, ни матери?
— Ни отца, ни матери.
— Вы — как и я, но у меня есть добрая бабушка, и она была бы еще добрее, если бы у меня не было дядюшек и тетушек, которых она не хочет злить. Если бы не они, я не работала бы на фабрике, а сидела бы в лавке. Но она не может поступить по-своему. Так вы совершенно одна?
— Совершенно одна.
— Как же это вы надумали приехать из Парижа в Марокур?
— Мне сказали в дороге, что я, возможно, найду работу в Марокуре, и вместо того, чтобы продолжать свой путь в тот край, где у меня еще остался кое-кто из родных, я свернула сюда. Неизвестно еще, как тебя примут родные, которых не знаешь…
— Это правда, если есть хорошие, то есть и дурные.
— В том-то и дело.
— Ну, не горюйте! Пари держу, что вы найдете работу на фабрике! Десять су за целый день, немного, конечно, но все-таки это кое-что… Кроме того, вы можете добиться того, что будете получать и двадцать два су. Я хочу вас спросить об одной вещи… хотите, отвечайте… не хотите, не отвечайте… Есть у вас деньги?
— Немного.
— Ну, так если это покажется вам удобным, вы можете жить у бабушки Франсуазы. Вам это будет стоить двадцать восемь су в неделю; плата вперед.
— Я могу заплатить эту сумму.
— Только знайте заранее: я вовсе не обещаю вам за эту цену особенно роскошное жилье: вас будет шестеро в одной комнате. Но все-таки у вас будет постель, простыни, одеяло; не у всех они есть.
— Я принимаю это с благодарностью.
— У бабушки не только такие жильцы, которые платят двадцать восемь су в неделю; в новом доме у нас есть и хорошие отдельные комнаты для служащих с фабрики: Фабри, инженера, Монблё, старшего бухгалтера, Банди, конторщика по иностранной корреспонденции. Если вам когда-нибудь случится с ним разговаривать, не забудьте называть его господином Бэндит; он англичанин и сердится, когда его имя произносят «Банди», — думает, что его хотят оскорбить и назвать «вором».
— Не забуду; впрочем, я говорю по-английски.