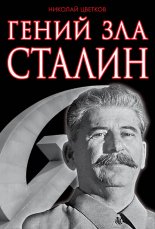В семье Мало Гектор

— Вы говорите по-английски?
— Да, моя мать была англичанка.
— Вот что! А! Ну, господин Бэндит будет очень рад поговорить с вами по-английски, и он был бы еще больше рад, если бы вы знали все языки, потому что величайшим развлечением для него является чтение по воскресеньям «Отче наш» по одной книге, где эта молитва напечатана на двадцати пяти языках. Дочитав, он начинает ее снова, потом опять, — и так каждое воскресенье. А впрочем, он хороший человек…
Глава XII
Между деревьями, в два ряда окаймлявшими обе стороны дороги, уже несколько минут то показывались, то опять исчезали справа апсидная крыша колокольни, а слева — украшенная узорчатой резьбой крыша какого-то величественного здания, за которым, немного подальше, виднелись высокие фабричные трубы из красного кирпича.
— Мы подходим к Марокуру, — объявила Розали. — Скоро вы увидите замок господина Вульфрана, потом заводы и фабрики; а деревенские домики мы увидим только, когда подойдем совсем близко: они спрятались за деревьями; а вон там, на той стороне реки, церковь с кладбищем.
Молодые девушки прошли еще немного и достигли места, где с левой стороны дороги деревья были словно нарочно подстрижены, чтобы дать взору путника возможность насладиться чудным видом на замок господина Вульфрана и на расположенные неподалеку фабричные здания, с фасадами, отделанными белым камнем или красным кирпичом. Высокие трубы, поднимавшие к небу свои дымящиеся жерла, застыли над зеленеющими кронами деревьев.
Удивленная Перрина невольно замедлила шаги, тогда как Розали, казалось, и не замечала прелести открывшейся картины.
— Вам нравится это? — спросила Розали, останавливаясь.
— Очень красиво.
— А господин Вульфран живет здесь совсем один, с целой дюжиной лакеев, не считая садовников и конюхов, помещающихся вон в тех флигелях в конце парка, у входа в деревню.
Подхватив корзину, девушки продолжили свой путь, и скоро перед ними предстала уже вся масса фабричных зданий; одни строения — новые, другие — старые, и все они сосредоточились вокруг огромной трубы, царившей над всем окружающим; труба эта была серого цвета с черным верхом.
Они приблизились к первому дому. Внимание Перрины теперь всецело было занято происходящим вокруг: она так много слышала про эту деревушку.
Особенно поражала Перрину многочисленность здешнего населения; мужчины, женщины и дети в праздничных одеждах или сновали по улицам, вокруг своих домов, или собирались в небольших залах, через открытые окна которых можно было видеть все происходившее внутри; даже в городе нечасто увидишь такое скопление народу.
— Ну, вот мы и пришли, — проговорила Розали, показывая свободной рукой на маленький каменный домик, обнесенный аккуратно подстриженной живой изгородью. — Во дворе и там дальше — помещения, которые сдаются рабочим; в доме лавка, а на верхнем этаже — комнаты для служащих.
Деревянная калитка в изгороди вела в маленький дворик, засаженный яблонями; посредине его проходила небольшая, усыпанная песком аллейка, тянувшаяся к самому дому. Едва девушки сделали несколько шагов по аллее, как на пороге дома появилась еще довольно молодая женщина и приветствовала Розали громким криком:
— Поторопись, лентяйка! За это время можно было успеть сходить в Пиккиньи… довольно ты пошаталась!
— Это моя тетка Зенобия, — вполголоса проговорила Розали, — она не всегда бывает в хорошем настроении.
— Что ты там шепчешься?
— Я говорю, что, если бы мне не помогли нести эту корзину, я бы и теперь еще не пришла.
— Молчала бы уж лучше, белоручка.
— Подождите меня во дворе, — сказала Розали Перрине, — я сейчас вернусь, и мы вместе пообедаем; пока подите купите себе хлеба; булочник живет в третьем доме налево. Торопитесь.
Когда Перрина вернулась, она нашла Розали за столом в тени яблони; на столе стояли две тарелки с картофельным рагу.
— Садитесь, — пригласила Розали, — мы поделимся с нами.
— Но…
— Не беспокойтесь; я спрашивала бабушку Франсуазу, и она позволила.
Раз так, то Перрина не заставила себя упрашивать и села к столу.
— Я уже переговорила с ней относительно вас; дело улажено, и вам остается только отдать двадцать восемь су бабушке Франсуазе. Вы будете жить вон там.
И она показала на здание с глиняными стенами, видневшееся из-за кирпичного дома. Постройка выглядела такой ветхой, что оставалось только удивляться, как это она до сих пор не рухнула.
— Там жила бабушка Франсуаза, пока не выстроила этот дом на деньги, заработанные, когда она была кормилицей господина Эдмонда. Там не так уютно, как в доме, но ведь рабочие и не могут жить так же, как господа, не правда ли?
Неподалеку от них, за другим столом, сидел человек лет около сорока, серьезный, важный, и внимательно читал маленькую книжечку в переплете.
— Это господин Бэндит читает «Отче наш», — прошептала Розали.
И, не стесняясь оторвать того господина от чтения, она обратилась к нему:
— Господин Бэндит, вот эта молодая девушка говорит по-английски.
— А! — протянул он, не поднимая глаз.
И только спустя несколько минут он, наконец, устремил взгляд в их сторону.
— Вы англичанка? — спросил он Перрину по-английски.
— Я — нет, но моя мать была англичанка, — на том же языке ответила девочка.
На этом беседа кончилась, и серьезный господин снова погрузился в чтение.
Девушки заканчивали свой обед, когда на дороге, за изгородью, послышался шум легкого экипажа.
— Кажется, это фаэтон господина Вульфрана, — вскричала Розали, поспешно вставая.
Экипаж подъехал к калитке и остановился.
— Это он, — объявила девушка и побежала к нему навстречу.
Перрина обернулась и, оставаясь на месте, стала рассматривать прибывших.
В небольшом щегольском экипаже на низких колесах сидело двое: молодой человек, правивший лошадью, и старик с седыми волосами и бледным лицом, с красными жилками на щеках; на голове его была соломенная шляпа. Даже когда он просто сидел на своем месте, заметно становилось, насколько он высок. Это был Вульфран Пендавуан. Розали подошла к фаэтону.
— Кто-то идет, — проговорил молодой человек, собиравшийся было выйти из экипажа.
— Кто это? — спросил Вульфран Пендавуан.
Ему ответила сама Розали:
— Это я, Розали.
— Скажи своей бабушке, чтобы она пришла поговорить со мной.
Розали побежала к дому и вскоре вернулась, ведя за собой торопившуюся бабушку.
— Добрый день, господин Вульфран.
— Здравствуйте, Франсуаза.
— Чем могу служить вам, господин Вульфран?
— Дело идет о вашем брате Омере. Я только что был у него, но никого не застал дома.
— Омер в Амьене и вернется только к вечеру.
— Скажите ему, что я узнал о том, что он сдал свою бальную залу этим шалопаям… ну, а я не хочу, чтобы здесь происходили подобные сборища.
— Во Флекселле бывали такие…
— Флекселль — не Марокур. Я не хочу, чтобы мои рабочие превратились в таких же, какими стали флекселльские; мой долг — следить за ними. Вы не кочующие племена из Анжу или Артуа, а потому оставайтесь тем, что вы есть. Я так хочу, это моя воля. Передайте ее Омеру. Прощайте, Франсуаза.
— Прощайте, господин Вульфран.
Старик пошарил в кармане своей жилетки.
— Где Розали?
— Здесь, господин Вульфран.
Он протянул ей руку, на ладони его блестела монета в десять су.
— Это тебе.
— О, благодарю вас, господин Вульфран.
Экипаж покатил дальше.
Веселая и торжествующая Розали вернулась к Перрине.
— Господин Вульфран дал мне десять су, — объявила она, показывая монету.
— Видела.
— Лишь бы тетя Зенобия не узнала, а то она возьмет их у меня на сбережение.
— Я думала, что он вас не знает.
— Как?! Он меня не знает! Он мой крестный отец!
— Он спросил: «Где Розали?», когда вы были возле него.
— Да это потому, что он не видит.
— Не видит!
— Разве вы не знаете, что он слепой?
— Слепой!
И Перрина тихо повторила последнее слово раза два или три.
— А давно он ослеп? — спросила он наконец.
— Его зрение давно уже стало слабеть, но никто не обращал на это внимания, — думали, что это от горя из-за отсутствия сына. Здоровье, раньше такое крепкое, ухудшилось; у него несколько раз было воспаление легких, и он теперь постоянно кашляет; и вот как-то утром оказалось, что он не может ни читать, ни ходить один. Подумайте только, какое было бы горе для всех нас, если бы ему пришлось продать или оставить фабрики! Но он ничего не оставил и продолжает работать по-прежнему.
В эту минуту на пороге появилась Зенобия и закричала:
— Розали, скоро ты придешь?
— Я кончаю обедать.
— А прислуживать кто будет?
— Я должна вас оставить, — обратилась Розали к Перрине.
— Не стесняйтесь из-за меня.
— До вечера.
И медленными шагами Розали неохотно направилась к дому.
Глава XIII
Перрина бы охотно посидела еще на скамейке под деревом, если бы могла считать себя вправе здесь находиться; но Розали в разговоре упомянула, что этим двором могут пользоваться только служащие-пансионеры, а не рабочие, для которых немного подальше имелся особый маленький двор, где не было ни скамеек, ни стульев, ни стола. И Перрина поднялась со скамейки и неторопливой походкой вышла за ворота, чтобы побродить по улицам.
Хотя она старалась идти медленно, тем не менее очень скоро вся деревня осталась позади. Всю дорогу ее смущали любопытные взгляды прохожих, и она не могла приостановиться хотя бы на минуту, чтобы рассмотреть тот или другой дом. На вершине косогора, на противоположной от фабрик стороне, виднелся лес, зеленой стеной вырисовывавшийся на горизонте. Там, казалось девочке, она может найти долгожданное уединение и отдохнуть на свободе, не привлекая к себя ничьего внимания.
Действительно, в лесу, как и в окружавших его полях, не было ни души. Не заходя далеко, Перрина остановилась на опушке и, растянувшись на зеленом мху, стала любоваться открывшимся перед ней видом на всю долину и деревню.
Прямо перед ней, по ту сторону деревни, на склоне, противоположном тому, где она сидела, возвышались строения фабрики, и по цвету их крыш Перрина могла проследить историю их развития, как будто ей это рассказывал кто-нибудь из местных старожилов.
В центре, на берегу реки, виднелось старое здание из кирпича и почерневшей черепицы, с высокой и тонкой трубой, полуразрушенной морским ветром, дождем и дымом; это была старинная льнопрядильня, долгое время пустовавшая, а тридцать пять лет тому назад арендованная мелким полотняным фабрикантом Вульфраном Пендавуаном. Местные обыватели с недоверием относились к его безумной затее и пророчили ему разорение. Но вместо разорения пришло богатство — сначала маленькое, а потом большое. Старая наседка не замедлила вывести цыплят. Первые добавочные здания были так же плохо построены и казались такими же непрочными, как и прядильня. Зато другие здания, особенно наиболее поздние, поражали солидностью постройки и роскошью отделки. Если первые дома уныло стояли на небольшом пространстве вокруг старой фабрики, то новые здания свободно раскинулись по окружающим лугам. Сообщение между ними поддерживалось при помощи вагонеток, скользивших по рельсам, и целой паутиной проволок, тянувшихся и пересекавшихся над фабричными зданиями.
Долго просидела так Перрина, рассматривая то громадные фабричные трубы, то острые шпили громоотводов, торчавших на крышах; потом взгляд ее переходил к железнодорожным вагонам, к складам угля, и она старалась представить себе, какова должна быть жизнь этого маленького, мертвого городка, когда все это приходит в движение, дымится, кружится, издавая тот могучий грохот и свист, какие она уже слышала в долине Сен-Дени, покидая Париж.
Потом она перевела взгляд на деревню. Перрина заметила, что и деревня эта испытала точно такие же перемены, как и фабрика; но, в противоположность фабричным зданиям, здесь старые дома были прочнее и красивее новых, как бы доказывая, что люди, обитавшие прежде в земледельческой деревушке Марокур, жили в большем достатке, чем рабочие с фабрики.
Среди всех этих старинных зданий один дом особенно выделялся как своими размерами, так и большим садом, в котором старые, высокие деревья тянулись до самой реки, где был построен плот. Перрина узнала этот дом: его занимал Вульфран Пендавуан в первые годы своей жизни в Марокуре, пока не переселился в замок. Сколько часов отец ее еще ребенком провел на этом плоту, слушая болтовню прачек, рассказывавших ему разные старинные легенды. Перрина так хорошо помнила все эти слышанные от отца истории, как будто узнала их только накануне.
Солнечные лучи заставили Перрину передвинуться; но ей достаточно было сделать всего несколько шагов, чтобы найти другое место, не хуже прежнего, где трава была так же мягка и душиста и откуда открывался такой же прекрасный вид на деревню и на долину. До самого вечера она могла оставаться здесь в таком состоянии блаженства, какого давно уже не испытывала.
Перрина видела слишком много горя в жизни, чтобы поверить хоть на минуту, что страданиям пришел конец только потому, что ей удалось обеспечить себе работу, хлеб и ночлег. Она отлично сознавала, что ей предстоит еще долго бороться, чтобы осуществить мечты ее матери; впрочем, то что она была уже в Марокуре, значило очень много, если вспомнить, с каким трудом она попала сюда. Крыша над головой и еще десять су в день — разве это не было целым состоянием для несчастной девочки, которая могла назвать своим домом только придорожную канаву и которой приходилось питаться березовой корой?
Грустные мысли, навеянные воспоминанием о матери, вызвали слезы на глаза Перрины, и она начала плакать, шепча одни и те же слова, которые столько раз повторяли ее уста с памятного дня на кладбище, как будто фраза эта обладала какой-то чудодейственной силой:
— Мама, дорогая мама!
И на самом деле, разве это обращение к дорогому умершему существу не подбадривало ее, не укрепляло в борьбе; когда она, казалось, уже изнемогала от усталости и отчаяния? Разве могла бы она выдержать до конца, если бы не повторяла себе то и дело слова умирающей: «Я тебя вижу… да, я тебя вижу счастливой». Ей казалось, что налетавший легкими порывами ветер приносил на ее мокрые щеки ласковые прикосновения матери и шептал ей так нежно, так мягко ее последние слова: «Да, я тебя вижу счастливой…»
Да и почему бы нет? Почему мать ее не могла быть рядом в эту минуту, наклонясь над ней, как ангел-хранитель?
В эту минуту глаза ее машинально остановились на больших маргаритках, поднимавшихся из травы своими широкими, белыми венчиками, и ей захотелось погадать; быстро поднявшись на ноги, она подбежала к цветам и наугад сорвала несколько цветочков.
После этого она вернулась на свое место и, опустившись на траву, дрожащей рукой стала обрывать белоснежные лепестки на одном из цветков.
— Мне удастся, немного, вполне, не удастся вовсе; мне удастся, немного, вполне, не удастся вовсе…
И так, пока не осталось всего несколько лепестков…
Сколько? Она не хотела считать, потому что число их само дало бы ей ответ. И ее сердце сильно-сильно билось, когда она обрывала эти последние лепестки:
— Мне удастся… немножко… много… все!..
В тот же миг теплое дыхание ветерка скользнуло по волосам и губам Перрины, и ей показалось, что то был ответ ее матери; что то был поцелуй, самый нежный из когда-либо полученных от нее.
Глава XIV
Легкие сумерки спускались на землю, и над всей долиной Соммы уже начинали клубиться белые пары тумана, когда Перрина решилась, наконец, покинуть свое местечко. В окнах повсюду загорались огоньки; в воздухе становилось как-то особенно тихо; слышался неуловимый, таинственный шепот ночи, и только снизу доносились еще временами весёлые звуки песен.
Мрак не пугал девочку, и она вовсе не боялась находиться так поздно в лесу или идти одной по большой дороге, так как слишком привыкла ко всему этому. Но завтра ей надо встать пораньше, чтобы идти на работу, и потому лучше не очень засиживаться сегодня и отправляться спать.
Когда она вошла в деревню, уже совсем стемнело. Подойдя к двору тетушки Франсуазы, девочка увидела мистера Бэндита, продолжавшего сидеть все за тем же столом и читавшего свою книжечку. Около него стояла свеча с абажуром из обрывка газетной бумаги; ночные бабочки весело кружились у огня. Почтенный джентльмен был весь погружен в чтение и, казалось, так и не вставал со своего места.
Но когда Перрина проходила мимо него, он поднял голову, чтобы посмотреть, кто это, и, узнав девочку, ради удовольствия поговорить на родном языке, обратился к ней:
— Желаю вам спокойной ночи.
— Добрый вечер, сэр, — ответила девочка.
— Где вы были? — продолжал он по-английски.
— Я гуляла в лесу, — отвечала Перрина на том же языке.
— Как! Одна?
— Одна, у меня нет знакомых в Марокуре.
— Почему, в таком случае, вы не остались дома почитать? По воскресеньям самое лучшее читать.
— У меня нет книг.
— Вы католичка?
— Да, сэр.
— Во всяком случае, я могу ссудить вас кое-какими книгами. Прощайте.
— Покойной ночи, сэр.
На пороге дома, прислонившись к двери, сидела Розали, отдыхая и наслаждаясь вечерней прохладой.
— Вы хотите идти спать? — спросила она Перрину.
— Да, я бы очень этого хотела.
— Я вас провожу, но сперва вам не мешало бы переговорить с бабушкой Франсуазой. Пойдемте в лавку.
Договоренность, уже улаженная между бабушкой и внучкой, быстро завершилась уплатой за неделю вперед двадцати восьми су, которые Перрина выложила на конторку; кроме пой суммы, с нее взяли еще два су за освещение.
— Итак, вы хотите поселиться в нашей стороне, моя милая? — добродушно проговорила тетушка Франсуаза.
— Если мне это удастся.
— Это удастся, если вы хотите работать.
— Я только за этим и пришла.
— Ну, так дело пойдет! Вы не всегда будете сидеть на пятидесяти сантимах, а со временем достигнете франка и даже двух; а если потом вы выйдете замуж за хорошего рабочего, получающего три франка, это составит сто су в день; с этим им будете богаты. Господин Вульфран делает большое благодеяние, предоставляя работу всему нашему краю; правда, у нас есть и земля, но одна земля не может прокормить всех.
Пока старая кормилица разглагольствовала с важностью Женщины, привыкшей к тому, чтобы к ее словам относились С уважением, Розали доставала из шкапа узелок белья. Слушая наставления бабушки, Перрина в то же время следила глазами за внучкой и заметила, что предназначавшиеся для нее простыни были из толстой небеленой парусины; но она уже так давно не спала на простынях, что могла считать себя счастливой, имея и такие, как бы грубы они ни были. Ей можно будет раздеваться! Старухе Ла-Рукери, никогда не разрешавшей себе расхода на постель во время своих путешествий, никогда и в голову не приходило предложить ей подобную роскошь; кроме того, еще задолго до их приезда во Францию все постельное белье из их походной тележки, кроме самого необходимого для ее матери, было продано или изорвано на тряпки.
Перрина взяла половину постельных принадлежностей и, следуя за Розали, прошла через двор, где человек двадцать рабочих, мужчин, женщин и детей, сидя на деревянных чурбанах и на камнях, оживленно болтали в ожидании обычного часа отхода ко сну. Как мог весь этот люд помещаться в старом доме, который был так невелик?
Вид чердака, когда Розали зажгла маленькую свечку и вставила ее в проволочный подсвечник, сам послужил ответом на этот вопрос. На пространстве шести метров в длину и не более трех метров в ширину вдоль перегородок стояло шесть кроватей, между которыми шел узенький проход от силы в метр шириной. Таким образом, шестерым приходилось ночевать там, где едва было бы достаточно места для двух; вот почему, несмотря на то, что маленькое оконце в стене, противоположной входу, было открыто и в комнату проникал свежий воздух, с самого порога потянул им навстречу горячий и удушливый запах, сдавивший Перрине горло. Но она не позволила себе сделать никакого замечания, даже когда Розали сказала ей, улыбаясь:
— Здесь немного тесновато, не правда ли?
Перрина ограничилась ответом:
— Да, немножко.
— Четыре су — ведь это не сто су.
— Разумеется.
Впрочем, даже эта миниатюрная комнатка все-таки была лучше ночлега в лесу или в поле; если она выносила запах барака Грен-де-Селя, то, без сомнения, перенесет и здешний…
— Вот ваша постель, — сказала Розали, указывая ей на кровать, стоявшую перед окном.
Постель являла собой набитый травой мешок, положенный на козлы и на две доски; подушкой тоже служил мешок.
— Папоротник свежий, будьте покойны, — продолжала Розали, — вновь прибывшего мы никогда не кладем на старый папоротник; мы этого не делаем, хотя и говорят, что в настоящих гостиницах не очень-то церемонятся в этом отношении.
Если в этой маленькой комнате было слишком много постелей, то стул в ней виднелся всего только один.
— В стенах есть гвозди, — продолжала Розали, отвечая на немой вопрос Перрины, — на которых вы можете вешать одежду.
Под кроватями Перрина заметила несколько ящиков и корзин, в которых жильцы прятали свое белье, но так как у нее его не было, то гвоздя, вбитого в ногах ее постели, было ей вполне достаточно.
— Вы будете здесь с хорошими людьми; правда, они немного болтливы, особенно по воскресеньям, но не обращайте на это внимания. Завтра встаньте вместе с другими, и я расскажу вам, что надо будет сделать, чтобы поступить на фабрику. Прощайте.
— Прощайте и спасибо.
— Всегда рада услужить вам.
Оставшись одна, Перрина поспешила раздеться, пользуясь тем, что в комнате никого не было. Но когда она улеглась на простыне и простыней же закрылась вместо одеяла, она вовсе не ощутила удовольствия, — даже если бы в ткани были стружки, то и тогда простыни не могли быть более жесткими; но для нее это не имело особенного значения: ведь голая земля тоже была жестка, когда она в первый раз ложилась на нее, а потом ведь она привыкла да еще как скоро…
Дверь отворилась, и в комнату вошла молоденькая девушка лет пятнадцати, которая тотчас же начала раздеваться, изредка бросая на Перрину молчаливые взгляды. Так как она была одета по-праздничному, то туалет ее продолжался довольно долго: ведь ей нужно было убрать в маленький ящик свой нарядный костюм и повесить на гвоздь рабочее платье на завтрашний день.
За первой пришла другая, потом третья, потом четвертая; в комнате поднялась оглушительная болтовня; все говорили разом, рассказывая друг другу, как каждая провела день; они вытаскивали и снова задвигали свои ящики или корзины, которые задевали друг за друга, что вызывало нетерпеливые движения или нелестные слова по адресу хозяйки чердака.
— Какая трущоба!
— Она скоро еще посредине кроватей наставит.
— Наверное… Я здесь ни за что не останусь.
— Куда же ты пойдешь? Разве у других лучше?
Скоро все постели были заняты, и суматоха несколько поубавилась. Разговоры, тем не менее, не прекратились, только несколько изменилось их содержание: передав друг другу все, что произошло интересного в течение дня, девушки перешли к дню завтрашнему, толковали о работе в мастерских, о штрафах, обсуждали, кто с кем и почему поссорился, судачили о своем фабричном начальстве, причем не забыли никого, начиная с самого господина Вульфрана и его племянников, которых называли «молодыми». Особенно досталось директору Талуэлю, которого хотя и помянули всего один раз, но зато наградили самыми обидными прозвищами: «Кощей Бессмертный», «Иуда».
Со странным смешанным чувством любопытства и брезгливости слушала Перрина болтовню своих новых подруг; с одной стороны, ей хотелось слышать все эти пересуды, чтобы знать, с кем ей придется иметь дело, а с другой — ей просто стыдно было слушать этих сплетниц, так бесцеремонно позоривших, может быть, даже хороших людей.
А работницы все продолжали свою беседу, причем разговоры принимали уже чисто личный характер, и постороннему трудно было угадать, о ком и о чем именно шла тут речь. Перрина, думавшая, что здесь после всего перенесенного ею она, наконец, заснет крепким, покойным сном, с грустью видела, что мечтам ее не суждено сбыться; все страхи одиночества в лесу или в пустынном поле меркли перед гвалтом этой благоустроенной квартиры. Кроме того, бедная девочка, всю свою жизнь дышавшая чистым воздухом на природе, просто задыхалась в этой душной каморке.
Положим, почему бы ей не освоиться, не привыкнуть ко всему, что так легко переносят эти здоровые крестьянки, будущие ее товарки по фабрике? Она ведь не бог знает как роскошно провела свое детство и, пожалуй, прошла более суровую жизненную школу, чем самая бедная из них, — значит, ей надо суметь жить так же, как живут и они.
Ей казалось, что надо только хорошенько закутаться и постараться не дышать некоторое время, чтобы таким образом и заснуть, а сонные — Перрина это хорошо знала — равнодушны ко всему на свете.
К несчастью, не дышать было нельзя: она задыхалась…
Пока она ворочалась, рука ее нечаянно задела обрывок бумаги, заменявший одно из стекол в окне, около которого стояла ее постель. Девочка чуть не вскрикнула от радости. Почему бы ей не продрать бумагу, чтобы дать доступ свежему воздуху снаружи? Что могло быть в этом дурного? Хотя остальные девушки уже привыкли к этой испорченной атмосфере, но, по всей вероятности, и они чувствовали недостаток воздуха. Нужно только не шуметь и, главное, никого не разбудить, а бумагу продрать, конечно, можно.
Но ей не пришлось прибегать к такой мере, которая оставила бы следы; ощупывая рукой края бумаги, Перрина обнаружила, что бумага прилегала очень неплотно, и ногтем осторожно отогнула один край. Тогда, приблизив рот к этому отверстию, она, наконец, получила возможность дышать, и так в этой позе и заснула.
Глава XV
Когда Перрина проснулась, в окно уже пробивался свет, но такой бледный, что не освещал даже комнаты; слышалось пение петухов; через отверстие, сделанное ею накануне, проникал холодный воздух; близился рассвет.
Несмотря на приток свежего воздуха снаружи, дурной запах в комнате не развеялся; было все так же душно и так и не становилось легче дышать.
А между тем все спали мертвым сном, по временам прерываемым сдавленными стонами.
Стараясь немного увеличить отверстие в бумаге, Перрина нечаянно ударила по стеклу, да так сильно, что оно зазвенело. Шум не только никого не разбудил, как того боялась Перрина: никто даже не пошевельнулся.
Это немного ободрило девочку. Она тихонько сняла с гвоздя свою одежду, медленно и без малейшего шума оделась и босиком, держа в руках башмаки, направилась к двери, которую скоро отыскала при свете занимающейся зари. Дверь была просто заложена на щеколду и потому бесшумно отворилась, и Перрина очутилась на площадке лестницы. На первой ступеньке она села и, обувшись, сошла вниз.
Ах, какой чудный воздух, какая приятная свежесть охватили ее! Никогда еще не дышала она с таким наслаждением. Через открытую калитку она вышла на улицу и побрела прямо, куда глаза глядят, не думая о том, куда она выйдет. Ей просто нужно было воздуха и простора, и она все шла и шла. Заря уже золотила верхушки высоких деревьев и крыши домов; еще несколько минут — и взойдет солнце, настанет день. В это мгновение среди глубокой тишины раздался звон колокола: это фабричные часы, отбив три удара, сказали Перрине, что у нее осталось еще три часа до открытия мастерских.
Как проведет она эти часы? Ходить все это время значило бы утомиться еще до начала работы; самым лучшим было бы выбрать подходящее местечко и, усевшись там, ждать назначенного часа.
С каждой минутой небо становилось светлее и окружающие предметы принимали все более ясные очертания, что давало Перрине возможность определить, где она теперь находится.
Оказалось, что, бродя в потемках, она незаметно подошла к одному из тех маленьких озер, образовавшихся на местах выемки торфа, которых так много в этой стране; все они бесконечной линией тянулись одно за другим, разделенные только узкими полосками земли. Весной, во время разлива, воде удалось кое-где размыть эти слабые, ненадежные преграды, и соединившиеся в одно озера образовали нечто, похожее на небольшую речку с извилистыми берегами.
На минуту Перрина остановилась, чтобы полюбоваться на залитую водой равнину, своим видом напомнившую ей окрестности Пиккиньи; здесь тропинка, по которой она шла, изгибалась и шла вверх по склону небольшого холма, и Перрина рассчитывала, что немного дальше она найдет местечко, где удобно будет расположиться на отдых.
Но вдруг девочка увидела на берегу озера, около которого она только что стояла, один из тех шалашей из ветвей и камыша, которые в этом краю устраиваются специально для охоты на перелетных птиц зимой. Шалаш настолько понравился Перрине на вид, что ей пришла в голову мысль добраться до него и там отдохнуть; там никто не станет донимать ее расспросами, чего ради она бродит здесь так рано, и, кроме того, ей не придется сидеть под каплями росы, дождем падавшими с деревьев.
Перрина вернулась немного назад и после недолгих поисков напала на небольшую, едва заметную тропинку, которая, как ей показалось, сквозь густой ивняк вела прямо к шалашу. Она не ошиблась: тропинка шла к шалашу, но до него не доходила, потому что шалаш был построен на маленьком островке, тоже поросшем ивами. Чтобы добраться до него, нужно было перейти канавку, полную воды; к счастью, с берега на островок кто-то перебросил дерево, заменявшее мостик. Недолго думая, Перрина смело двинулась вперед по скользкому от росы бревну и минуту спустя уже стояла перед небольшой дверцей из камыша, переплетенного ивовыми прутьями. Хозяева шалаша не находили нужным запирать его на замок, и проникнуть в него не представляло ни малейшего труда.
Шалаш имел форму правильного четырехугольника и со всех сторон закрыт был щитами из камыша и высокой травы; на каждой стороне имелись маленькие отверстия, заменявшие окна и незаметные снаружи; густой слой папоротника устилал пол; обрубок пня в одном из углов служил стулом.
Ах, какое хорошенькое гнездышко! Как мало походило оно на только что покинутую ею комнату. Как хорошо и уютно было бы спать здесь, на свежем воздухе, лежа на папоротнике, вместо того чтобы задыхаться в душной каморке на чердаке у тетушки Франсуазы и слушать, как болтают ее жилицы.
Перрина прилегла на папоротник, прислонившись головой к мягкой камышовой перегородке, и закрыла глаза. В ту же минуту она почувствовала сильное желание вздремнуть часок-другой, но боязнь проспать и опоздать на фабрику заставила ее отказаться от этого намерения; она даже поднялась со своего ложа и встала на ноги.
Солнце тем временем уже взошло, и золотистые лучи его, проникая сквозь отверстие в перегородке, освещали шалаш; певчие птицы веселым хором приветствовали появление дневного светила, а чирки покинули свои таинственные убежища в чаще камышей и с громкими криками сновали по воде.
Приложив глаз к одному из отверстий, Перрина стала смотреть, как беззаботно наслаждались радостями жизни пробудившиеся от сна пернатые и насекомые; среди камышей порхали стрекозы; у берега птицы раскапывали клювами сырую землю, разыскивая червячков, а дальше, по пруду, покрытому легким туманом, самка-чирок, пепельно-коричневого цвета, размерами немного меньше домашних уток, плавала вокруг своих птенцов, громкими криками стараясь удержать их возле себя; но молодняк и не думал повиноваться своей осторожной матери и вовсю гонялся за насекомыми, скользя между цветками водяных кувшинчиков. Вдруг что-то молнией промелькнуло перед глазами Перрины, и только по блестящему цвету крыльев она угадала, что это пролетела чайка в поисках добычи.
Долго стояла девочка, приникнув к отверстию, боясь малейшим неосторожным движением выдать свое присутствие и тем самым разогнать чутких дикарей. Как все это было красиво, весело, оживленно, ново для нее, словно в волшебной сказке! Ей даже приходило в голову, что весь островок с шалашом походил на небольшой Ноев ковчег.
Но вот над прудом нависла какая-то черная тень, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Перрине это показалось очень странным, потому что солнце успело уже довольно высоко подняться над горизонтом и ярко сияло в безоблачном небе. Откуда могла взяться эта тень? Маленькие отверстия шалаша не давали возможности рассмотреть ее хорошо, и пришлось отворить дверь. Оказалось, что тень падала от клубов дыма, вырывавшихся из высоких труб фабрики, где уже разводили огонь для того, чтобы приготовить пар к моменту открытия мастерских.
Итак, значит, скоро начнется рабочий день, и ей надо покинуть шалаш. Но прежде чем выйти, Перрина подняла лежавшую на пне газету, которую она вначале не заметила в темноте и увидела только теперь, когда отворила дверь. Это был номер «Амьенской Газеты» от 25 февраля. Так как листок лежал на единственном месте, где можно было присесть, то, сопоставляя это с днем, каким была помечена газета, Перрина заключила, что последний посетитель шалаша был в нем 25 февраля и с тех пор в него никто больше не заходил.
Глава XVI
Не успела Перрина выйти из ивняка на большую дорогу, как уже загудел фабричный свисток. Резкие, могучие звуки точно пробудили от сна раскинутые по долине фабричные здания: сильнее повалили из труб клубы черного дыма, и со всех концов понеслись те же нестройные, дикие звуки паровых свистков, спешивших принять участие в этом своеобразном концерте.
Это был сигнал собираться на работу. По заведенному в Марокуре правилу, свисток, данный в главном корпусе, подхватывали все остальные отделения фабрики, передавая его дальше по деревням, и таким образом на всех Пендавуанских фабриках работа начиналась в один и тот же час.
Боясь опоздать, Перрина прибавила шагу, и когда она вошла в деревню, все население уже проснулось; двери были распахнуты настежь, и фабричные, стоя на пороге, торопливо поглощали свой завтрак. Но на фабрику никто еще не шел, так как слышанный Перриной сигнал был только повесткой, — значит, и ей нечего было особенно торопиться.
Скоро часы пробили три четверти, и в ту же минуту опять загудел свисток, но на тот раз резче и громче, точно приказывая поторопиться. И весь этот люд вдруг засуетился: из домов, из дворов, из харчевен — отовсюду высыпал народ, заполняя улицу. Тут были мужчины, женщины и дети, и все это шумело, кричало, смеялось. Из боковых улиц к этой толпе присоединялись новые группы и, сливаясь в одно целое, все они живой волной катились вдоль главной улицы по направлению к фабрике.
В одной из групп Перрина заметила Розали и сейчас же присоединилась к ней.
— Где это вы были? — удивленно спросила Розали.
— Я рано встала и пошла гулять.