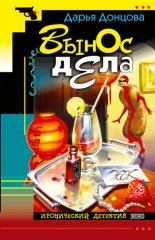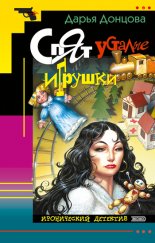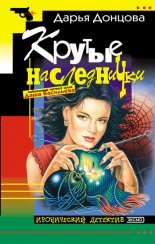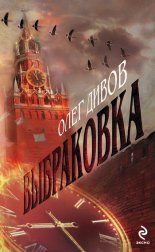Особые поручения: Декоратор Акунин Борис
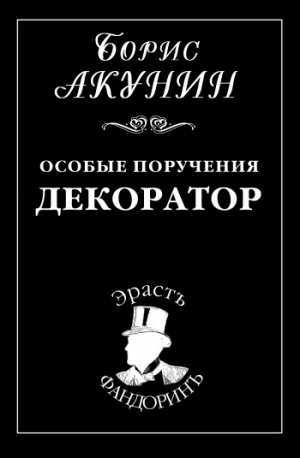
Наведался Анисий к сторожу, выведать про могильщиков. Ничего хохлу объяснять не стал, да тот и не лез с вопросами – простой человек, а с понятием, с деликатностью.
Сходил к могильщикам и сам: якобы дать по рублю в поощрение за помощь следствию. Составил об обоих собственное суждение. Ну, вот и всё. Пора домой – писать список для шефа.
Заканчивал пространный документ, когда уже стемнело. Перечитал, мысленно представляя каждого и прикидывая – годится в маньяки или нет.
Жандармский вахмистр Синюхин: служака, каменное лицо, глаза оловянные – черт его знает, что у него в душе.
Линьков. По виду – мухи не обидит, но уж больно странен в виде городового. Болезненная мечтательность, уязвленное самолюбие, подавляемая чувственность – все может быть.
Нехорош могильщик Тихон Кульков, с испитым лицом и щербатой пастью. Ну и рожа у этого Кулькова – только встреть такого в безлюдном месте, зарежет и не мигнет.
Стоп! Зарезать-то он зарежет, но где ж его корявым лапищам со скальпелем справиться?
Анисий еще раз взглянул на список, ахнул. На лбу выступила испарина, в горле пересохло. Ах, слепота!
Да как же раньше-то не сообразил! Будто пелена какая глаза застелила. Ведь все сходится! Один только человек из всего списка и может Потрошителем быть!
Вскочил. Как был, без шапки, без шинели, кинулся к шефу.
Во флигеле оказался только Маса: нет Эраста Петровича, и Ангелины нет – в церкви молится. Ну да, нынче ведь великий пяток, то-то и колокола так печально вызванивают к Плащанице.
Эх, незадача! И времени терять нельзя! Сегодняшние расспросы на Божедомке были ошибкой – он наверняка обо всем догадался! Так, может, оно и к лучшему? Догадался, значит, засуетился. Проследить! Пятница на исходе, один день всего остается!
Некое соображение заставило было усомниться в правильности озарения, но на Малой Никитской имелся телефонный аппарат, он и выручил. В Мещанской полицейской части, куда относится Божедомка, губернский секретарь Тюльпанов был хорошо известен, и, несмотря на неурочное время, ответ на занимающий его вопрос был дан незамедлительно.
Поначалу Анисий испытал острое разочарование: 31 октября – это слишком рано. Последнее достоверное лондонское убийство произошло 9 ноября, версия не складывалась. Но голова у Тюльпанова сегодня работала просто исключительно, всегда бы так, и заковыка разрешилась с легкостью.
Да, труп проститутки Мэри Джейн Келли был обнаружен утром 9 ноября, но Джек Потрошитель в ту пору уже переплывал Ла-Манш! Это убийство, самое мерзкое из всех, могло быть его прощальным «подарком» Лондону, совершенным непосредственно перед отправлением на континент. Потом можно будет проверить, когда он там у них отходит, ночной поезд.
А дальше все складывалось само собой. Если Потрошитель покинул Лондон вечером 8 ноября, то есть по русскому стилю 27 октября, то именно 31-го ему и полагалось прибыть в Москву!
Их с шефом ошибка заключалась в том, что, проверяя в полицейских паспортных отделах списки прибывших из Англии, они ограничились декабрем и ноябрем, а конец октября-то и не учли. Сбила проклятая путаница со стилями.
Вот и всё, сошлась версия тютелька к тютельке.
На минутку забежал домой: надеть теплое, взять «бульдог» и наскоро сжевать хлеба с сыром – по-настоящему поужинать времени не было.
Пока жевал, слушал, как Палаша по складам читает Соньке пасхальную историю из газеты. Дура слушала не отрываясь, с приоткрытым ртом. Много ли понимала – кто ее разберет.
«В провинциальном городе Эн, – медленно, с чувством читала Палаша, – в прошлый год накануне Светлого Христова Воскресения из острога убежал преступник. Выбрав время, когда все горожане разошлись по церквам к заутрене, он забрался в квартиру одной богатой и всеми уважаемой старушки, по болезни не пошедшей к службе, с целью убить и ограбить ее».
Сонька ойкнула – ишь ты, понимает, удивился Анисий. А еще год назад ничего бы не поняла, заклевала бы носом да уснула.
«В то самое мгновение, когда убийца с топором в руке хотел ринуться на нее, – драматично понизила голос чтица, – раздался первый удар пасхального колокола. Исполненная сознанием святости и торжественности минуты, старушка обратилась к преступнику с христианским приветом: „Христос воскресе, добрый человек!“ Это обращение потрясло погибшего до глубины души, оно озарило перед ним всю бездну его падения и произвело в нем внезапный нравственный переворот. После нескольких мгновений тяжелой внутренней борьбы он подошел похристосоваться со старушкой и потом, разразившись рыданиями…»
Чем закончилась история Анисий так и не узнал, потому что пора было бежать.
Минут через пять после того, как он сломя голову умчался, в дверь постучали.
– От скаженный, – вздохнула Палаша. – Опять, поди, оружию забыл.
Открыла, увидела – нет, не он. На улице темно, лица не видать, но ростом повыше Анисия.
Тихий, приветливый голос сказал:
– Добрый вечер, милая. Вот, хочу вас обрадовать.
Когда с необходимым было покончено – осмотр места преступления завершен, тела сфотографированы и увезены, соседи опрошены, занять себя стало нечем. Тут-то и сделалось Эрасту Петровичу совсем худо. Агенты уехали, он сидел один в маленькой гостиной скромной тюльпановской квартирки, оцепенело смотрел на кляксы крови, пятнавшей веселые цветастые обои, и все не мог унять дрожи. В голове было гулко и пусто.
Час назад Эраст Петрович вернулся домой и сразу послал Масу за Тюльпановым. Маса и обнаружил побоище.
Сейчас Фандорин думал не о доброй, привязчивой Палаше и даже не о безответной Соне Тюльпановой, принявшей страшную, ни божескими, ни человеческими понятиями не оправдываемую смерть. В голове сломленного горем Эраста Петровича молотком колотилась одна короткая фраза: «Не переживет, не переживет, не переживет». Нипочем не переживет бедный Тюльпанов этого потрясения. Хоть и не увидит он кошмарной картины надругательства над телом сестры, не увидит ее удивленно раскрытых круглых глаз, но знает повадки Потрошителя и легко вообразит себе, какова была Сонина смерть. И тогда всё, конец Ансисию Тюльпанову, потому что пережить, когда такое случается с близкими и любимыми людьми, нормальному человеку совершенно невозможно.
Эраст Петрович пребывал в непривычном, никак не свойственном ему состоянии – не представлял, что делать.
Вошел Маса. Сопя, втащил свернутый ковер, застелил страшный, пятнистый пол. Потом принялся яростно обдирать кровавые обои. Это правильно, отрешенно подумал коллежский советник, только вряд ли поможет.
Еще какое-то время спустя появилась Ангелина. Положила Эрасту Петровичу руку на плечо, сказала:
– Кто в страстную пятницу мученическую смерть принял, быть тому в Царстве Божьем, подле Иисуса.
– Меня это не утешает, – скучным голосом ответил Фандорин, не поворачивая головы. – И вряд ли утешит Анисия.
Где он, Анисий? Ведь глубокая ночь уже, а мальчишка и прошлую ночь глаз не сомкнул. Маса говорит – забегал без шапки, очень спешил. Ничего не передал и записки не оставил.
Неважно, чем позднее объявится, тем лучше.
Совсем пусто было в голове у Фандорина. Ни догадок, ни версий, ни планов. День напряженной работы мало что дал. Опрос агентов, что вели слежку за Несвицкой, Стеничем и Бурылиным, а также собственные наблюдения подтвердили, что любой из троих минувшей ночью при известной ловкости мог отлучиться и вернуться обратно, не замеченный филерами.
Несвицкая проживает в студенческом общежитии на Трубецкой, а там четыре входа-выхода, и двери хлопают до самого рассвета.
Стенич после нервного припадка ночевал в клинике «Утоли мои печали», куда агентов не допустили. Поди-ка проверь, спал он или шатался по городу со скальпелем.
С Бурылиным и того хуже: дом огромный, окон первого этажа более шестидесяти, половина скрыта за деревьями сада. Ограда невысокая. Не дом, а решето.
Получалось, что убить Ижицына мог любой из них. А самое ужасное было то, что, убедившись в неэффективности слежки, Эраст Петрович отменил ее вовсе. Сегодня вечером трое подозреваемых имели полную свободу действий!
– Не отчаивайтесь, Эраст Петрович, – сказала Ангелина. – Это тяжкий грех, а уж вам и вовсе нельзя. Кто ж душегуба сыщет, Сатану этого, если вы руки опустите? Кроме вас некому.
Сатана, вяло подумал Фандорин. Вездесущ, всюду успевает, во всякую лазейку проникнет. Сатана меняет лики, примеряет любую личину, вплоть до ангельской.
Ангельской. Ангелина.
Мозг, привычный к построению логических конструкций и освободившийся из-под контроля оцепеневшего духа, в миг услужливо выстроил цепочку.
А хоть бы и Ангелина – чем не Джек Потрошитель?
В Англии в прошлый год была. Это раз.
По вечерам, когда все убийства происходили, находилась в церкви. Якобы. Это два.
В милосердной общине обучается медицинскому делу, и уже много что знает и умеет. Их там и анатомии учат. Это три.
Сама по себе чудная, не похожая на других женщин. Иной раз смотрит так, что сердце замирает, а о чем думает в такие минуты – неведомо. Это четыре.
Ей бы Палаша дверь открыла не задумываясь. Это пять.
Эраст Петрович досадливо тряхнул головой, усмиряя холостые обороты своей зарвавшейся логической машины. Сердце решительно отказывалось рассматривать подобную версию, а Мудрый сказал: «Благородный муж не ставит доводы рассудка выше голоса сердца». Плохо то, что Ангелина права – кроме него остановить Потрошителя некому, и времени остается совсем мало. Только завтрашний день. Думать, думать.
Но сосредоточиться на деле мешала все та же упрямая фраза: «Не переживет, не переживет».
Так и тянулось время. Коллежский советник ерошил волосы, иногда принимался ходить по комнате, дважды умылся холодной водой. Попробовал медитировать, но тут же бросил – какой там!
Ангелина стояла у стены, обхватив себя за локти, смотрела своими огромными серыми глазами печально и требовательно.
Маса тоже безмолвствовал. Сидел на полу, сложив ноги калачиком, его круглое лицо было неподвижно, толстые веки полуприкрыты.
А на рассвете, когда улицу заволокло молочным туманом, на крыльце раздались стремительные шаги, от решительного толчка взвизгнула незапертая дверь, и в гостиную влетел жандармский поручик Смольянинов, весьма толковый молодой офицер – черноглазый, быстрый, с румянцем во всю щеку.
– А, вот вы где! – обрадовался Смольянинов. – Все вас обыскались. Дома нет, в управлении нет, на Тверской нет! Я решил сюда – вдруг, думаю, вы до сих пор на месте убийства. Беда, Эраст Петрович! Тюльпанов ранен. Тяжело. Его доставили в Мариинскую больницу еще заполночь. Пока нам сообщили, пока вас повсюду разыскивали, вон сколько времени ушло… В больницу сразу же отправился подполковник Сверчинский, а нам, адъютантам, приказано вас искать. Что же это делается, а, Эраст Петрович?
Рапорт губернского секретаря А. П. Тюльпанова,личного помощника г-на Э.П.Фандорина, чиновника для особых поручений при его сиятельстве московском генерал-губернаторе
8 апреля 1889 года, 3 и 1/2 часа ночи
Докладываю Вашему высокоблагородию, что минувшим вечером при составлении списка лиц, подозреваемых в совершении известных Вам преступлений, я с совершенной очевидностью понял, что означенные преступления мог совершить только один человек, а именно судебно-медицинский эксперт Егор Виллемович Захаров.
Он не просто медик, а патологоанатом, то есть вырезание человеческих внутренностей является для него обычным и повседневным делом. Это раз.
Постоянное общение с трупами могло вызвать у него неодолимое отвращение ко всему человеческому роду, либо же, наоборот, извращенное поклонение физиологическому устройству организма. Это два.
В свое время он принадлежал к «садическому» кружку студентов-медиков, что свидетельствует о рано проявившихся порочно-жестоких наклонностях. Это три.
Проживает Захаров на казенной квартире при судебно-полицейском морге на Божедомке. Два убийства (девицы Андреичкиной и безымянной девочки-нищенки) были совершены поблизости от этого места. Это четыре.
Захаров часто бывает в Англии у родственников, бывал и в прошлом году. В последний раз он вернулся из Британии 31 октября минувшего года (по европейскому стилю 11 ноября), то есть вполне мог совершить последнее из лондонских убийств, несомненно бывших делом рук Потрошителя. Это пять.
Захаров осведомлен о ходе расследоания, и более того, из всех причастных к расследованию он единственный имеет медицинские навыки. Это шесть.
Можно бы и продолжить, но дышать трудно и мысли путаются… Я лучше про давешнее.
Не застав Эраста Петровича дома, я решил, что нельзя времени терять. Накануне я был на Божедомке и беседовал с кладбищенскими рабочими, что не могло укрыться от внимания Захарова. Резонно было ожидать, что он забеспокоится и чем-то себя выдаст. На всякий случай я взял с собой оружие – револьвер «бульдог», подаренный мне господином Фандориным о прошлый год в день ангела. Славный был день, один из самых приятных в моей жизни. Но это к делу не относится.
Так про Божедомку. Приехал туда на извозчике в десятом часу вечера, уже темно было. В флигеле, где квартирует доктор, в одном окне горел свет, и я обрадовался, что Захаров не сбежал. Вокруг ни души, за оградой могилы, и ни одного фонаря. Залаяла собака, там цепной кобель у часовни, но я быстро перебежал через двор и прижался к стене. Пес полаял-полаял и перестал. Я поставил ящик – окно было высокое – и осторожно заглянул внутрь. Где освещенное окно, у Захарова кабинет. Выглядываю, вижу: на столе бумаги, и лампа горит. А сам он сидел ко мне спиной, что-то писал, рвал и бросал клочки на пол. Я долго там ждал, не меньше часа, а он все писал и рвал, писал и рвал. Я еще думал, как бы посмотреть, что он там пишет. Думал, может, арестовать его? Но ордера нет, и вдруг он там ерунду пишет, какие-нибудь счета подводит. В семнадцать минут одиннадцатого (я заметил по часам) он встал и вышел из комнаты. Его долго не было. Чем-то он там загромыхал в коридоре, потом тихо стало. Я заколебался, не залезть ли – взглянуть на бумаги, взволновался и оттого утратил бдительность. Меня сзади в спину ударило горячим, и я еще лбом ткнулся в подоконник. А потом, когда оборачивался, еще обожгло в бок и в руку. Я прежде того на свет смотрел, поэтому мне не видно было, кто там, в темноте, но я ударил левой рукой, как меня господин Маса учил, и еще коленом. Попал в мягкое. Но я плохо у господина Масы учился, отлынивал. Вот он куда из кабинета-то вышел, Захаров. Видно, заметил меня. Как он от меня тенью шарахнулся, от моих ударов-то, я хотел его догнать, но пробежал совсем немножко и упал. Встал, снова упал. Достал «бульдог», выстрелил в воздух три раза – думал, может, прибежит кто из кладбищенских. Зря стрелял, они, поди, только напугались. Свистеть надо было. Я не сообразил, не в себе был. Потом плохо помню. Полз на четвереньках, падал. За оградой лег отдохнуть и, кажется, заснул. Проснулся, холодно. Очень холодно. Хотя я во всем теплом был, нарочно под шинель вязанку надел. Часы достал. Смотрю – уж заполночь. Всё, думаю, ушел злодей. Только тут про свисток вспомнил. Стал свистеть. Скоро пришли, не разглядел, кто. Повезли. Мне пока доктор укол не сделал, я как в тумане был. А сейчас вот лучше. Только стыдно – упустил Потрошителя. Если б господина Масу больше слушал. Я, Эраст Петрович, хотел как лучше. Если бы Масу слушал. Если бы…
Приписка:На сем стенографическую запись донесения пришлось закончить, ибо раненый, поначалу говоривший очень живо и правильно, стал заговариваться и вскоре впал в забытье, из коего более не выходил. Г-н доктор К.И.Мебиус и то удивился, что г-н Тюльпанов с такими ранениями и с такой кровопотерей столько времени продержался. Смерть наступила около 6 часов утра, о чем г-ном Мебиусом составлена соответствующая запись.
Жандармского корпуса подполковник СверчинскийСтенографировал и делал расшифровку коллежский регистратор Ариетти
Ужасная ночь.
А вечер начинался так славно. Идиотка в смерти вышла чудо как хороша – просто заглядение. После этого шедевра декораторского искусства тратить время и вдохновение на горничную было бессмысленно, и я оставил ее как есть. Грех, конечно, но все равно столь разительного контраста между внешним уродством и внутренней Красотой не получилось бы.
Более всего согревало душу сознание исполненного доброго дела: я не только являю доброму юноше истинный лик Красоты, но и избавляю его от тяжкой обузы, которая мешает ему обустроить собственную жизнь.
И вот какой бедой все закончилось.
Доброго юношу погубило его некрасивое ремесло – вынюхивать, выслеживать. Он сам явился за собственной смертью. Моей вины здесь нет.
Жалко было мальчика, и из-за этого вышла неаккуратность. Дрогнула рука. Раны смертельны, в этом сомнения нет: я слышал, как выходит воздух из пробитого легкого, а второй удар не мог не рассечь левую почку и нисходящую ободочную кишку. Но он наверняка сильно мучился перед смертью. Эта мысль не дает мне покоя.
Стыдно. Некрасиво.
Хлопотный день
У ворот убогого Божедомского кладбища, под ветром и мелким, противным дождиком, топталась группа дознания: старший агент Лялин, трое младших агентов, фотограф с переносным американским «Кодаком», помощник фотографа и полицейский собаковод со знаменитой на всю Москву легавой Мусей на поводке. Группа была вызвана на место ночного происшествия по телефону, получила строжайшее указание ничего не предпринимать до приезда его высокоблагородия господина коллежского советника, и теперь неукоснительно выполняла инструкцию – ничего не предпринимала и ежилась в постылых объятьях непогожего апрельского утра. Даже Муся, от сырости ставшая похожей на рыжую швабру, приуныла. Легла длинной мордой на раскисшую землю, скорбно двигала белесыми бровями и разок-другой даже тихонько повыла, уловив всеобщее настроение.
Лялин, опытный сыскник и вообще человек бывалый, по складу натуры к капризам природы относился с презрением и затянувшимся ожиданием не тяготился. Он знал, что чиновник особых поручений сейчас в Мариинской больнице, где обмывают и обряжают бедное, израненное тело раба Божия Анисия, в недавнем прошлом губернского секретаря Тюльпанова. Попрощается господин Фандорин с любимым ассистентом, сотворит крестное знамение и враз домчит до Божедомки. Тут езды-то пять минут, а у коллежского советника, надо полагать, кони не чета полицейским клячам.
Только Лялин про это подумал, и подлетели к чугунным кладбищенским воротам красавцы-рысаки с белыми султанами. Кучер – словно генерал, весь в золотых позументах, а коляска сияет мокрым черным лаком и долгоруковскими гербами на дверцах.
Спрыгнул господин Фандорин на землю, качнулись мягкие рессоры, и экипаж отъехал в сторонку. Видно, будет дожидаться.
Лицо у прибывшего начальника было бледным, глаза горели ярче обычного, но иных признаков перенесенных потрясений и бессонных ночей цепкий лялинский взор не приметил. Напротив, ему даже показалось, что чиновник особых поручений двигается не в пример бодрее и энергичнее обычного. Хотел Лялин сунуться с соболезнованиями, но взглянул повнимательней на плотно сжатые губы его высокоблагородия и передумал. Изрядный жизненный опыт подсказал, что лучше не нюнить, а сразу перейти к делу.
– Без вас в квартиру Захарова не совались, согласно полученных инструкций. Служителей опросили, но никто из них со вчерашнего вечера доктора не видел. Вон они, ждут.
Фандорин мельком взглянул туда, где подле здания морга переминались с ноги на ногу несколько человек.
– Я, кажется, ясно сказал: ничего не предпринимать. Ладно, идем.
Не в духе, определил Лялин. Что и неудивительно при столь печальных обстоятельствах. На обрыве карьеры человек, да и с Тюльпановым расстройство.
Коллежский советник легко взбежал на крыльцо захаровского флигеля, потянул дверь. Не подалась – заперта на ключ.
Лялин покачал головой – обстоятельный человек доктор Захаров, аккуратный. Даже при поспешном бегстве не забыл дверь запереть. Этакий глупых следов и зацепок не оставит.
Фандорин, не оборачиваясь, щелкнул пальцами, и старший агент понял без слов. Достал из кармана набор отмычек, минутку повертел туда-сюда нужной длины крючочком, дверь и открылась.
Начальство стремительно прошло по комнатам, бросая на ходу короткие распоряжения, причем обычное легкое заикание куда-то подевалось, будто никогда его и не бывало:
– Проверить одежду в платяном шкапу. Переписать. Восстановить, чего не хватает… Все медицинские инструменты, в особенности хирургические туда, на стол… В коридоре был половик – вон прямоугольное пятно на полу. Куда подевался? Найти!… Это что, кабинет? Все бумаги собрать. Обращать сугубое внимание на клочки и обрывки.
Лялин огляделся по сторонам и никаких обрывков не заметил. В кабинете наблюдался совершеннейший порядок. Агент снова подивился крепости нервов беглого доктора. Как чистенько все прибрал, будто готовился гостей принимать. Какие уж тут клочки.
Но в это время коллежский советник нагнулся и поднял из-под стула мятый кусочек бумаги. Разгладил, прочел, сунул Лялину.
– Приобщить.
На бумажке всего два слова: более молчать
– Приступайте к обыску, – приказал Фандорин и вышел на улицу.
Минут через пять, распределив между агентами сектора досмотра, Лялин выглянул в окно и увидел, что коллежский советник и легавая Муся ползают по кустам. Ветки там были обломаны, земля утоптана. Надо полагать, именно здесь покойный Тюльпанов схватился с преступником. Лялин вздохнул, перекрестился и приступил к простукиванию стен в спальне.
Обыск дал мало интересного.
Стопку писем на английском языке – видно, от захаровских родственников – Фандорин наскоро просмотрел, но читать не стал, обращал внимание только на числа. Что-то записал в блокнот, но вслух ничего не сказал.
Отличился агент Сысуев, нашел в кабинете под диваном еще один клочок, побольше первого, но с надписью еще менее вразумительной: бражения корпоративной чести и сочувствие к старому тов
Эта невнятица коллежского советника почему-то очень заинтересовала. С вниманием отнесся он и к револьверу системы «кольт», обнаруженному в ящике письменного стола. Револьвер был заряжен, причем совсем недавно – на барабане и рукоятке просматривались следы свежей смазки. Что ж Захаров его с собой-то не взял, удивился Лялин. Забыл, что ли? Или нарочно оставил? А почему?
Муся опозорилась. Поначалу, невзирая на слякоть, довольно прытко ринулась по запаху, но здесь из-за ограды вылетел здоровенный лохматый кобелина и залаял так свирепо, что Муся присела на задние лапы, попятилась назад и стронуть ее с места после этого оказалось невозможно. Кобеля сторож обратно на цепь посадил, но из Муси уже весь кураж ушел. Нюхастые собаки нервные, у них все на настроении.
– Кто из них кто? – спросил Фандорин, показывая в окно на служителей.
Лялин стал докладывать:
– Толстый в фуражке – смотритель. Живет за пределами кладбища, к работе полицейского морга касательства не имеет. Вчера ушел в половине шестого, а пришел утром, за четверть часа до вашего прибытия. Длинный, чахоточный – ассистент Захарова, фамилия его Грумов. Тоже недавно прибыл из дома. С опущенной головой – сторож. Остальные двое – рабочие. Могилы роют, ограду чинят, мусор выносят и прочее. Сторож и рабочие живут здесь же, при кладбище и могли что-то слышать. Но подробного допроса мы не производили, не было велено.
Со служителями коллежский советник беседовал сам.
Вызвал в дом, первым делом показал «кольт»:
– Узнаете?
Ассистент Грумов и сторож Пахоменко показали (Лялин карандашом записывал в протоколе), что револьвер им знаком – видели его или точно такой же у доктора. А могильщик Кульков добавил, что вблизи «левольверта» не видал, но зато в прошлый месяц ходил смотреть, как «дохтур» палит по грачам, и очень у него исправно выходило: как ни стрельнет, так от грачей только перья летят.
Минувшей ночью три выстрела, произведенных губернским секретарем Тюльпановым, слышали сторож Пахоменко и рабочий Хрюкин. Кульков спал пьяный и от шума не проснулся.
Слышавшие стрельбу сказали, что выходить наружу забоялись – мало ли кто шалит по ночному времени, да и криков о помощи вроде не слыхать было. Вскоре после этого Хрюкин снова уснул, а Пахоменко бодрствовал. По его словам, вскорости после пальбы громко хлопнула дверь и кто-то быстро прошел к воротам.
– Что, прислушивались? – спросил сторожа Фандорин.
– А як же, – ответил тот. – Палили ж. Да и погано я сплю по ночам. Думы разные в голову лезут. До самого светочка все ворочался. Кажите, пан генерал, неужто хлопчик тый молоденький и вправду преставился? Такой востроглазенький був, и к простым людынам ласков.
Про коллежского советника было известно, что с нижестоящими он всегда вежлив и мягок, однако нынче Лялин его прямо не узнавал. На трогательные слова сторожа чиновник ничего не ответил, да и к ночным думам Пахоменки ни малейшего интереса не проявил. Резко отвернулся, бросил свидетелям через плечо:
– Идите. С кладбища никому не отлучаться. Можете понадобиться. А вы, Грумов, извольте остаться.
Ну и ну, словно подменили человека.
Испуганно захлопавшего глазами ассистента Фандорин спросил:
– Чем занимался Захаров вчера вечером? И поподробнее.
Грумов виновато развел руками:
– Не могу знать. Егор Виллемович вчера были очень не в духе, все ругались, а после обеда велели мне домой уходить. Я и ушел. Даже не попрощались – он в кабинете у себя заперся.
– «После обеда» это в котором часу?
– В четвертом-с.
– «В четвертом-с», – повторил коллежский советник, почему-то покачал головой и, повидимости, утратил к чахоточному ассистенту всякий интерес. – Идите.
Лялин подошел к коллежскому советнику, деликатно покашлял.
– Я тут словесный портрет Захарова набросал. Не угодно ли посмотреть?
Даже не глянул подмененный Фандорин на превосходно выполненное описание, отмахнулся. Довольно обидно было наблюдать такое неуважение к служебному рвению.
– Всё, – резко сказал чиновник. – Больше никого допрашивать не нужно. Вы, Лялин, отправляйтесь в больницу «Утоли мои печали» что в Лефортове и доставьте ко мне на Тверскую милосердного брата Стенича. А Сысуев пусть едет на Якиманскую набережную и привезет фабриканта Бурылина. Срочно.
– Но как же насчет словесного портрета Захарова? – спросил Лялин, дрогнув голосом. – Ведь, я чай, в розыск объявлять будем?
– Не будем, – рассеянно ответил Фандорин, оставив бывалого агента в полном недоумении, и быстро зашагал к своему чудесному экипажу.
В кабинете на Тверской коллежского советника дожидался Ведищев.
– Последний день, – строго сказал долгоруковский «серый кардинал» вместо приветствия. – Надо сыскать англичанца этого полоумного. Сыскать и честь по чести доложить. Иначе сами знаете.
– А вы-то, Фрол Григорьевич, откуда про Захарова знаете? – не особенно, впрочем, удивившись, спросил Фандорин.
– Ведищев все, что на Москве происходит, знает.
– Надо было тогда и вас в список подозреваемых включить. Вы ведь его сиятельству банки ставите и даже кровь отворяете? Стало быть, занятия медициной для вас не внове.
Шутка, однако, была произнесена голосом тусклым, и видно было, что думает чиновник о чем-то совсем ином.
– Анисий-то, а? – вздохнул Ведищев. – Вот уж беда так беда. Толковый он был, недомерок. По всему должен был высоко взлететь.
– Шли бы вы себе, Фрол Григорьевич, – сказал на это коллежский советник, явно не расположенный сегодня предаваться чувствительности.
Камердинер обиженно насупил сивые брови и перешел на официальный тон:
– Мне, ваше высокоблагородие, велено передать, что граф-министр нынче утром отбыли в Питер в сильном неудовольствии и перед отъездом очень грозились. А также велено выяснить, скоро ли следствию конец.
– Скоро. Передайте его сиятельству, что мне осталось провести два допроса, получить одну телеграфную депешу и совершить небольшую вылазку.
– Эраст Петрович, Христом-Богом, к завтрему-то управитесь? – моляще спросил Ведищев. – Пропадем же все…
На вопрос Фандорин ответить не успел, потому что в дверь постучали, и дежурный адъютант доложил:
– Доставлены задержанные Стенич и Бурылин. Содержатся в разных комнатах, как велено.
– Сначала Стенича, – приказал офицеру чиновник, а камердинеру показал подбородком в сторону выхода. – Вот и первый допрос. Всё, Фрол Григорьевич, подите, некогда.
Старик покладисто кивнул плешивой башкой и заковылял к выходу. В дверях столкнулся с диковатого вида человеком – патлатым, дерганым, худющим, однако пялиться на него не стал. Споро зашаркал войлочными подошвами по коридору, свернул за угол, открыл ключом кладовку.
Кладовка оказалась не простая, а с неприметной дверкой в самом дальнем углу. Дверка тоже отпиралась особенным ключиком. За дверкой обнаружился стенной шкаф. Фрол Григорьевич втиснулся туда, сел на стул, на котором лежала покойная подушечка, бесшумно сдвинул заслонку в стене, и вдруг через стекло сделалась видна вся внутренность секретного кабинета, послышался слегка приглушенный голос Эраста Петровича:
– Благодарю. Пока придется посидеть в участке. Для вашей же безопасности.
Камердинер нацепил очки с толстыми стеклами и прильнул к потайному отверстию, но увидел лишь спину выходящего. Допрос называется – трех минут не прошло. Ведищев скептически крякнул и стал ждать, что будет дальше.
– Давайте Бурылина, – повелел Фандорин адъютанту.
Вошел татаристый, мордатый, с нахальными разбойничьими глазами. Не дожидаясь приглашения, уселся на стул, забросил ногу на ногу, закачал богатой тростью с золотым набалдашником. Сразу видать миллионщика.
– Что, опять требуху смотреть повезете? – весело спросил миллионщик. – Только меня этим не проймешь, у меня шкура толстая. Это кто сейчас вышел-то? Не Ванька Стенич? Ишь, рожу отворотил. Будто мало ему от Бурылина перепало. Он ведь в Европы на мои катался, при мне приживалом состоял. Жалел я его, бессчастного. А он мне же в душу наплевал. Сбежал от меня из Англии. Забрезговал мной грязненьким, чистенького житья возжелал. Да пускай его, пропащий человек. Одно слово – психический. Сигарку задымить позволите?
Все вопросы миллионщика остались без ответа, а вместо этого Фандорин задал свой вопрос, Ведищеву вовсе непонятный.
– У вас на встрече однокашников длинноволосый был, обтрепанный. Кто таков?
Но Бурылин вопрос понял и ответил охотно:
– Филька Розен. Его вместе со мной и Стеничем с медицинского турнули, за особые отличия по части безнравственности. Служит приемщиком в ломбарде. Пьет, конечно.
– Где его найти?
– А нигде не найдете. Я ему перед тем, как вы пожаловали, сдуру пятьсот рублей отвалил – разнюнился по старой памяти. Теперь пока до копейки не пропьет, не объявится. Может, в каком московском кабаке гуляет, а может и в Питере, или в Нижнем. Такой уж субъект.
Это известие почему-то до чрезвычайности расстроило Фандорина. Он даже вскочил из-за стола, вынул из кармана зеленые шарики на ниточке, сунул обратно.
Мордатый наблюдал за странным поведением чиновника с любопытством. Достал толстую сигару, закурил. Пепел, нахальная морда, сыпал на ковер. Однако с расспросами не лез, ждал.
– Скажите, почему вас, Стенича и Розена выгнали с факультета, а Захарова только перевели на патологоанатомическое отделение? – после изрядного промежутка спросил Фандорин.
– Так это кто сколько набедокурил. – Бурылин ухмыльнулся. – Соцкого, самого забубенного из нас, вовсе в арестанты забрили. Жалко курилку, с выдумкой был, хоть и бестия. Меня-то тоже грозились, но ничего, деньга выручила. – Подмигнул шальным глазом, пыхнул сигарным дымом. – Курсисточкам, веселым подружкам нашим, тоже влетело – за одну только принадлежность к женскому полу. В Сибирь, под присмотр полиции, поехали. Одна морфинисткой стала, другая замуж за попа вышла – я справлялся. – Миллионщик хохотнул. – А Захарка-Англичанин тогда ничем особенно не отличился, вот и обошлось малой карой. «Присутствовал и не пресек» – так и в приказе было.
Фандорин щелкнул пальцами, будто получил радостную, долгожданную весточку, и хотел спросить что-то еще, но Бурылин его сбил – достал из кармана какую-то вчетверо сложенную бумажку.
– Чудно, что вы про Захарова спросили. Я нынче утром от него диковинную записку получил – аккурат перед тем, как ваши псы меня забирать приехали. Мальчонка уличный принес. Вот, почитайте.
Фрол Григорьевич весь изогнулся, носом в стекло вплющился, да что толку – издали не прочесть. Только по всему видно было, что бумажка наиважнеющая: Эраст Петрович к ней так и прилип.
– Денег, конечно, дам, не жалко, – сказал миллионщик. – Только не было у меня с ним никакой особенной «старой дружбы», это он для сантименту. И потом что за мелодрама: «Не поминай, брат, лихом». Что он натворил, Плутон наш? Подружек давешних, что в морге на столах лежали, оскоромил?
Бурылин запрокинул голову и расхохотался, очень довольный шуткой.
Фандорин все разглядывал записку. Отошел к окну, поднял листок повыше, и Фрол Григорьевич увидел неровные, расползшиеся вкривь и вкось строчки.
– Да, накарябано так, что еле прочтешь, – пробасил миллионщик, глядя, куда бы деть докуренную сигару. – Будто в карете писано или с большого перепоя.
Так и не нашел. Хотел кинуть на пол, но не решился. Воровато глянул в спину коллежскому советнику, завернул обкурок в платок и сунул в карман. То-то.
– Идите, Бурылин, – не оборачиваясь, сказал Эраст Петрович. – До завтра побудете под охраной.
Этому известию миллионщик ужасно огорчился.
– Хватит! Уж покормил одну ночь ваших полицейских клопов! Лютые они у вас, голодные. Так и накинулись на тело православное!
Фандорин не слушая нажал на кнопку звонка. Вошел жандармский офицер, потянул богатого человека к выходу.
– А Захарка как же? – крикнул Бурылин уже из-за двери. – Он ведь за деньгами зайдет!
– Не ваша забота, – сказал Эраст Петрович, а у офицера спросил. – Ответ из министерства на мой запрос поступил?
– Так точно.
– Давайте.
Жандарм принес какую-то депешу и снова исчез в коридоре.
Депеша произвела на чиновника удивительное воздействие. Прочтя, он кинул бумагу на стол и вдруг учудил – несколько раз подряд очень быстро хлопнул в ладоши, да так громко, что Фрол Григорьевич от неожиданности ударился лбом об стекло, а в дверь разом сунулись жандарм, адъютант и секретарь.
– Ничего, господа, – успокоил их Фандорин. – Это такое японское упражнение для концентрирования мысли. Идите.
А дальше и вовсе чудеса пошли.
Когда за подчиненными затворилась дверь, Эраст Петрович вдруг стал раздеваться. Оставшись в одном нижнем белье, достал из-под стола саквояж, которого Ведищев ранее не приметил, из саквояжа извлек сверток. В свертке – одежда: узкие полосатые брюки со штрипками, дешевая бумажная манишка, малиновая жилетка, желтый клетчатый пиджачок.
Преобразился коллежский советник, солидный человек, в непристойного хлюста, какие по вечерам подле гулящих девок крутятся. Встал у зеркала – аккурат в аршине перед Фрол Григорьевичем, – расчесал черные волосы на прямой пробор, густо смазал бриллиантином, седину на висках замазал. Тонкие усики подкрутил кверху и навострил в две стрелки. (Богемским воском, догадался Фрол Григорьевич, точно так же закреплявший знаменитые бакенбарды князя Владимира Андреича – чтоб орлиными крыльями торчали).
Потом Фандорин вставил что-то в рот, оскалился, блеснул золотой фиксой. Еще немножко построил рожи, и, кажется, остался своей внешностью совершенно доволен.
Из саквояжа ряженый вынул небольшое портмоне, раскрыл, и увидел Ведищев, что портмоне-то, оказывается, непростое: внутри вороненый ствол малого калибра и барабанчик на манер револьверного. Фандорин вставил в барабанчик пять патронов, щелкнул крышкой и проверил пальцем упругость замочка, надо думать, выполнявшего роль спускового крючка. Чего только не удумают для погибели человеков, покачал головой камердинер. И куда ж это ты, Эраст Петрович, этаким фертом собрался?
Словно услыхав вопрос, Фандорин обернулся к зеркалу, лихо, набекрень, надел бобровую шапку и, развязно подмигнув, сказал вполголоса:
– Вы уж, Фрол Григорьевич, поставьте за меня на всенощной свечку. Без Божьей помощи мне сегодня не обойтись.
Оченьмучилась Инеска телом и душой. Телом – потому что Слепень, «кот» ее прежний, вечор подкараулил бедную девушку возле трактира «Город Париж» и долго бил за измену. Хорошо хоть лицо, паскуда, не разукрасил. Зато живот и бока будто в синьку окунутые – ночью не повернуться было, так до утра и проворочалась, охая и жалея себя до слез. Но синяки ладно, дело заживное, а вот сердечко инескино разнылось-расстрадалось так, что моченьки нет.
Пропал дролечка, пропал прынц сказочный, красавец писаный Эрастушка, второй день личика своего сахарного не кажет. То-то Слепень свирепствует, то-то грозится. Пришлось вчера почти все заработанное ему, постылому отдать, а нехорошо это, порядочные девушки, которые верность блюдут, этак-то не делают.
Видно, запропал Эрастушка, сдал его тот огрызок ушастый в полицию, и сидит голубь светлый в кутузке первого арбатского околотка, самого что ни на есть свирепого на всей Москве. Гостинчик бы передать лапушке, да околоточный Кулебяко там зверь хищный. Засадит опять, как в прошлый год, пригрозит желтый билет отобрать, и обхаживай потом задарма весь околоток, до последнего сопливого городового. По сю пору вспомнить противно. Пошла бы Инеска и на такое унижение, лишь бы зазнобе помочь, так ведь Эрастушка кавалер с понятием, собою чистенький, с разбором, после Инеской брезговать станет. А страсть у них, можно сказать, еще и не сложилась, любовь только-только обозначилась, но с первого взгляда прикипела Инеска к синеглазенькому, белозубенькому всей душой, втрескалась ужасней, чем в шестнадцать годков в парикмахера Жоржика, чтоб тому рожу смазливую перекосило, змею подлому, если, конечно, не спился еще всмерть.
Ах, скорей бы объявился, медовый-патошный. Дал бы Слепню, аспиду поганому, укорот, приласкал бы Инеску, приголубил. А уж она и разузнала для него, чего велел, и денежку за подвязкой утаила – три рубля с полтинничком серебряным. Доволен будет. Есть чем встретить, чем приветить.
Эрастик. Имя-то какое сладкое, будто повидло яблочное. По правде его, ненаглядного, поди, как попроще зовут, но ведь и Инеска не всю жизнь испанкой проходила, появилась на Божий свет Ефросиньей, Фроськой по-домашнему.
Инеса и Эраст – это ж заслушаешься, чистая фисгармония. Пройтись бы с ним рука об руку по Грачевке, чтоб Санька Мясная, Людка Каланча и, главное, Аделаидка поглядели, каков у Инески кавалер, да от зависти полопались.
А после сюда, на квартеру. Она хоть и маленькая, но чистая, собою нарядная: картинки из модных журналов по стенкам наклеены, абажур плисовый, зеркало-трюмо. Перина пуховая наимягчайшая, и подушек-подушечек семь штук, все наволочки саморучно Инеской вышиты.
На самых сладких мыслях сбылось заветное, долгожданное. Сначала в дверь деликатно – тук-тук-тук – постучали, а после вошел Эрастушка, в шапке бобровой, белом шарфе-гладстоне, в суконной с бобровым же воротником шинели нараспашку. И не подумаешь, что из кутузки.