Пелагия и красный петух Акунин Борис
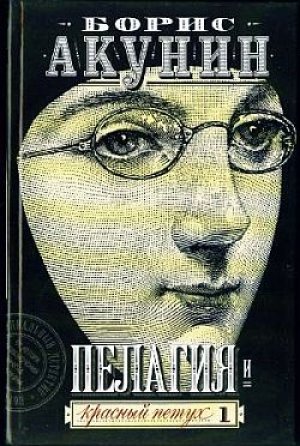
Ах... ах, тупица!
Матвей Бенционович остановился и пребольно хлопнул себя по лбу – в наказание за слепоту и непроницательность.
Привратник обернулся на звук.
– Мушку прихлопнули? Беда от них. Расплодились – страсть.
Сомысленники и единодушники
Провожатый сдал притихшего Матвея Бенционовича пожилому чиновнику, который ожидал на нижней ступеньке. Тот коротко поклонился, но представляться не стал. Жестом предложил следовать за ним.
В приемной великого человека, которого считали могущественнейшей персоной в империи – не столько даже по должности, сколько по духовному влиянию на государя, – ожидало десятка полтора посетителей: были здесь и генералы в парадных мундирах, и два архиерея при орденах, однако имелась публика и попроще – дама с красными, заплаканными глазами, взволнованный студент, молодой офицерик.
Чиновник подошел к секретарю и произнес те же магические слова:
– К Константину Петровичу. Ожидают.
Секретарь внимательно взглянул на Бердичевского, выпорхнул из-за стола и исчез за высокой белой дверью. Полминутки спустя снова появился.
– Просят пожаловать...
Не придумав, куда деть шляпу, Матвей Бенционович решительно положил ее на секретарский стол. Раз уж ему такой почет, что без очереди впускают, то пускай и шляпе окажут уважение.
Закусил нижнюю губу, пальцы правой руки непроизвольно сжались в кулак.
Вошел.
В дальнем конце необъятного кабинета, подле гигантских размеров стола сидели двое. Один лицом к Бердичевскому, и хоть Матвей Бенционович обер-прокурора раньше вживую не видел, сразу узнал по портретам аскетичное лицо, строго сдвинутые брови и несколько оттопыренные уши.
Второй, в расшитом золотом статском мундире, расположился в кресле и на вошедшего взглянул не сразу. Когда же обернулся, то не долее чем на мгновение. Потом вновь отворотил лицо к Победину.
Константин Петрович, известный своей старомодной петербургской учтивостью, поднялся со стула. Вблизи обер-прокурор оказался высоким и прямым, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, которые светились умом и силой. Глядя в эти удивительные глаза, Бердичевский вспомнил, что недоброжелатели называют обер-прокурора Великим Инквизитором. Око и неудивительно – похож.
Долинин (а в кресле сидел, разумеется, он) не встал – наоборот, демонстративно глядел в сторону, будто показывая, что не имеет к происходящему никакого отношения.
Мягким, звучным голосом Константин Петрович произнес:
– Удивлены, Матвей Бенционович? Вижу, что удивлены. А зря. Сергей Сергеевич – слишком дорогой для России человек, чтобы оставлять его без защиты и присмотра. Знаю, всё знаю. Мне докладывали. И о вчерашней слежке, и о сегодняшней. Вчера вас беспокоить не стали – нужно было выяснить, что вы за птица. А сегодня, когда выяснилось, задумал с вами поговорить. Начистоту, по душам. – Победин приязненно и даже сочувственно улыбнулся тонкими сухими губами. – Нам с Сергеем Сергеевичем понятна причина, побудившая вас заняться самопроизвольным расследованием. Человек вы умный, энергичный, храбрый – всё равно докопались бы, не сегодня, так завтра. Вот я и решил вызвать вас сам. Так сказать, для встречи с открытым забралом. Не к лицу мне прятаться-то. Вы, поди, господина Долинина каким-нибудь ужасным злодеем вообразили или заговорщиком?
Матвей Бенционович на это ничего не ответил, только опустил голову, но взгляд при этом опускать не стал – в общем, что называется, набычился.
– Прошу вот сюда, напротив Сергея Сергеевича, – пригласил садиться обер-прокурор. – Не бойтесь, он никакой не злодей, да и я, его наставник и руководитель, тоже никому зла не желаю, что бы ни врали про меня господа либералы. Знаете, Матвей Бенционович, кто я? Я слуга и печальник народа. А что до чудовищного заговора, который вам наверняка померещился, то признаюсь честно: есть, есть заговор, но отнюдь не чудовищный, а священный, ставящий целью спасение Родины, Веры и Престола. Из тех, знаете, заговоров, в которых должны участвовать все верующие, добрые и честные люди.
Бердичевский открыл рот, чтобы сказать: большинство заговоров, в том числе и чудовищных, преследуют какую-нибудь священную цель вроде спасения Родины, однако Константин Петрович властно поднял ладонь:
– Погодите, ничего пока не говорите и ни о чем не спрашивайте. Прежде я должен многое вам объяснить. Для великой задачи, которую я назвал, мне нужны помощники. Подбираю их год за годом – по крупице, по золотнику, уже много лет. Люди это верные, мои единодушники. А они тоже подбирают себе помощников, из числа людей полезных. Как мне докладывали, именно по следу такого полезного человекавы и направили свое расследование. Как, бишь, его звали?
– Рацевич, – впервые разомкнул уста Сергей Сергеевич.
Сидя прямо напротив заволжца, он каким-то чудом умудрялся все же на него не смотреть. Лицо у Долинина было хмурое, отсутствующее.
– Да-да, благодарю. Идя по следу этого Рацевича, вы, господин Бердичевский, вышли на Сергея Сергеевича, одного из моих помощников – недавно приобретенного, но уже превосходно себя зарекомендовавшего. И знаете, что я вам скажу?
Матвей Бенционович не стал отвечать на риторический вопрос, тем более что он понятия не имел, какое направление может принять эта поразительная беседа.
– Я верю в Провидение, – торжественно объявил Победин. – Это Оно привело вас к нам. Я сказал Сергею Сергеевичу: «Можно этого прокурора, конечно, истребить, чтобы не принес вреда нашему делу. Но поглядите на его поступки. Этот Бердичевский действует как человек целеустремленный, умный, бескорыстный. Разве не таков набор драгоценных качеств, какие мы с вами ценим в людях? Давайте я поговорю с ним, как добрый пастырь. Он посмотрит в глаза мне, я ему, и очень может статься, что у нас появится еще один сомысленник».
При слове «истребить» Бердичевский чуть вздрогнул и остаток речи обер-прокурора слушал не очень внимательно – в голове задергалась паническая мыслишка: сейчас, в эту самую минуту решается твоя судьба.
Кажется, Константин Петрович понял скованность собеседника не совсем верно.
– Вы, должно быть, слышали, будто я юдофоб, враг евреев? Неправда это. Я далек от того, чтобы сортировать людей по национальности. Я враг не евреям, а еврейской вере, потому что она – ядовитый плевел, произрастающий из одного с христианством корня и во сто крат опаснейший, нежели мусульманство, буддизм или язычество. Худший из врагов не тот, кто чужд, а тот, кто тебе родня! И потому еврей, который подобно вам отринул ложную веру отцов и принял Христа, мне дороже русского, обретающегося в лоне истинной веры по милости рождения. Однако я вижу, что вы хотите меня о чем-то спросить. Теперь можно. Спрашивайте.
– Ваше высокопревосходительство... – начал Матвей Бенционович, стараясь справиться с дрожанием голоса.
– Константин Петрович, – мягко поправил его обер-прокурор.
– Хорошо... Константин Петрович, я не вполне понял про заговор. Это в фигуральном смысле или же...
– В самом что ни на есть прямом. Только обычно заговор устраивают для свержения существующего строя, а мой заговор существует для его спасения. Наша с вами страна висит на краю бездны. Не удержится, ухнет в пропасть – всему конец. Тянет ее, многострадальную, к погибели могучая сатанинская сила, и мало тех, кто пытается этой напасти противостоять. Разобщенность, падение нравственности, а пуще всего безверие – вот гоголевская тройка, что несет Россию к обрыву, и близок он, воистину близок! Пышет оттуда огнь и сера!
Переход от мягкоречивой рациональности к пророческому пафосу произошел у Константина Петровича естественно, безо всякой натужности. Обер-прокурор несомненно обладал незаурядным даром публичного оратора. Когда же страстный взгляд неистовых глаз и весь заряд духовной энергии устремлялся на одного-единственного слушателя, сопротивляться этому натиску было невозможно. А ему и не нужно выступать перед толпами, подумал Бердичевский. Ему достаточно аудитории из одного человека, ибо человек этот – самодержец всероссийский.
И стало Матвею Бенционовичу поневоле лестно. Как это сам Победин тратит на него, мелкую сошку, весь пыл и жар своей государственной души?
Пытаясь все жене поддаться обер-прокуророву магнетизму, статский советник сказал:
– Простите, но я не понимаю вот чего... – Он сбился и начал сызнова – тут нужно было очень осторожно выбирать слова. – Если выстроенная мною версия верна, то причина всех случившихся... деяний господина Долинина – намерение во что бы то ни стало уничтожить сектантского пророка Мануйлу. Для того чтобы достичь этой цели, а также замести следы, господин действительный статский советник не остановился ни перед чем. Понадобилось устранить ни в чем не повинную монахиню – пожалуйста. Даже крестьянскую девочку не пожалел!
– Что еще за девочка? – прервал его Победин, недовольно взглянув на Сергея Сергеевича. – Про монахиню знаю, про девочку – ничего.
Долинин отрывисто ответил:
– Это Рацевич. Профессионал, но увлекающийся, к тому же оказался с гнильцой. Я уже говорил: это была моя ошибка, что я привлек его к нашему делу.
– Ошибки могут случаться с каждым, – вздохнул обер-прокурор. – Господь простит, если заблуждение было искренним. Продолжайте, Матвей Бенционович.
– Так вот, я хотел спросить... Что в нем такого особенного, в этом мошеннике Мануйле? Почему ради него понадобились все эти... всё это?
Константин Петрович кивнул и очень серьезно, даже торжественно произнес:
– Вы и в самом деле умнейший человек. Прозрели самую суть. Так знайте же, что субъект, о котором вы упомянули, заключает в себе страшную опасность для России и даже более того – для всего христианства.
– Кто, Мануйла? – поразился Бердичевский. – Полноте, ваше высокопревосходительство! Не преувеличиваете ли вы?
Обер-прокурор грустно улыбнулся.
– Вы еще не научились верить мне так, как верят мои единодушники. Я могу ошибаться или умом, или сердцем, но никогда и тем, и другим сразу. Это дар, ниспосланный Господом. Это мое предназначение. Верьте мне, Матвей Бенционович: я вижу дальше других людей, и мне открывается многое, что от них закрыто.
Победив смотрел Бердичевскому прямо в глаза, чеканил каждое слово. Заволжский прокурор слушал как завороженный.
– Всякий, кого касается Мануил, заражается смертельной болезнью неверия. Я сам говорил с ним, почувствовал эту обольстительную силу и спасся одной лишь молитвой. Знаете, кто он? – перешел вдруг на страшный шепот Константин Петрович.
– Кто?
– Антихрист.
Слово было произнесено тихо и торжественно.
Бердичевский испуганно моргнул.
Вот тебе на! Самый влиятельный человек в государстве, обер-прокурор Святейшего Синода – сумасшедший. Бедная Россия!
– Я не сумасшедший и не религиозный фанатик, – словно подслушал его мысли обер-прокурор. – Но я верую в Бога. Давно знал, что грядет Нечистый, давно его ждал – по всем объявленным приметам. А он, оказывается, уже здесь. Невесть откуда взялся, бродит по Руси, принюхивается, приглядывается, ибо спешить ему некуда – дано ему три с половиной года. Сказано ведь в Иоанновом Откровении: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира».
Эти грозные и смутные слова взволновали Матвея Бенционовича. Победин уже не казался ему безумцем, однако и поверить в то, что жалкий проходимец Мануйла – тот самый апокалиптический Зверь, было невозможно.
– Знаю, – вздохнул Константин Петрович. – Вам, человеку практического ума, поверить в такое трудно. Одно дело про Антихриста в духовной литературе читать, и совсем другое – представить его среди людей, в наш век пара и электричества, да еще в России. А я вам вот что скажу, – вновь воспламенился обер-прокурор. – Именно в России! В том и смысл, и предназначение нашей страны, что ей предписано стать полем битвы между Светом и Тьмой! Зверь выбрал Россию, потому что это особенная страна – она, несчастная, дальше всех от Бога, а в то же время всех прочих стран к Нему ближе! И еще оттого, что давно уже идет у нас шатание – и порядка, и веры. Наша держава – слабейшее из звеньев в цепи христианских государств. Антихрист увидел это и приготовил удар. Мне ведомо, что это будет за удар, – он сам мне признался. Вам с Сергеем Сергеевичем про то знать не надобно, пусть уж на мне одном будет тяжесть знания. Скажу лишь одно: это удар, от которого наша вера не оправится. А что Россия без веры? Дуб без корней. Башня без фундамента. Рухнет и рассыплется в прах.
– Антихрист? – нерешительно повторил Бердичевский.
– Да. Причем не иносказательный, вроде Наполеона Бонапарта, а самый что ни на есть настоящий. Только без рогов и хвоста, с тихой, душевной речью и ласкательным взором. Я чувствую людей, знаю их. Так вот, Мапуил – не человек.
От того, как просто, буднично была произнесена эта фраза, по спине Матвея Бенционовича пробежали мурашки.
– А сестра Пелагия? – слабым голосом проговорил он. – Разве она в чем-то виновата?
Обер-прокурор сурово сказал:
– В любом государстве существует институт смертной казни. В христианских странах она применяется в двух случаях: когда некто нанес тяжкое оскорбление человечности или же являет собой серьезную опасность для общества. В первом случае это отпетые уголовники, во втором – разрушители устоев.
– Но Пелагия не убийца и не революционерка!
– И тем не менее она представляет собой огромную опасность для нашего дела, а это еще хуже, чем оскорбление человечности. Оскорбление можно простить, это нам и Христос велел. – Тут лицо Победина отчего-то дернулось, но он тут же совладал с собой. – Можно и даже должно помиловать жестокого, но раскаявшегося убийцу. Однако не уничтожить человека, пускай полного благих намерений, но представляющего собой угрозу для всего мироустройства, – преступление. Это все равно что врач не отсечет гангренозный член, от которого смертоносная гниль перекинется на все тело. Таков высший закон общины: пожертвовать одним ради спасения многих.
– Но вы могли бы с ней поговорить, как говорите сейчас со мной! – воскликнул Матвей Бенционович. – Она умнейшая, искренне верующая женщина, она бы вас поняла!
Обер-прокурор взглянул на Долинина. Тот поднял лнцо – застывшее, мрачное – и покачал головой:
– Я сразу почувствовал, что она опасна. Не отпускал ее от себя, присматривался. Уже понял: слишком умна, непременно докопается, а всё медлил... Я знаю эту породу. Такие не отступятся от ребуса, пока его не решат. И она уже близка к разгадке.
– С вами, Матвей Бенционович, договориться можно, потому что вы мужчина и умеете за частностями видеть главное, – подхватил Константин Петрович. – Женщина же не поймет меня никогда, потому что для нее частность важнее Цели. Вы и я пожертвуем одним человеком ради спасения тысяч и миллионов, даже если этот человек нам бесконечно дорог и если сердце будет истекать кровью. Женщина же никогда на такое не пойдет, и миллионы погибнут вместе с тем несчастным, кого она пожалела. Я видел вашу Пелагию и знаю, что говорю. Она молчать не захочет и не сможет. Мне очень жаль, но она приговорена, ничто ее не спасет. Над ней уже занесена десница. Я скорблю об этой незаурядной женщине, а Сергей Сергеевич еще более меня, потому что успел ее полюбить.
Бердичевский с ужасом посмотрел на Долинина, но у того на лице не дрогнул ни единый мускул.
– Будем скорбеть по ней вместе, – закончил обер-прокурор. – И пусть утешением нам будет то, что она упокоится в Святой Земле.
От отчаяния Матвей Бенционович чуть не застонал. Знают, всё знают!
– Да, знаем, – кивнул Константин Петрович, кажется, владевший искусством понимать собеседника без слов. – Она пока жива, потому что так нужно. Но скоро, очень скоро ее не станет. Увы, иного выхода нет. Иногда собрание единодушников с горечью и болью принимает подобные тягостные решения – даже если речь идет не о простой инокине, а о людях куда более заслуженных.
Бердичевскому вспомнились давние слухи о скоропостижной смерти молодого генерала Скобелева, якобы приговоренного тайной монархической организацией под названием «Священная Дружина».
– «Священная Дружина»?..– неуверенно выговорил он.
Победин поморщился:
– У нас нет названия. А «Священная Дружина» была ребячеством, глупой затеей придворных честолюбцев. Мы же не честолюбивы, хотя каждый из моих помощников назначается на видное место, где может принести родине максимум пользы. Я устрою и вашу судьбу, можете в этом быть уверены, но я хочу, чтобы вы примкнули к нам не из карьерных видов, а по убеждению... Вот что. – Обер-прокурор пристально посмотрел на статского советника, и Бердичевский поежился под этим пронизывающим взглядом. – Я вам расскажу то, что известно лишь самому близкому кругу моих друзей. Нами разработан план чрезвычайных мер на случай, если опасность революционного взрыва станет слишком серьезной. Вся беда в том, что власть и общество по-детски беспечны. Люди склонны недооценивать угрозу, которой чреваты теории и идеи. До тех пор, пока не прольется кровь. Что ж, мы откроем обществу глаза! Мы перехватим инициативу! Сейчас в России язва терроризма выжжена каленым железом, но это временное облегчение. Когда новая волна революционного насилия станет неотвратимой, мы опередим ее. Начнем террор сами.
– Будете убивать революционеров?
– В этом нет смысла. Так мы лишь вызовем к ним сочувствие. Нет, мы убьем кого-нибудь из почтенных сановников. Если понадобится, не одного. И выдадим это за начало революционного террора. Выберем достойного, уважаемого человека – такого, чтобы все ужаснулись... Погодите, Матвей Бенционович, не вздрагивайте. Я еще не всё вам сказал. Будет мало убийства министра или генерал-губернатора, устроим взрывы на вокзалах, в жилых домах. С множеством невинных жертв. Чудовищная провокация, скажете вы. Да, отвечу я вам. Чудовищная и отвратительная. А «Революционный катехизис» Нечаева вы читали? Наши враги дозволяют себе и провокации, и жестокость. Значит, и мы имеем право воспользоваться тем же оружием. Молю Бога, чтоб до этого не дошло. – Победин истово перекрестился. – А чтоб вы не считали меня адским исчадием, скажу вам еще кое-что... До того как начнутся взрывы, убит будет еще один весьма высокопоставленный сановник, которого почитает и слушает сам государь. К сожалению, слушает недостаточно...
– Вы?! – ахнул Бердичевский.
– Да. И это не худшая из жертв, которую я готов принести ради человечества! – с болью воскликнул Константин Петрович, и из его глаз потекли слезы. – Что такое отдать свою жизнь? Пустяк! Я же приношу в жертву нечто куда более драгоценное – свою бессмертную душу! Вот наивысшая цена, которую, в случае необходимости, обязан заплатить вождь человеческий ради счастия людей! Что ж я, по-вашему, не понимаю, какое проклятье на себя беру? Нет служения жертвенней, чем мое. Я скажу ужасную, даже кощунственную вещь: моя жертва выше, чем Иисусова, ибо Он-то Свою душу сберег. Иисус призывал возлюбить ближнего, как самого себя, я же люблю ближних больше,чем себя. Ради них я не пожалею и своей бессмертной души... Да, приказывая убивать невинных, но опасных для нашего дела людей, я гублю свою душу! Но ведь это ради любви, ради правды, ради други своя!
Глаза обер-прокурора в эту минуту смотрели уже не на Бердичевского, а вверх – на потолок, посередине которого мерцала величественная хрустальная люстра.
Это он не мне говорит, а Господу Богу, понял Матвей Бенционович. Стало быть, всё же надеется на Его прощение.
Константин Петрович вытер платком слезы и сказал Бердичевскому – сурово и непреклонно, на «ты»:
– Если готов идти со мной по этому крестному пути – подставляй плечо под крест и пойдем. Не готов – отойди, не мешай! Так что? Остаешься или уходишь?
– Остаюсь, – тихо, но твердо ответил Бердичевский после самой короткой паузы.
Прогулка его превосходительства
Из здания Святейшего Синода Матвей Бенционович вышел час спустя – и уже не статским советником, а особой четвертого, генеральского класса. Производство свершилось с фантастической легкостью и быстротой. Константин Петрович протелефонировал министру юстиции, поговорил с ним не долее трех минут, потом связался с Дворцом, где имел беседу с Таким Собеседником, что у Бердичевского вспотели ладони. «Ценнейший для государства человек, на полное мое ручательство» – вот какие слова были сказаны про безвестного заволжца. И кому сказаны!
Другие чиновники, даже выслужив полный срок производства, ожидают утверждения долгие месяцы, а тут всё решилось в мгновение ока, и даже указ должен был воспоследовать нынче же, сегодняшним числом.
Матвею Бенционовичу было обещано в самом скором времени назначение на ответственную должность. Пока же обер-прокурор подберет новому сомысленнику достойное поприще (на это понадобится неделька-другая), Бердичевскому предписывалось быть в столице. В Заволжск возвращаться Константин Петрович не советовал. «К чему вам лишние объяснения с вашим духовным отцом? – сказал он, лишний раз продемонстрировав исчерпывающую осведомленность. – Заволжского губернатора известят депешей, вашу семью переправят. Через день-два министерство предоставит вам казенную квартиру, при полной меблировке, так что заботиться о бытоустройстве не нужно».
А его новоиспеченное превосходительство о бытоустройстве и не заботился.
Бердичевский вышел из Синода на площадь. Зажмурился на яркое солнце, надел шляпу.
У решетки ждала коляска. 48-36 пялился на борца с австро-венгерским шпионажем, ждал знака. Поколебавшись, Матвей Бенционович подошел к нему, лениво сказал:
– Прокати-ка меня, братец,
– Куда прикажете?
– Право, не знаю, да вот хоть по набережной.
Вдоль Невы катилось просто замечательно. Солнце, правда, спряталось за тучи, и с неба брызнул мелкий дождик, но седок поднял кожаный верх и заслонился им от внешнего мира. Потом снова просветлело, и верх был спущен обратно.
Его превосходительство ехал себе, улыбался небу, реке, солнечным зайчикам, прыгавшим по стенам домов.
– Поворачивай на Мойку, – велел он. – Или нет, постой. Лучше пройдусь. Тебя как звать? Второй день ездим, а так и не спросил.
– Матвей, – сказал извозчик.
Бердичевский удивился, но несильно, потому что за нынешне утро успел существенно поистратить способность к удивлению.
– Грамотный?
– Так точно.
– Молодец. Держи-ка вот за труды.
Сунул в широкий карман извозчичьего кафтана несколько бумажек.
Возница даже не поблагодарил – так расстроился.
– И всё, ваше благородие, боле ничего не нужно?
Даже голос дрогнул.
– Не «благородие», а «превосходительство», – важно сказал ему Матвей Бенционович. – Я тебя, 48-36, сыщу, когда понадобишься.
Похлопал просиявшего парня по плечу, дальше отправился пешком.
Настроение было немножко грустное, но в то же время покойное. Бог весть, о чем думал бывший заволжский прокурор, идя легким, прогулочным шагом по Благовещенской улице. Один раз, у берега Адмиралтейского канала, загляделся на бонну, гулявшую с двумя маленькими девочками, и пробормотал непонятное: «А что им, лучше будет, если папенька – подлец?»
И еще, уже на Почтамтской улице, прошептал в ответ на какие-то свои мысли: «Простенько, но в то же время изящно. Этюд Бердичевского». Весело хмыкнул.
Поднимаясь по ступенькам Почтамта, даже напевал лишенным музыкальности голосом и без слов, так что распознать мелодию не представлялось возможным.
Быстро набросал на бланке телеграммы: «Срочно разыщите П. Ее жизнь опасности. Бердичевский».
Протянул в окошко телеграфисту, продиктовал адрес:
– В Заволжск, на Архиерейское подворье, преосвященному Митрофанию, «блицем».
Заплатил за депешу рубль одиннадцать копеек.
Вевнувшись на улицу, его превосходительство немного постоял на ступеньках. Тихонько сказал:
– Что ж, прожито. Можно бы и подостойней, но уж как вышло, так вышло...
Видно, Матвею Бенционовичу очень хотелось с кем-нибудь поговорить, вот он за неимением собеседника и вступил в диалог с самим собой. Но проговаривал вслух не всё, а лишь какие-то обрывки мыслей, без очевидной логической связи.
Например, пробормотал:
– Рубль одиннадцать копеек. Ну и цена. – И тихо рассмеялся.
Посмотрел налево, направо. На улице было полно прохожих.
– Прямо здесь, что ли? – спросил неизвестно кого Бердичевский.
Поежился, но тут же сконфуженно улыбнулся. Повернул направо.
Следующая реплика была еще более странной:
– Интересно, дойду ли до площади?
Неспеша двинулся в сторону Исаакиевского собора. Сложил на груди руки, стал любоваться посверкивающей брусчаткой, медным блеском купола, кружащей в небе голубиной стаей.
Прошептал:
– Merci. Красиво.
Казалось, Матвей Бенционович чего-то ждет или, может, кого-нибудь поджидает. В пользу этого предположения свидетельствовала и следующая произнесенная им фраза:
– Ну, сколько можно? Это по меньшей мере невежливо.
Что именно он находил невежливым, осталось неизвестным, потому что в это самое мгновение на действительного статского советника с разбега налетел спешивший куда-то молодой человек крепкого сложения. Крепыш (он был в полосатом пиджаке), впрочем, вежливо извинился и даже придержал ойкнувшего Матвея Бенционовича за плечо. Приподнял соломенную шляпу, затрусил себе дальше.
А Бердичевский немного покачался с улыбкой на губах и вдруг повалился на тротуар. Улыбка стала еще шире, да так и застыла, карие глаза спокойно смотрели вбок, на радужную лужу.
Вокруг упавшего собралась толпа – хлопотали, охали, терли виски и прочее, а крепкий молодой человек тем временем быстро прошагал улицей и вошел в Почтамт через служебный ход.
У телеграфного пункта его ожидал чиновник почтового ведомства.
– Где? – спросил полосатый.
Ему протянули листок с телеграммой, адресованной в Заволжск.
Содержание полосатому, очевидно, было известно – читать депешу он не стал, а аккуратно сложил бумажку и сунул в карман.
XV. ПОЛНОЛУНИЕ
Близ сада и в саду
Перед Яффскими воротами Пелагия велела поворачивать направо. Старый город объехали с юга вдоль Кедронского оврага.
Справа белело надгробьями еврейское кладбище на Масличной горе, издали похожее на огромный каменный город. Полина Андреевна едва взглянула на сей прославленный некрополь, обитатели которого первыми восстанут в день Страшного Суда. Утомленной путешественице сейчас было не до святынь и достопримечательностей. Круглая луна забралась в небо уже довольно высоко, и монахиня очень боялась опоздать.
– Если через пять минут не будем, где велено, двухсот франков не получишь, – ткнула она кучера кулаком в спину.
– А жениться? – обернулся Садах. – Ты сказала «ладно».
– Сказано тебе, у меня уже есть Жених, другого не нужно. Погоняй, не то и денег не получишь.
Палестинец надулся, но лошадей все же подстегнул.
Хантур прогрохотал по мосту и повернул вправо, на улочку, уходившую резко вверх.
– Вот он, твой сад, – пробурчал Салах, показывая на ограду и калитку. – Пять минут не прошло.
С сильно бьющимся сердцем смотрела Полина Андреевна на вход в священнейший из всех земных садов.
На первый взгляд в нем не было ничего особенного: темные кроны деревьев, за ними торчал купол церкви.
Эммануил уже там или еще нет?
А может быть, она вообще ошиблась?
– Подожди здесь, – шепнула Пелагия и вошла в калитку.
Какой же он маленький! От края до края полсотни шагов, никак не больше. Посередине заброшенный колодец, вокруг него с десяток кривых, узловатых деревьев. Говорят, оливы бессмертны, во всяком случае, могут жить и две, и три тысячи лет. Значит, какое-то из этих деревьев слышало Моление о Чаше? От этой мысли сердце монахини сжалось.
А еще более стиснулось в груди, когда Пелагия увидела, что в саду кроме нее никого нет. Луна светила так ярко, что спрятаться было невозможно.
Не нужно отчаиваться, сказала себе Полина Андреевна. Может быть, я пришла слишком рано.
Она вышла обратно на улицу и сказала Салаху:
– Спустимся вон туда. Подождем.
Он отвел лошадей вниз, к дороге. Там в осыпавшейся стене образовался провал, сверху нависали густые ветви деревьев, так что разглядеть повозку можно было, только если знать, где она стоит.
Салах спросил, тоже шепотом:
– Кого ждем, а?
Она не ответила, только махнула рукой, чтоб молчал.
Странная вещь – в эти минуты Пелагия уже нисколько не сомневалась, что Эммануил придет. Но волнение от этого не ослабело, а, наоборот, усилилось.
Губы монахини шевелились, беззвучно произнося молитву: «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадоваться о Бозе живе...» Моление родилось само собой, безо всякого участия рассудка. И лишь дойдя до слов «Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих», она осознала, что произносит мольбу о перемещении из жизни земной в Вечные Селения.
Осознав, задрожала.
С чего это душа вдруг исторгла псалом, который предписан человеку, находящемуся у порога вечности?
Но прежде чем сестра Пелагия могла прочесть иную, менее страшную молитву, с дороги на горбатую улочку свернул человек в длинном одеянии и с посохом.
Это всё, что успела разглядеть монахиня, потому что в следующий миг луна спряталась за маленькое облако, и стало совсем темно.
Путник прошел близко, в каких-нибудь пяти шагах, но инокиня так и не поняла, тот ли это, кого она ждет.
Стала смотреть вслед – повернет в сад или нет.
Повернул.
Значит, он!
Тут и луна высвободилась из недолгого плена, так что Пелагия разглядела спутанные волосы до плеч, белую рубаху и темный пояс.
– Он! – воскликнула она уже вслух и хотела кинуться за вошедшим в сад, но здесь случилось непредвиденное.
Кто-то схватил ее за руку и рывком развернул.
Пелагия и Салах так сосредоточенно смотрели в спину человеку с посохом, что не заметили, как к ним подкрался еще один.
Это был мужчина устрашающего вида. Бородатый, широкоплечий, с плоским свирепым лицом. За плечом его торчал приклад карабина. На голове был повязан арабский платок.
Одной рукой незнакомец держал за шиворот Салаха, другой – за локоть Пелагию.
– Что за люди? – прошипел он по-русски. – Почему таитесь? Против негоумышляете?
Кажется, он лишь теперь разглядел, что перед ним женщина, и локоть выпустил, но зато схватил палестинца за ворот обеими руками, да так, что почти оторвал от земли.
– Русские, мы русские, – залепетал перепуганный Салах.
– Что с того, что русские! – рыкнул ужасный человек. – Еговсякие сгубить хотят, и русские тож! Зачем тут? Егоподжидали? Правду говорите, не то...
И взмахнул таким здоровенным кулачищем, что бедный палестинец зажмурился. Богатырь без труда удерживал его на весу и одной своей ручищей.
Оправившись от первого потрясения, Пелагия быстро сказала:
– Да, мы ждали Эммануила. Мне нужно с ним говорить, у меня для него важное известие. А вы... вы кто? Вы из «найденышей», да?
– «Найденыши» – это которые свою душу спасают, – с некоторым презрением молвил бородач. – А я егоспасать должон. Моя душа ладно, пускай ее... Только бы онживой был. Ты сама кто?
– Сестра Пелагия, монахиня.
Реакция на это вроде бы совершенно безобидное представление была неожиданной. Незнакомец швырнул Салаха наземь и схватил инокиню за шею.
– Монахиня! Ворона черная! Это он, кощей, тебя прислал? Он, он, кто ж еще! Говори, не то глотку разорву!
Перед лицом помертвевшей Пелагии сверкнуло лезвие ножа.
– Кто «он»? – выдохнула полузадушенная, переставшая что-либо понимать сестра.
– Не бреши, змея! Он, самый главный над вашим крапивным семенем начальник! Вы все на него шпиёните, заради него пролазничаете!
Главный над крапивным семенем, то есть над духовенством начальник?
– Вы про обер-прокурора Победина?
– Ага! – возликовал бородатый. – Созналась! Лежи! – пнул он попытавшегося сесть Салаха. – Я раз уж спас Мануилу от старого упыря, и сызнова спасу! – Широкий рот оскалился в кривозубой улыбке. – Что, поминает, поди, Кинстянтин Петрович раба божьего Трофима Дубенку?
– Кого? – просипела Пелагия.






