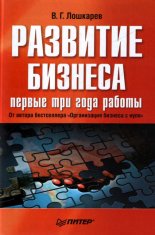Приснился мне Чаплин... Карцев Роман

Я влюбился в девушку – продавщицу шапок из «Гостиного двора». Когда я примерял кроличью ушанку, собралась толпа, потому что она на меня орала. Я примерял все, что у нее было на прилавке и под ним. «Нет еще той шапки на вашу голову!» – кричала она, и когда я проваливался с головой в очередную шапку, она хохотала: «Посмотрите на этого клоуна!» Она еще не знала, где я работаю. Да, голова у меня маленькая. Но какие в ней мозги! Это она ощущала все годы, что мы с ней встречались. Она была красивая. И я чуть на ней не женился. Правда, «чуть» в Одессе не считается.
Затем был переезд в другой угол и, наконец, гастроли театра в Москве. Играли программу «Избранное» в Театре эстрады. Москва бурлила.
Какое счастье! Гостиница! Суточные два шестьдесят. Итого сто пятьдесят рублей в месяц. Богач! Таганка, «Современник» на площади Маяковского, Эфрос, Дом актера… Капустники!.. Харитонов, с которым мы жили в гостинице «Центральной» на Горького, водил меня в ресторан ВТО. Мы гуляли рубля на три. Но зато!.. Оглянулся по сторонам – Стриженов, Гриценко, Ролан Быков, Козаков, Высоцкий, Гердт, и все молодые, а я еще моложе. Крики: «Ты не актер, ты дерьмо!» – «А ты кто? Посмотри на себя, импотент эстрады!» Я слушал, разглядывал, жадно впитывал. Съедал по одиннадцать порций салата из капусты. Все для меня было ново, интересно.
В это время Райкин работал с Хазиным над спектаклем «Волшебники живут рядом», и кто знает, если бы не этот спектакль, я, может, никогда бы не встретился с Витей и с Милой Гвоздиковой. Там есть два персонажа – молодые волшебники, а совсем молодых в театре не было, и когда я впервые приехал в Одессу в отпуск, у меня возникла мысль найти молодых волшебников здесь. В спектакле «Парнаса» я и увидел Милу, молодую и красивую, и привел ее к Райкину, который отдыхал в санатории Чкалова, и он моментально пригласил ее на работу в театр. Так я невольно разбил ее первую семью и помог обрести вторую в этом театре. А самое главное – тогда я познакомился с Витей Ильченко и привел его к Райкину.
«Парнас» меня встретил как легионера из-за границы. Я рассказывал о театре, о Райкине, хотя рассказывать еще было, по сути, нечего. Родители пригласили Райкина на обед. Три дня все жарилось, шкварилось, фаршировалось. Почему-то Аркадий Исаакович пришел один, хотя ел за троих – я в первый и последний раз видел, чтоб он так много ел. Он не поднимал головы! Фаршированная рыба, синие трех видов, салат оливье, форшмак, отбивные, малосольная скумбрия, бычки, потом жидкое (у нас дома ели сначала второе, затем первое, и так до сих пор), бульон с манделех, фаршированная шейка, мороженое… Разговора не было – была трапеза. А мне двадцать два года, и меня ждет девушка… И я надумал пойти за хлебом, хотя хлеба на столе достаточно, но Аркадий Исаакович все понял и сказал:
– Да! Сходи! И не торопись, выбирай свежий…
У них шел разговор обо мне. Райкин меня хвалил, отец не верил (он-то меня знал), а мама собирала Райкину в санаторий то, что ему понравилось. В Одессе это закон – дать что-то с собой…
Одесситы в театре Райкина
После отпуска мы втроем поехали в Ленинград в театр. Мы с Витей и с Милой познакомились толком уже в поезде. Они меня попросили рассказать, как там в театре. Где жить? Какая зарплата? И когда наша троица появилась на сборе труппы, которая состояла из двенадцати-тринадцати актеров, нас встретили почти враждебно. Все одесситы, все молоды, красивы и застенчивы… Но мы очень полюбили театр и быстро вошли в труппу.
Хотя нет, Витя входил долго, он был молчалив, задумчив и всегда долго раскачивался. И вообще все пятнадцать лет до переезда в Москву он говорил мало. Он уже был женат, у него подрастал сын, нужно было кормить семью. А чем? Те же восемьдесят восемь рублей минус подоходный налог и двадцать пять рублей за угол…
Жили мы с ним отдельно, виделись на репетициях и спектаклях. Он и Мила постепенно входили в «Избранные миниатюры».
Началась подготовка к поездке в Чехословакию. Райкин вставил монолог Жванецкого, который я читал еще в Одессе: монолог начальника управления культуры, ругающего спектакль, этакого жлоба от культуры. Я исполнял его почти в самом конце. В верхний карман пиджака я закладывал множество красных карандашей и ручек.
Эта поездка сблизила нас с Витей. В Чехословакию можно было вывозить десять рублей (артисты всегда брали с собой колбасу, бульонные кубики, консервы, кипятильники), а мы с Витей взяли целых сто. Нам надо было их истратить до Чехословакии, в Москве, где мы были всего один день. Свободные номера в гостинице в то время найти было практически невозможно. Благодаря Райкину нам достался огромный роскошный люкс в «Национале» за одиннадцать рублей в сутки. Утром мы туда въехали, заказали завтрак в номер – икру, салаты, омлет, кофе. Истратили рублей двадцать. Пошли гулять. Пили пиво, ели мороженое. Обед заказали в номер: селедочку с картошкой, салаты, осетрину, борщ, котлеты по-киевски, пиво, фрукты – на это у нас ушло рублей тридцать. Пошли погуляли. Ужин заказали в номер, истратили двадцать пять рублей. Набрали еды в поезд – и вечером с театром рванули за рубеж…
Это была первая поездка за границу. Красавица Прага на нас произвела ошеломляющее впечатление. Готика! Соборы! Органные концерты! Ночные гуляния, ночью на улице шпекачки с горчицей и пивом… Я посмотрел чаплиновского «Диктатора», спектакль театра «Светофор».
Успех у Аркадия Исааковича был огромный. Я свой монолог выучил на чешском языке. Публика принимала прекрасно.
Затем – месяц в Словакии.
Мы с Витей немного приоделись-приобулись. Особенно не разгонишься, гонорар небольшой, и все же я купил себе первое приличное пальто из букле с черным воротником и носил его лет десять. У меня был сорок второй – сорок четвертый размер, и я покупал одежду в «Детском мире» – там все стоило дешевле.
Вернувшись в Ленинград, приступили к репетициям пьесы Александра Хазина «Волшебники живут рядом». Мы, одесситы, играли молодых волшебников – танцевали, пели, бегали, выходили в миниатюрах. Спектакль, на мой взгляд, получился не лучший, хотя там было несколько отличных миниатюр. Я весь вечер стоял за кулисами и наблюдал за игрой Райкина.
Центральная миниатюра – «Голова» – была самой острой. Аркадий Исаакович играл начальника отдела кадров сталинского времени. А Витя Ильченко с Наташей Соловьевой танцевали балетный номер на музыку Глюка.
Этот спектакль играли года два. Затем опять «Избранное», монолог «культурника». В шестьдесят четвертом году Жванецкий, увидев себя в программке театра Райкина, уволился с работы и вместе со своим соавтором Шурой Лозовским с шумом появился в Ленинграде. Они сняли комнату и – совершенно без денег – стали покорять город. В поисках куска хлеба Жванецкий писал миниатюры для самодеятельности, а Лозовский пытал счастья в игре в преферанс, как правило, проигрывал – и в результате был изгнан в Одессу.
С появлением Жванецкого в Ленинграде наша жизнь оживилась. Мы с Витей и Мишей даже сняли квартиру из трех комнат и матрасов. Варили еду, приглашали гостей, танцевали с девицами, завтракали в кафе «Ленинград», ходили в театры Товстоногова, Акимова, на капустники.
Жванецкий писал много и хорошо, приносил миниатюры Райкину, а тот складывал их в стол. Миша зверел, занимал у меня деньги, которые тут же проедал. Ел он очень много, и ему вечно не хватало. Я лез под диван, доставал из чемодана десять рублей, и он опять мчался в ресторан…
В то время Райкин работал с очень сильными авторами – Гиндиным, Рябкиным и Рыжовым («Гинряры») и не обращал внимания на тексты Жванецкого. А мы с Витей начали потихоньку репетировать его миниатюры. И в очередной приезд в Москву, где мы жили как короли в гостинице «Пекин», возник «Авас». Он был построен на сплошной импровизации. После спектакля мы шли в гостиницу, кипятили чай (в театре был сухой закон) и начинали импровизировать, хохоча на всю гостиницу. Сценическое решение было найдено случайно, но очень точно.
Когда мы показали эту миниатюру Аркадию Исааковичу, он никак не отреагировал. Но через какое-то время разрешил сыграть ее на шефском концерте для солдат в Театре эстрады. Хохот стоял истерический! Потом солдаты зашли за кулисы, толкая впереди себя чернявого грузина и показывая на него: «Вот он – Авас!» Этот номер стали исполнять все чаще, и его всегда восторженно принимали.
Тогда мы с Витей стали репетировать другие миниатюры Жванецкого. Постепенно у нас складывался репертуар. Мы подрабатывали втихаря в концертах и, когда нам повысили оклад до ста тридцати рублей, стали снимать номер за два пятьдесят в гостинице «Киевской».
Каждый год театр выезжал в Москву на гастроли. Мы и там подрабатывали в концертах, ходили в ВТО, брали рублей за пять сковородку – мясо трех сортов с картошкой – и сидели, разглядывая знаменитых актеров. Ходили в театры – на Таганку, к Эфросу, в «Современник», исполняли миниатюры на вечерах. У нас появились острые вещи.
Витя с Милой Гвоздиковой поступили в Москве в ГИТИС – заочно, а меня в очередной раз не приняли, и я жутко страдал. Мне очень хотелось окончить институт. И я туда все-таки поступил – когда прочел им Чехова, а не Жванецкого…
Каждый год летом я приезжал в Одессу – к родителям, к девушкам, к морю, к друзьям. В один из приездов что-то ударило мне в голову, и я решил поразить Райкина. Весь месяц я лежал на солнце; не играл в волейбол, не плавал – лежал. Я загорел как никогда. Я был иссиня-черный. А когда приехал в Ленинград и пришел в театр, то месяц не играл, пока не побелел. Негров на работу не берем, сказал Райкин.
Шестьдесят пятый год был, пожалуй, одним из самых-самых. Репетировалась программа на английском языке. Перед этим была Болгария, где мы играли на болгарском – миниатюру «Авас» с Витей и я свой монолог. Солнце, Золотые Пески, «Пиратская деревня», люля-кебаб, персики… Меня знакомят с моим двойником – болгарским артистом; мы смотрим друг на друга и жутко хохочем, гуляем всю ночь и расстаемся навсегда.
Помню забавный случай. В Болгарию приехал с визитом югославский президент Иосип Броз Тито, а мы с Витей жили в гостинице на центральной площади, по которой он должен был проехать. Мы в трусах вышли на балкон и в ожидании гостя стали кипятить бульон из кубиков. Толпа. Едет Тито. Приветственные крики. Мы засмотрелись, и кто-то из нас ногой задел кипящий бульон. Кастрюля перевернулась, и на стоящих внизу закапало. Крики, угрозы… Едва мы успели все убрать и быстро улечься в постель, в номер ворвались болгарские гэбэшники. У нас потребовали документы, но когда увидели советские паспорта, удалились.
В Болгарии мы с Райкиным заказали в ателье дубленки. Что мне стукнуло в голову?! Я истратил все деньги. Когда я появился в Москве в дубленке, их еще почти никто не носил. Меня тогда не знали как артиста, но все оборачивались на дубленку. Я носил ее лет пятнадцать.
В этом же году мы пробыли месяц в Венгрии. Перед этим в отпуске в Одессе я нашел девушку – переводчицу с венгерского, и мы с Витей выучили на венгерском языке «Авас» и мой монолог «культурника». И когда Райкин приехал в Одессу отдыхать, мы с Витей продемонстрировали ему свои лингвистические успехи. Аркадий Исаакович был потрясен и попросил привести к нему эту переводчицу, но она после двух занятий куда-то исчезла…
Будапешт нас потряс. В городе пахло черным кофе. С Яношем Кадаром тогда была дружба, да и Райкина в Венгрии любили, так что нас поселили в роскошной гостинице с кормежкой, и свои консервы мы повезли обратно. Миниатюра «Авас» на венгерском имела ошеломляющий успех, меня принимали за своего – произношение у меня на всех языках почти натуральное. Венгерский язык очень красивый, но трудный, однако мы были молоды, память у нас была цепкая. Мы играли миниатюру вместо семи минут пятнадцать. Хохот стоял дикий. За нами бегали репортеры, нас напечатали в журнале, снимали на телевидении, за что мы получили дополнительный гонорар. Честно говоря, нам было даже неудобно перед Райкиным за свой успех. И уже в следующей поездке – в Лондон (правда, без Вити – он заболел) я за неделю ввелся с Аркадием Исааковичем в миниатюру, которая называлась «Четыре точки зрения».
Поездка в Англию, в капстрану, на десять дней!.. Я волновался: до последнего дня не было визы. Но все обошлось, и мы, восемь человек, летим выступать на телевидении Би-Би-Си. У нас была посадка в Париже, там как раз проходила забастовка грузчиков, и мы, советские, взяли тележку и под улюлюканье бастующих тащили свои чемоданы, полные консервов и сухой колбасы. До отлета у нас было три часа, и посольские особисты показали нам Париж…
В Лондоне мы жили в частной гостинице «Принц Уэльский». Меня поселили вдвоем с актером, который по-английски вместо «литл» говорил «литр» и боялся взять ключ у портье. У нас был триста двадцать второй номер, и он стеснялся произнести «сри ту ту». Гостиница была старая, туалет в коридоре; он выскочил ночью в туалет, а дверь номера захлопнулась (я в это время шатался по ночному Лондону с нашими актрисами). И он в трусах метался по коридору, где никого не было, кроме ошалелых туристов, и не мог ничего объяснить. Вызвали полицию, его забрали в машину. Когда все выяснилось, они жутко смеялись, – англичане юмор понимают. После этого он, выходя в туалет, клал ботинок под дверь…
Нас поразило, что англичане обувь снимали в гостиничном коридоре, и возле каждого номера стояли великолепные английские туфли: бери – не хочу.
И вдруг в эту же гостиницу въезжает Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Я говорю соседу: все, мы пропали! И через полчаса после того, как они поселились (а было их человек сорок), в гостинице погас свет. Сорок кипятильников врубились одновременно… Забегали горничные, портье. Включили автоматику. Через пять минут свет снова погас! Снова врубили автоматику. Начальник ансамбля дал команду включать по два кипятильника…
В холле, где стоял телевизор, сидят англичане, курят сигары. Появляются двое из ансамбля, останавливаются возле телевизора, один говорит: «Коля, а ну переключи!» Тот крутит ручку: «Та нет ничего интересного». У англичан, которые смотрели телевизор, отвисли челюсти, выпали изо рта сигары, а наши спокойно ушли в номер…
Каждый день в десять утра мы выезжали на Би-Би-Си и до четырех часов репетировали, а затем были свободны и бродили по Лондону до ночи. Сохо, Темза, мост Ватерлоо, Музей мадам Тюссо, Нельсон, Трафальгарская площадь, Биг-Бен…
Как прошел концерт, я не помню. Что-то хорошо принимали, чего-то не понимали. Публика чопорная, билеты от пятидесяти фунтов, а я получил десять. Накупил много шмоток – себе, маме, папе, сестре. Замшевые туфли ношу до сих пор – им исполнилось тридцать лет!..
На обратном пути мы оказались в Москве часов в девять вечера, а в полночь отправлялись в Ленинград. Я был голоден и стал искать чего-нибудь поесть. До одиннадцати вечера ни в один ресторан, ни в один магазин я не попал – все занято и закрыто. На вокзале схватил бутерброд – и наутро оказался в туманном Ленинграде, который очень напомнил мне Лондон, по крайней мере погодой.
Когда мы жили в «Киевской», мы уже могли приглашать гостей, это был наш дом. Нас там все знали, тем не менее вечно пьяный швейцар каждый раз проверял пропуск, не пускал девушек, пока не сунешь ему трешку в лапу.
Обед в ресторане стоил рубля два. Жванецкий, заказывая суп-лапшу с курицей, всегда скандалил на кухне. Оттуда раздавались его крики: «Где лапша?! Где курица?!» После паузы Миша выходил с тарелкой, в которой плавали три лапшинки и лежала лапка. Все было вперемешку – завтраки, обеды, ужины, постоянные девушки и не постоянные…
Администратор гостиницы, красавица, держала с подругой что-то вроде притона, куда приходили артисты, художники, бандиты. Витю там чуть не застрелил один тип. Они поспорили, и Витя – Витя! – ударил его по щеке (был слегка навеселе). Я встал между ними, увел того парня в туалет, он вынул пистолет и заявил: «Я его вижу в гробу!» Он нас не знал (нас еще никто не знал), но когда услышал, что мы, как и он, из Одессы, сразу стал нашим другом.
Театр готовился к гастролям в Румынию, я учил с Витей «Авас» и свой монолог.
Поездка прошла довольно уныло. Принимали хорошо, но особых впечатлений не осталось, кроме роскошной гостиницы с автоматически открывающимися дверями.
Там произошел неприятный случай: у меня началось гнойное воспаление уха – перекупался. Меня отвели к врачу, он оказался бывшим одесситом, ухо мне залечил, но посоветовал дома срочно обратиться к специалисту. В Ленинграде я с помощью жены Райкина попал в известную клинику Эрисмана. Завотделением посмотрела, покачала головой и сказала: «Вы можете с этим жить долго, но можете в поезде, в самолете внезапно…» И предложила радикальную операцию – когда стамеской и молотком долбят за ухом.
Когда я сообщил Аркадию Исааковичу, что ложусь на операцию, он устроил показной скандал с криком: «В какое положение ты ставишь театр! Как ты можешь в такой момент нас бросить?!» А какой момент? Я играл очень мало, меня можно было не только заменить, но и не заметить… Но когда Райкин позвонил врачу и та ему все рассказала, он дал добро, и я лег в клинику.
Меня стали готовить к операции. В палате лежали прооперированные, и когда я что-то рассказывал, люди выбегали из палаты – им нельзя было смеяться, у них выскакивали тампоны, а те, кому удалили гланды, прямо-таки задыхались…
Меня оперировала завотделением под местным наркозом. Она просила меня разговаривать с ней во время операции. Боли я не чувствовал и рассказывал ей анекдоты, она смеялась и часто не попадала по стамеске… Операция была сделана блестяще, и я стал этим ухом лучше слышать (даже то, что слышать не стоило бы).
Райкин приехал в больницу: сбежались все врачи, все больные с улицы, меня стали угощать – кто конфеткой, кто бутылкой. Аркадий Исаакович отвечал на вопросы. Популярность у него была фантастическая, а ведь тогда телевизор был далеко не в каждом доме!
Приехал отец, предлагал вернуться домой и не валять дурака. В отпуск я всегда ездил в Одессу – встречался с друзьями, плавал в любимом море, целовался с девицами, на которых обещал жениться (я всем обещал и честно собирался, но в последний момент они испарялись)…
Уход и возвращение
Приближался шестьдесят седьмой год. Райкин наконец обратил внимание на Мишу Жванецкого, тексты которого лежали у него в сундуке, а мы с Витей их репетировали и играли, зарабатывая на жизнь. Аркадий Исаакович взял миниатюры «Врач и больной», «Кассир и клиент», «Полотенце» и другие.
В это время готовился спектакль «Светофор». Текст на восемьдесят процентов Жванецкого. Я был занят в спектакле довольно много, и всякий раз мы с Витей импровизировали и искали. Старый режиссер, ставивший этот спектакль, совершенно не понимал юмора Жванецкого, а мы с Витей слыли знатоками его стиля.
Дело дошло до конфликта с режиссером. По вечерам мы в гостинице возмущались и на репетициях нервничали. Все не то! Все не так! Жванецкий требует особого подхода, особого темпа, ритма.
К сожалению, Райкин подавлял автора, подминал его под себя. Так было не только с Мишей, но и со всеми. И все-таки нас троих он уважал, прислушивался к нам, и мы гордились тем, что в «Светофоре» уговорили его не надевать масок, которые уже были сделаны.
Репетируя миниатюру «Школа», где я играл Кочегарова – двоечника-хулигана, а Витя – старшего брата, которого вместо родителей вызвали к директору школы, мы с Витей нарвались на холодное «Стоп!» из зала.
– Что это? – спросил Райкин.
– Импровизация! – ответили мы.
– И вы думаете, что это смешно?
Режиссер молчал.
– Смешно! – ответил я, как всегда не думая.
– Выходит, вы юмор понимаете лучше всех? Лучше меня?!
– Выходит, так! – запальчиво ответил я – и тут же подал заявление об уходе.
Ни Витя, ни Миша не успели пикнуть, как оно было подписано, и я был уволен из-за собственной вспыльчивости. Это было за неделю до премьеры и за две недели до гастрольной поездки в Югославию на месяц.
Как рассказывали Миша и Витя, поездка была изумительной (почти капстрана, как-никак). А я, собрав пожитки, улетел в Одессу, оскорбленный и униженный самим собой.
Что такое отрыв от Миши и Вити, я осознал лишь придя в одесскую филармонию. В это время как раз создавался новый эстрадный коллектив – оркестр и танцевальная группа из восьми девушек по метр семьдесят ростом. Коллектив и программа назывались «Гамбринус-67», я был ведущим. Там были очень хорошие солисты, я играл «Авас» и другие миниатюры с одним из музыкантов, читал монологи, придумывал трюки, и все проходило на ура.
И вот мы выехали на гастроли в Среднюю Азию. Ташкент. Июль. Пятьдесят два градуса. Кондиционеров еще не знали, и я стоял под душем весь день и спал в мокрой простыне.
В этой поездке началась моя любовь с Викторией Кассинской, которая тянется до сих пор. Ей было семнадцать, мне двадцать семь. У нее рост метр семьдесят, с каблуками метр семьдесят пять, у меня метр пятьдесят девять и сорок семь кило живого веса. Это было прекрасное время, она была упругой, а я темпераментным. Когда она засыпала, могло случиться что угодно – землетрясение, война, взрывы! Ломали дверь!.. Сейчас она просыпается от шелеста листвы…
Затем был Учкудук, о котором поется в песне про три колодца. Поезд остановился в пустыне. Вокзала нет, автобусами нас повезли в город, где добывают уран, работают заключенные и ученые. В ресторане за ужином пьяные учкудукцы за моей спиной поспорили, кто из них меня прибьет – не понравился я им. Они так спорили, что подрались между собой. Крики, милиция, а я улизнул и с ужасом думал: где Миша, где Витя, где Ленинград?
Неудивительно, что я хотел вернуться в театр. Друзья и некоторые артисты пытались замолвить за меня слово, но Райкин обо мне и слышать не хотел. Все это продолжалось полтора года.
Когда я по приглашению Анатолия Кролла отправился в Тулу работать в его эстрадном оркестре, то, заехав в Москву, пришел на спектакль театра. И там все громко, чтобы Райкин слышал, наперебой восклицали: «Кто к нам пришел!», «Кого мы видим!», «Аркадий Исаакович, смотрите, кто пришел! Угадайте!» – и втолкнули меня в уборную, где гримировался Райкин. Состоялся такой диалог:
– Здравствуйте, Аркадий Исаакович, как здоровье?
– Ничего. Как дела?
– Да так себе. Я тут…
– Ну ладно, мы еще увидимся? Ты на спектакле?
– Да, конечно!
Спектакль прошел, как всегда, успешно. Да и вообще, это был Райкин более современный. Все монологи оттуда – «Дефицит», «Федя-пропагандист», «Изобретатель», «В греческом зале» – стали классикой.
После спектакля я зашел за кулисы, выждал, пока все – гости, друзья – уйдут, и взахлеб стал его благодарить. И когда он меня спросил (по поводу миниатюры, которую мы раньше играли вместе с Витей): – Ну как «Школа»? – я ответил: – Если честно – не то!
– Да? – сказал Райкин. – Посмотрим, как ты ее сыграешь. Подавай заявление и возвращайся, а то мне все уши прожужжали…
И я вернулся в театр, где шел спектакль «Избранное». Райкин с Витей исполняли «Авас», а я стоял за кулисами и нервничал. При всем райкинском таланте, в «Авасе» он играл результат, а не процесс. Но миниатюра была настолько точна, что пользовалась успехом даже и без него, с другими актерами. Потом я играл ее тоже – третьим.
Мы с Витей продолжали набирать репертуар из текстов Жванецкого, за что нам влетало от художественного руководителя. И мы уже втроем стали серьезно подумывать об уходе – о собственном пути.
А пока что Райкин начал нас брать на свои творческие вечера вне театра. Миша читал, мы с Витей играли две-три миниатюры. Так было в Донецке, в Одессе, в Баку.
Все это происходило летом в отпуске. Нам платили по восемь рублей за выступление, а если это был Дворец спорта – то шестнадцать.
В июле мы выступали в Баку. Когда пришли на репетицию, Райкин попросил гонг для отбивки миниатюр. Собралась вся филармония, и по цепочке передавали: «Гонг… гонг… гонг…»
– Зачем? – спросил один.
– Отбивать, – сказал другой.
– Что – отбивную? – сострил третий.
– Отходную, – зло пошутил четвертый.
– Гонг не проблема, – сказал старший, – завтра будет.
Назавтра была репетиция.
– Где гонг? – спросил Райкин.
– Какой гонг?
– Отбивать миниатюры.
– Где гонг?.. – пошло по цепочке.
– А разве не принесли? – спросил главный. – Гонг будет. – И он показал рядом стоявшему подчиненному кулак.
И когда мы пришли вечером на концерт, за кулисами висел огромный гонг, видимо одолженный с военного крейсера. Все показывали на него Аркадию Исааковичу и цокали языком:
– А?! Какой гонг! А?!
– В Армении вы такого не найдете!
Когда все ушли, Райкин всполошился:
– А где колотушка? Чем бить по гонгу?
Собрался консилиум.
– Где колотушка? – спросил главный.
– Какая?
– Которой бьют по гонгу.
– Нам не сказали.
– А что, нужно было сказать?!
– Конечно!
– Так вот я вам говорю!
– Уже поздно, через двадцать минут начало.
– Тогда встань сам и стучи своей башкой, и чтоб все слышали звон!
– Хорошо!
И когда закончилась первая миниатюра, он так шарахнул кулаком по гонгу, что тот сорвался и дал такой звон, после которого Райкин сказал:
– Все! Больше не надо, вы отбили сразу все миниатюры!
Это были прекрасные вечера. Райкин вне театра был совершенно другим. И мы могли с ним общаться в другой обстановке.
Миша получил в Ленинграде однокомнатную квартиру на улице Генерала Симоняна, а я восемнадцатиметровую комнату в двухкомнатной – в этом же доме. Мой сосед Кавно был в театре радиоинженером. Ночами он курил и слушал (правда, тихо) свои пластинки, которых у него была масса. Витя, женатый и с ребенком, ждал двух– или трехкомнатную. В это время (а может, и раньше – точно не помню) Райкин уволил группу пантомимы Гри-Гура за самовольные выступления и пригрозил нам: «Вас ждет та же участь!» Мы притихли.
Миша был уволен за самовольное чтение своих текстов во Дворце искусств и еще где-то. Готовилась акция и против нас. Но тут подоспела поездка в Польшу. Нас взяли скрепя сердце.
В Варшаве у нас была уйма денег: во-первых, зарплата, во-вторых, там можно было менять сколько хочешь. К нам примкнул Ваня Дыховичный, молодой красавец, с кучей денег и жаждой приключений. Мы жили в огромной гостинице – одной из сталинских высоток. Напротив располагался Дом актера, куда мы часто ходили, общались, выпивали, а в основном угощали польских артисток.
Гастроли проходили успешно, наш «Авас» пользовался успехом, особенно у женщин, с которыми мы водились открыто, – это жутко раздражало весь театр, и поползли шепотки. Мы выступали еще в нескольких городах, были встречи с актерами, которые заканчивались уходом с компанией и паненками. Раздражение нарастало, и на обратном пути нас вызвал в купе директор и заявил: «Подавайте заявление об уходе!» – «Как, сейчас?» – «По приезде». Мы были ошарашены: ждали всего, но не этого. А квартиру Вите?!
Вернулись в Ленинград, продолжаем работать. Тишина, нас не увольняют, но и квартиру Вите не дают. Я психую: надо уходить!
В это время нас приглашают в Одессу, мы строим планы. Райкин не обращает на нас внимания, и это признак бури.
И вот в театре вывесили квартирный список: Вите была предложена двадцатиметровая комната в коммуналке. Он обиделся. И одним пальцем на Мишиной машинке отстучал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление это вызвало бурю негодования и было подписано моментально.
А что дальше? А дальше надо было запутать всех, скрыть, куда мы уходим: а вдруг из театра пошлют «телегу» и все там перепугаются? Мы начали игру: просили друзей из Свердловска, Донецка, Риги, и они на театр слали приглашение работать в местном театре миниатюр. Туда немедленно шли запросы. И когда, уже уходя, мы сообщили, что едем в Одессу, нам никто не поверил. Это нам и было нужно.
Своим курсом
Я тогда учился в ГИТИСе на четвертом курсе. Приезжаю в Москву – и вижу приказ об отчислении. За что? За уход из театра, из которого никто по своей воле не уходил. Мы с ректором идем в министерство к юристу, и тот доказывает, что это незаконно. И меня восстановили в институте, который я закончил довольно успешно – с одной тройкой по истории КПСС. А Витя этот же институт закончил с красным дипломом.
В Одессе я получил двухкомнатную квартиру в хрущевке, но в приличном месте, у Вити квартира была, а Миша жил то в Ленинграде, то в Одессе у мамы. И начался новый период в нашей жизни – одесский, длиною в восемь лет.
Вначале задумали гала-концерт с большим оркестром и театром миниатюр. У нас уже было шесть актеров, и мы потихоньку репетировали, а когда убедились, что несовместимы с оркестром, отделились и стали репетировать свою программу.
По предложению не помню чьему был приглашен из Москвы режиссер, который славился тем, что все его спектакли снимали, и он этим страшно гордился. Он приехал к нам ставить спектакль – и в Одессе грянула холера. И московский гость драпанул из города. Мы приходим на репетицию, звоним режиссеру домой, а нам сообщают, что он в Москве…
И мы стали репетировать сами. Жванецкий был в ударе, приносил все новые тексты, и наконец появился спектакль-концерт «Как пройти на Дерибасовскую». Одно название уже собирало публику.
Наш театр числился при филармонии, в нем было десять человек, шесть из них актеры. Актеры наши были талантливы, молоды, играли с азартом.
Это был семидесятый год. Слухи о том, что в Одессе холера и трупы валяются на улицах, были сильно преувеличены. Но когда мы слепили программу и зашла речь о гастролях, то обком партии ее даже не принимал, а срочно отправил нас в обсервацию на судно. У нас там брали анализы, и вокруг стоял хохот и веселье. А после карантина нас вызвали в обком и дали добро на гастроли: мол, Одесса жива, Одесса смеется.
Директор филармонии связался со своим другом в Ростове, и нас пригласили в Ростовскую область на тридцать концертов. Под дулами автоматов (Одесса охранялась) мы сели в самолет и прилетели в Ростов. Нас возили по области: Шолоховка, Шахты, села… Администратор ростовской филармонии вывешивал афиши «Как пройти на Дерибасовскую» и дописывал: «Эти артисты работали с Райкиным». Залы были пусты. Впрочем, какие залы – красные уголки, заводы, сельпо… Жванецкому кричали: «Выучи текст!» Мы объясняли, что он автор наш, Райкина, – без толку. А программа была шлягерная: «Авас», «Экзамен», «Дедушка», «Города», «Полотенце»… «Да-а, – говорил администратор, – вы не поете и не танцуете. Вот на лилипутов идут». Но мы стоили – весь коллектив – двести восемьдесят рублей. Даром!
К концу поездки пришел вызов на конкурс артистов эстрады в Москве. Мы подавали заявку просто так, наобум, – и вот вызов пришел, и мы, не доиграв в Ростове два концерта, сделали перерыв и вылетели в Москву с делегацией одесской филармонии.
Давно мы не были в Москве. Миша и Витя разбежались кто куда, а я остался волноваться, повторять специально написанный Жванецким текст – позитивный, для комиссии, под названием «Не гаснуть!» (мы его называли «Не тухнуть!»).
Конкурс начинался с девяти утра в ЦДРИ. Без четверти девять – нет ни Миши, ни Вити. Бегает секретарша, спрашивает, что мы будем играть, а я ничего не могу ответить: мы всегда решали, что играть, в последний момент. Появляется спокойный, как всегда, Витя, а за ним возбужденный Миша. Мы стоим и не знаем, что играть. Наконец объявляют наши фамилии, мы выходим, раздаются аплодисменты, хотя аплодировать на конкурсе запрещается. В жюри народные артисты, работники аппарата. Председателем жюри должен был быть Райкин, но, на наше счастье, в последний момент он отказался (у него были очередные неприятности с министром культуры), и председателем стал Любезнов.
Успех был ошеломляющий. В первом туре мы исполняли «Авас», «Везучий-невезучий» и монолог «Дедушка». Члены жюри сами аплодировали, и мы спокойно прошли во второй тур. Во втором туре история повторилась, мы играли свои шлягеры и были пропущены в третий тур – к безумной радости одесских боссов. В третьем туре жюри нас попросило сыграть вещи из первого, так как многие специально пришли нас посмотреть – в театральных кругах нас знали по театру Райкина. После второго тура сошли Хазанов и Высоковский, и в третьем туре мы оказались вне конкуренции. К тому же на конкурсе разрешалось играть одно и то же во всех турах, а мы исполняли разные вещи, так как у нас уже составился репертуар на сольный концерт.
Мы получили вторую премию (победителю первое место досталось благодаря ленинской тематике, и это все понимали), а еще двести рублей, которые проели и пропили с одесситами в «Арагви».
Через несколько дней состоялся заключительный концерт, который показывали по телевизору. Мы опять играли с Витей «Авас», «Везучий-невезучий» и «Дедушку». Успех был грандиозный. Думаю, что Райкин нас простил… И мы уехали в Ростов доигрывать два концерта, на которых уже была конная милиция (вот что значит телетрансляция!).
После конкурса – обвал, приглашения на гастроли. Практически слава – со всеми ее издержками и казусами.
Помню замечательный эпизод, случившийся на гастролях в Ленинграде. Мы выступали в ДК Дзержинского. Я выхожу:
– Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, зовут Авас, а доцент тупой, вызывает грузина к доске: «Как ваша фамилия?» – «Горидзе». – «А зовут?» – «Авас». – «Меня – Николай Степанович, а вас?» – «Авас»…
Публика хохочет. Витя соображает. Вдруг по центру зала идет пьяный, подходит к рампе. Обращается к Вите:
– Ты чего, не понимаешь? Что ты молчишь?! Он тебе уже четыре раза рассказал! Все поняли, а ты не понял!..
Публика думает, что вышел третий актер! Я не знаю, что делать. Говорю:
– Товарищ, давайте на сцену, может быть, вы лучше меня расскажете!
Он:
– Конечно, отойди, не мешай! – И Вите: – Ну, доцент тупой, а грузин умный. Он спрашивает: «Как зовут?» – «Авас». – «А я доцент! Понял?»
Витя:
– Кто тупой?
Он:
– Доцент! И его спрашивает!
Витя:
– Кого?
– Грузина!
– Какого грузина?
Публика хохочет. Витя крепится.
– Счас как дам! – замахивается наш третий. – Сразу поймешь, кто грузин!..
…После конкурса мы очутились в Крыму. Администрация нас встретила прохладно (видно, не смотрели телевизор). Первый концерт был в Каче – это база военных моряков. Зал жуткий, микрофон жуткий, свет в зале периодически гаснет, публика полупьяная. После концерта – а играли мы «Как пройти на Дерибасовскую» – директор ялтинской филармонии в сильном подпитии спросил: «Ну и как же пройти на Дерибасовскую?» Я пошутил: «А вы идите, и она вас там пересечет». – «Да? – икнул директор. – Чтобы завтра вашей ноги в Крыму не было!» И опять икнул. К нему подскочил администратор из Севастополя Гриша и прокричал: «Я их беру на десять концертов! Я отвечаю за успех!» И он уговорил директора нас не выгонять, и мы успешно выступили в Севастополе, куда потом неоднократно приезжали, как и в Ялту, и всегда в Крыму собирали аншлаги, а директора того мы больше не видели.
Так начиналась наша долгая самостоятельная работа на эстраде…
Я лечу в самолете один
Лететь мне шестнадцать часов, и предыдущую ночь я не спал. Я вспоминал нашу жизнь с Витей Ильченко, моим другом. И если бы я смог записать все, что вспомнил…
Витя Ильченко ушел от нас в 1992 году, в пятьдесят пять лет. От нас всех – от семьи, от Миши Жванецкого, от меня, от друзей, от театра, от зрителей, которые тридцать лет смотрели на нас на эстраде, на телеэкране, в театре… Тридцать лет мы были вместе почти каждый день. А сейчас я лечу в самолете – один. Сижу в гримуборной – один. Играю – один. И вспоминаю, как это было…
Когда Витя Ильченко и Миша Жванецкий выступали в своем институте инженеров морского флота, я и не подозревал, что судьба сведет меня с ними на всю жизнь и что эти два человека сыграют в моей биографии главную и незаменимую роль…
В шестьдесят первом году я был приглашен в класс «А» – в знаменитый одесский городской театр миниатюр «Парнас-2», возглавляемый Жванецким и Ильченко. Но с Витей я тогда не встретился. Уже работая у Райкина, я приехал в отпуск в Одессу, пришел в «Парнас», посмотрел новый спектакль и, набравшись нахальства, предложил Миле Гвоздиковой показаться Аркадию Исааковичу.
Приступаю к самому главному – к знакомству с Витей Ильченко. А все было просто. Я шел на пляж и на Ланжероновской угол Пушкинской встретил Витю с сыном Сережей – они направлялись на бульвар. Состоялся такой разговор:
– Привет! – сказал Витя.
– Привет! – ответил я.
– Я слышал, ты работаешь у Райкина?
– Да.
– Ну и как?
– Пока ничего! Справляюсь.
– Я слышал, ты читаешь Мишин монолог в спектакле?
– Да.
– Ну и как?
– Ничего, смеются…
В это время Витин сын Сережа укусил меня за ногу.
– Ну и как к тебе относятся в театре?
– Неплохо… Витя, а ты где?
– Я в пароходстве. Начальник отдела испытания новой техники.
– Ого! – И вдруг меня осенило. – Витя, а ты не хотел бы показаться Райкину?!
Витя долго молчал. Он всегда вначале думал-соображал, потом отвечал.
– Я не готов… А впрочем, давай попробую.
Через несколько дней Витя стоял в санатории Чкалова перед Райкиным и показывал толпу прохожих.
Этот день нас связал навсегда. Судьба? Конечно. Я ведь мог пойти на пляж по другой улице, Витя – сидеть в это время дома и читать журнал «Наука и жизнь» (он читал его всю жизнь). Райкин мог бы отдыхать в Риге, а не в Одессе…
Да, я верю в судьбу, теперь верю. Она подарила мне талантливого друга, партнера, настоящего русского интеллигента. Он окончил с красным дипломом два института – инженеров морского флота и ГИТИС, у него была феноменальная память и очень добрая и ранимая душа…
В Ленинграде Витю встретили холодно, Милу – настороженно. Видимо, актеры считали, что три одессита – это уже чересчур.
Мы снимали с Витей дешевые углы и были счастливы. Мы впитывали в себя аромат Ленинграда и репетировали спектакль «Волшебники живут рядом». Витя входил в работу медленно, как всегда вдумчиво, не торопясь, вызывая насмешливые взгляды партнеров. Но когда Райкин поручил Вите и Наташе Соловьевой танцевать классический дуэт на музыку Глюка… Бог ты мой! Наташа была балериной, а Витя вообще танцевал первый раз в жизни! Да еще под Глюка… Витя был очень худой, но серьезный вид и туника придавали ему угловатую грациозность. Смотреть этот номер приходили все! И Витя своей смелостью заслужил уважение актеров и самого Райкина.
Тут и началась наша настоящая дружба. Мы ходили вместе в театры, завтракали в кафе «Ленинград» на Невском, обедали в пирожковой на углу Желябова. А вечером стояли за кулисами и впитывали в себя игру великого артиста.
Так прошел год. А в шестьдесят четвертом году в Ленинград приехал Миша, оставив работу сменного механика в одесском порту, и нам стало веселее. Во всех отношениях.
Миша любил поесть, Витя умел готовить, у меня в запасе всегда было рублей сто. Я их спасал от голодной смерти. Миша начал писать, а мы с Витей – репетировать. У нас стал накапливаться свой репертуар. Миша писал неистово, но Райкин складывал его тексты в сундук. И то, что не брал Райкин, брали мы с Витей – Сухим. Да, нас все так и называли – Сухой, Малой и Писатель. Друзья говорили:
– А где Писатель?
– Пошел к Сухому.
– А где Малой?
– А он уже там.
У нас появился первый шлягер – «Авас». Мы ездили на гастроли в Москву, жили в роскоши. Гостиница «Пекин»! Ресторан ВТО! Знакомство с актерами и театрами – Таганкой, «Современником», с Эфросом – его театр мы любили безумно, выступления на капустниках… Вы заметили, я все время говорю «мы»? Да, везде мы были вместе с Витей. И если он появлялся один, спрашивали: «Где Рома?» И наоборот. И когда кто-то видел одного из наших детей, то говорил: «Это ребенок Карцева и Ильченко».
Наши фамилии слились в одну, наши мысли совпадали, наши взгляды не расходились. И хотя мы были совершенно разными людьми – по темпераменту, по уровню образования, по отношению к некоторым сторонам жизни, к женщинам, выпивке и даже по отношению к общим друзьям, – нас объединяло главное: любовь к театру, к нашему жанру. И еще – уважение друг к другу. Я регулярно скандалил с режиссерами, я каждый день предлагал новые варианты роли, ставил в тупик постановщика спектакля и партнеров, я все время импровизировал не туда! И Витя все это терпел…
Он был очень умен, наш Витя. Когда мы с Мишей танцевали с барышнями, он сидел в углу и читал. Он знал Ленинград как свои пять пальцев. Он рассказывал таксистам в Москве, куда ехать, как доехать ближайшим путем. Он шпарил наизусть Ильфа и Петрова главами! Он знал все типы самолетов. Не могу не вспомнить: на гастролях в московском Театре эстрады мы с Витей в перерыве между номерами обычно сидели и смотрели из окон на Москву-реку. Как-то раз Витя своим орлиным взором увидел кружащий над Красной площадью самолетик и, в отличие от меня, жутко удивился и даже возмутился: «Как он сюда попал?» Оказалось, это был Руст – немец, перелетевший все границы, которые у нас на замке, и приземлившийся на Красной площади.
И если бы Витя не стал артистом-профессионалом, он мог бы стать министром, врачом, режиссером, хирургом, поваром, психологом, шахматистом…
Постепенно репертуар наш рос, и мы уже могли играть час и немного работать вне театра. Вите нужно было кормить семью, нужно было спасать от голода Жванецкого, который писал беспрерывно, но безвозмездно. И тут спасение – поездка на гастроли в Англию и Венгрию. Получали мизер, но валютой!..