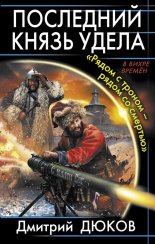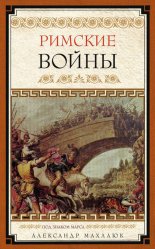Инженер его высочества Величко Андрей

— Бронированному — разумеется. А вот эсминцу или транспорту не поздоровится. И потом, сейчас же атаковали только пять самолетов. Стоит самолет пятнадцать тысяч рублей, то есть вместо одного броненосца можно построить тысячу «Святогоров». Вы только представьте себе эту картину!
Не знаю, что представил себе каперанг, а у меня перед глазами встало фантастическое зрелище. С унылым тарахтеньем, затмевая горизонт, крылом к крылу по небу ползут тысячи этажерок. Вот первые из них догнали несчастный броненосец… расчеты «Гатлингов»[4] сходят с ума, потому что аэропланы пилотируют сплошь женщины и дети, но промахнуться все равно невозможно. Сбитые сотнями падают на палубу, загромождая ее досками и окровавленными останками. Экипаж шизеет. Наконец под грузом валящегося сверху барахла корабль переворачивается…
Каперанг начал что-то быстро писать в своем блокноте.
Потом я посадил одного штабс-капитана пассажиром и попытался провести с ним демонстрацию разведывательного полета. Поначалу не вышло — сразу после отрыва от земли штабс побледнел, потом позеленел и начал методично заблевывать центроплан. Пришлось срочно садиться. Его место занял какой-то морской офицер с двумя звездочками. Этот держался хорошо, но по приземлении единственное «разведанное» им звучало так: «Здорово!» Он даже не мог сказать, куда мы летали.
По окончании показательных полетов комиссия была приглашена в Гошину резиденцию для дальнейшего обсуждения. Причем состоялось там именно оно, а вовсе не буйная пьянка в бане, как могли бы подумать служившие в Советской армии. Вместо того чтоб лапать горничных или, на худой конец, просто уснуть мордой в салате, господа офицеры чинно интересовались дальностью, скоростью и высотой полетов, максимальной грузоподъемностью, требованиями к аэродрому. Гоша поднял вопрос о подготовке наблюдателей. Лучше, если ими станут офицеры тех родов войск, для которых будет вестись разведка, а просто так кого попало в самолет сажать не стоит, комиссия в этом убедилась. Он добавил, что мы готовы открыть при нашей школе дополнительное отделение подготовки летнабов, но нужны предварительные заявки от армии и флота. Флотские поинтересовались возможностью взлета с корабля для ведения разведки. Я сказал, что взлететь не проблема, а вот для посадки нужна площадка не менее пятидесяти метров в длину и десяти в ширину. Сможете организовать такую у себя на пароходе — будет вам авиаразведка. Флотские записали.
— По-моему, это провал, — посетовал Гоша после отъезда комиссии.
— А по-моему, наоборот. Те, кто приезжал, ничего не решают. А в отчете они напишут, что аэроплан способен поднять бомбу весом в три пуда и сбросить ее на расстоянии до пятидесяти верст от места взлета, попав при этом в цель размером с большой сарай. И еще там будет сказано про возможность разведки с воздуха. Не думаю, что они станут заострять внимание на том, как опозорились их офицеры. А нам пока больше ничего и не надо.
— Думаешь, кто-то из высшего начальства заинтересуется?
— Вряд ли. Просто будет первая официальная бумага. Какой может быть воздушный флот без бумаг?
Лето было в разгаре, когда началась подготовка к большому авиационному турне по Европе. Нам пришли предложения из Германии, Франции и Англии, мы решили в таком порядке эти страны и посещать. Поначалу у Гоши с Машей были дикие идеи проделать весь маршрут по воздуху, но я решительно пресек это безобразие.
— Самолеты, может, и долетят. Но Гоше в такие полеты еще рано, только нам с Машей. Про тебя, племянница, я не знаю, а у меня пятая точка не казенная! Пятьдесят часов летного времени на этих досках — перебор. Значит, готовим поезд. Именно поезд, Гоша, не хмыкай, в плацкарте на верхней полке я не поеду. Едем в Берлин. Там выступаем, потом сворачиваемся и опять же поездом, как белые люди, двигаемся в Париж. Пока мы красуемся во французской столице, две аэродромные команды выезжают в Кале и в Лондон, вот туда мы полетим по воздуху. До Кале мы — это мы с Машей, а Гоша по земле. Из Кале летим втроем, молодежь на одном самолете, солидные люди на другом. Из Лондона пароходом в Питер, еще там поколбасимся, а то в столице полетов не видели, непорядок.
— А из Питера я все-таки в Георгиевск на самолете полечу! — заявила племянница. — С промежуточной посадкой в Бологом, это которое дыра дырой.
Гоша, видимо, не слышал анекдота про дыру, потому как несколько удивленно посмотрел на Машу.
— Да, вот еще что, — продолжил я. — Маша, свои тряпки готовь заранее, я тебя на чемоданах неделю ждать не буду. Охрана, блин, теперь это мой геморрой. Гош, а ты, пожалуйста, составь список своих августейших и прочих ясновельможных родственников, которых никак нельзя не навестить по дороге. Остальным — фигу! И еще небось некоторым тут паспорта понадобятся. Это как, тоже высочество на себя возьмет или пусть шестой отдел шевелится?
— Высочеству нетрудно, — улыбнулся Гоша. — Все равно перед отъездом придется всем в Москву заскочить, вон сколько лекций нечитаных, там и сделаем.
Ну вот, три дня в Москве позади, мы едем в Европу. Я сижу в своем купе, которое раза в полтора больше привычного мне, в основном смотрю в окно, а когда надоедает, лениво почитываю фантастику в ноутбуке. Отдыхаю от предотъездной беготни, имею право. Пока Гоша с Машей болтались по приемам и театрам, я прочитал две лекции в Русском техническом обществе и одну — у Жуковского. Потом, даже не пообедав, дал несколько интервью и подобрал место для будущего аэроклуба (ясное дело, Ходынку), где мы собирались катать по небу и учить летать богатый народ за деньги, а среди бедного отбирать способных и отправлять в Георгиевск. Хорошо еще, что я квадр с собой взял, а то на извозчиках и не успел бы никуда.
Негромкий стук в дверь оторвал меня от размышлений. Я открыл, и вежливо поклонившийся халдей сообщил, что господина Найденова приглашают на ужин. Блин, и вот чего же мне раньше так не ездилось?
Глава 10
Вагон, в котором мы находились, состоял из четырех купе и большого проходного помещения, его я считал столовой, а Маша гостиной. Возможно, официально оно называлось как-то еще, но нас это не интересовало. Когда я пришел, там за накрытым столом уже сидела молодежь. Причем сервирован этот самый стол был весьма даже небедно, попросту говоря, ломился от блюд и бутылок. Учитывая скромность в еде Гоши, паническую боязнь разжиреть Маши и полную неразборчивость в кулинарных вопросах меня, это было странно.
— Что-нибудь празднуем? — спросил я, присаживаясь.
— Говорила же, что не помнит! — фыркнула Маша.
Я начал судорожно соображать. День рождения у меня в январе, у Маши в феврале, у Гоши, кажется, где-то в конце апреля, во всяком случае, именно тогда массовым порядком приходили поздравительные письма. Значит, еще какая-то дата… так, а когда это я на Зекарском шоссе во сне на чужом мотоцикле рулил, уж не год ли назад? Очень на то похоже.
— Сегодня исполнился ровно год с того момента, как я не умер, — подтвердил Гоша. — Тебе, конечно, никто не отказывает в праве на собственное мнение по этому вопросу, но мы с Машей считаем, что тут есть повод слегка попраздновать.
— Мне мама рассказывала, что во времена дядиной молодости среди байкеров «слегка» означало в пределах поллитры на рыло, — сообщила Маша. — Если больше, это было уже «средне».
— Во-первых, тогда были не байкеры, а рокеры, — уточнил я, — во-вторых, твоя мама всего раз была с нами на шашлыках и то выпала в осадок с единственного стакана, а в-третьих, сейчас у меня возраст, печень и нажитое с годами отвращение к пьянству. Но слегка поддержать ваш банкет я не против.
— Тогда за организатора и вдохновителя наших побед — дядю Жору! — провозгласила Маша.
— Вот только их пока немного и какие-то они мелкие… — вздохнул Гоша.
— А по-моему, нормальные для года работы. Потом покрупнеют. Дядь Жора, а ты что молчишь?
— Селедку ем, не видишь?
— Мне кажется, что это форель, — заметил Гоша.
— Да? Вот и я тоже думаю, с чего бы это селедка так покраснела. А насчет побед — так главная, я считаю, уже одержана. Куда тут хвост деть? И где пепельница?
— Дядя, а может, не курить при Гоше?
— Да здоров я давно! Жора, продолжай.
— Так я и говорю, что главная победа — вот она, в честь нее мы сейчас и запиваем селедку шампанским. Кислятина, между прочим, я думал, тут лучше будет. Племянница, передай мне вон ту конечность, будь добра. А это желтое — хрен? Так вот я говорю к тому, что ты, Гоша, жив. И вполне даже здоров, как только что было сказано. И есть все основания полагать, что раньше старости ты не помрешь, сам собой, по крайней мере. Это и есть победа, без всяких шуток. Потому что в самом пессимистическом варианте, если все пойдет как шло, в семнадцатом году Николай отречется не в пользу Михаила, а в твою.
— Что в его, что в мою — отречение все равно будет юридически ничтожным, при живом-то Алексее. Или…
— Не «или». Пусть живет, я что, против? А вот юридическая ничтожность — это будет в семнадцатом вещь совсем не абсолютная. Думаешь, не смог бы Михаил власть взять, если бы захотел? И ты сможешь. Главное, на шестом отделе не экономить. А желающих сыграть на «ничтожности» можно будет заранее вычислить. И слегка… того. Превентивно. Так что осталось нам еще совсем немного поработать, и обязательная программа, я считаю, будет выполнена. Так что давайте за шестой отдел!
— Кстати, а почему именно такой номер? — поинтересовался Гоша.
— Потому что Штирлиц в шестом отделе работал. А вообще-то мне как-то больше импонирует называть серьезные вещи несерьезными именами, и наоборот. Например, этажерка повышенной убогости называется «Святогор». Первый боевой самолет, который уже начал строиться — «Тузик». Самые серьезные люди в СБ — «шестерки».
— Не обидятся?
— Дополнительный тест на профпригодность — если обидятся, там таких дураков не надо.
— Вот что меня в связи с этим интересует, — задумчиво произнес Гоша, — скоро эсеры начнут массовый отстрел высших и средних чиновников. Как-нибудь предотвращать мы это будем?
От возмущения я чуть не промахнулся грибом мимо рта.
— Чтобы предотвращать, нужно сначала понять, что происходит! Ты же сам видел, многие считают — этот процесс инспирирован охранкой. Вот и надо разобраться, кем именно. А то допредотвращаемся до того, что Каляев вместо дяди Сережи тебя бомбой приголубит. И вообще, я уже наелся, пить больше не хочу, так что спокойной ночи.
Я не стал им говорить, что считаю внедрение своего человека в охранку важнейшей задачей СБ. И если окажется, что она таки замешана в грядущей свистопляске, то действовать придется мне. Причем не в семнадцатом году, а гораздо раньше, и не намеками, а прямыми приказами. Не забыть в Инете про современные снайперские прицелы почитать, напомнил я себе. И насчет радиоактивных изотопов тоже надо уточнить — Валерка из Института кристаллографии с ними еще работает или как? Да и чем Ющенко травили, тоже интересно. Если, конечно, травили… Непочатый край работы. Я вздохнул, опускаясь на диван в своем купе.
Утром поезд подъехал к границе, и мы избавились от своих ноутбуков, сунув их в портал, а то мало ли: проникнет еще какой-нибудь любопытствующий куда не надо.
Программа в Берлине была сокращенная, из-за того что нам намекнули на нежелательность демонстрации госпожой Островской новых веяний женской моды. В отместку мы сократили время выступления до минимума.
Только Гоша запустил мотор, как мне подали записку. Я сунул ее переводчику и с удивлением услышал:
— Граф Цеппелин просит господина Найденова принять его в любое удобное ему время…
— Что? Сам Цеппелин здесь?! Ваше высочество, глушите мотор, бюргеры подождут. Что? Какой еще кайзер? Тут Цеппелина на аэродром не пускают! Пошли встречать.
— Что случилось? — забеспокоился один из местных организаторов.
— Вашего великого воздухоплавателя, графа Цеппелина, не пускают на аэродром! Я просто не могу лететь, не извинившись перед ним за это. И его высочество тоже не может, видите, вылезает из самолета.
Через пять минут недоразумение благополучно разрешилось, и вскоре мы с высочеством имели честь лицезреть Фердинанда фон Цеппелина. Граф оказался подтянутым господином чуть постарше меня, с роскошными усами и не менее впечатляющей лысиной. «Нормально, он совсем не запыхался, хотя по аэродрому практически бежал», — подумал я и протянул руку:
— Приветствую вас, коллега. Ваше высочество, позвольте представить вам его сиятельство графа Фердинанда фон Цеппелина. Граф, а я — Найденов.
Рядом забубнил переводчик.
— Да, граф, вы случайно не говорите по-английски? Замечательно! У меня к вам предложение. После полетов мы безусловно с вами пообщаемся, но сейчас публика ждет и скоро начнет волноваться. Не хотите составить мне компанию в воздухе? Мой аэроплан двухместный.
С таким пассажиром я наплевал на наши первоначальные планы — летать невысоко и недалеко и сжег над Берлином почти полный бак. Кстати, я ожидал, что сверху немецкие пейзажи будут поражать строго прямоугольной геометрией, но фиг вам, картина с пятисот метров не сильно отличалась от российской.
Вечером Гоша с Машей отправились на прием, а я остался беседовать с графом.
— Я просто поражен управляемостью вашего аэроплана! — сразу сообщил он мне. Да, помню, я тоже поначалу был от нее в офигении, но сейчас уже привык.
— Ну от огромного корабля никто и не ждет такой вертлявости, как от маленькой лодки, — утешил его я. Еще бы, его первый дирижабль пару недель назад разбился именно по причине полной неуправляемости. — И мне кажется, что моторы вашего воздушного судна были слишком слабы. Если вы будете строить новое, позвольте подарить вам пару моторов от моих самолетов — сорок лошадиных сил при весе в сорок килограмм.
— Подарить? — поразился граф.
— Конечно! — подтвердил я. — И если соберетесь организовывать акционерное общество для постройки дирижаблей, не откажетесь принять пайщиками нас с его высочеством?
Моторов на такое святое дело, как развитие дирижаблестроения в Германии, мне было не жалко. Да и вражеские разведки что-то совсем мышей не ловят, мы уже три месяца летаем, а у нас до сих пор ни одного самого захудалого чертежа не сперли.
В Париже прямо на вокзале нас ждала толпа зевак, которая все увеличивалась, и наш проезд к парку Сен-Клод сильно напомнил мне встречи космонавтов времен моей молодости. В самом парке царил неописуемый бардак. Наша охрана уже тянулась к кобурам, потому что несколько ударов по мордам особо настойчивых произвели впечатление только на них, а остальные продолжали лезть напролом — как в горбачевские времена на ларек с пивом. Потом какая-то сволочь скоммуниздила у меня сигареты, и, как апофеоз всему, прилетел Сантос-Дюмон на своем дирижабле. Увидев этот садящийся чуть ли не на меня пузырь с водородом, я с трудом поборол искушение немедленно завести мотор и улететь куда-нибудь подальше, пока тут все не взорвалось на фиг. Удержало меня только то, что деревянный воздушный винт не обладал достаточной прочностью и наверняка пострадал бы в процессе шинкования встречных зевак.
Наконец полиции удалось загнать публику в отведенные ей места, дирижабль оттащили в сторону и надежно привязали. Можно было начинать. Естественно, Сантос-Дюмона пригласили слетать пассажиром, и он уже начал отвешивать комплименты Маше, говоря, что с такой прекрасной пилотессой он готов отправиться куда угодно. Пришлось отозвать его в сторонку и шепотом предупредить, чтобы он еще в воздухе прыгал с самолета, потому как сразу по приземлении Гоша прикажет его четвертовать. Находящийся поблизости казак вовремя сделал зверскую морду лица, и притихший бразилец полез в мой аэроплан.
Памятуя о том, что предстоит сделать Сантос-Дюмону через год с небольшим (а именно: облететь вокруг творений Эйфеля), я направил самолет прямо к Эйфелевой башне и описал два круга. По приземлении пассажир задумчиво сказал:
— Теперь мне абсолютно ясно, что будущее принадлежит аппаратам тяжелее воздуха.
Далее по накатанной схеме я и ему сосватал пару моторов, но на сей раз не даром, а по семь тысяч франков.
Следующим утром мы с Машей вылетели в Кале. От пятичасового полета у меня сначала заболела спина, потом седалище, а потом и продуваемые ветром колени, которые я не догадался чем-нибудь обмотать. Заранее приехавшая аэродромная команда занялась самолетами, а я с трудом доковылял до выделенного для отдыха домика и заявил, что ждать Гошу буду исключительно в горизонтальном положении.
Два дня мы занимались техобслуживанием. Заменили один из движков, потому что к концу полета он начал подозрительно греметь. Проверили все, что можно, по три раза, совершили несколько подлетов. В перерывах я напомнил Маше, что Новая Зеландия — это британская колония и вполне могут встретиться люди, знакомые с тамошними реалиями. Поэтому при любом проявлении интереса переводить разговор… ну, скажем, на Монголию, где ты якобы недавно была. Хоть что-нибудь похожее на монгольский язык ты знаешь?
— Елда, кирдык, тугрик… — не очень уверенно перечислила Маша. — И еще я умею посылать по-чувашски.
— Это пожалуйста, там, в случае чего, и на великом и могучем можно.
Наконец все было готово. Два паровых катера со зрителями и, на всякий случай, спасателями заняли свои места в Ла-Манше. Я обмотал колени шарфами, посмотрел, как взлетает Маша с Гошей за спиной, и дал команду запускать движок — пора и мне лететь.
Над Ла-Маншем была сильная турбулентность, этажерки нещадно болтало, но Маша пилотировала безукоризненно, и я, успокоившись, начал глазеть по сторонам — еще ни разу мне не доводилось летать над морем. Сразу обратил внимание, что корабли на воде гораздо заметнее, чем деревянные мишени на траве, по крайней мере днем. Потом Ла-Манш кончился, болтанка стихла, и через два часа мы наконец доползли до родного города Шерлока Холмса. Чтобы не затруднять аэродромную команду поиском места, мы сразу направили ее в Хитроу, и теперь ориентиром нам служила видимая издалека белая буква «Т» на зеленом поле. Зрители уже присутствовали, но в умеренном количестве и только в одном углу будущего международного аэропорта.
Мы сели. В отличие от Парижа тут все было чинно, к самолетам подошли только встречающие и поздравили с прибытием на землю Англии. Потом запустили репортеров, и Гоша выдал им заранее заготовленную фразу о том, что Бог отделил Англию от материка проливом, а госпожа Островская с господином Найденовым соединили их своими аэропланами. Репортеры записали изречение и начали задавать вопросы. Через некоторое время их сменили офицеры — интересовались возможностью разведки с воздуха. Ага, смекнул я, допекли вас бурские засады! Недолго думая, пригласил спрашивающего самому оценить возможности аэроплана. Офицер перенес полет неплохо и после посадки даже сумел приблизительно описать наш маршрут. При прощании я сказал, что готов рассмотреть коммерческие предложения о продаже аэропланов, если таковые заинтересуют армию ее величества. Офицер спросил о цене. Я начал соображать. Значит, себестоимость такой игрушки около трех тысяч рублей. Комиссии Главного штаба я озвучил цифру в пятнадцать тысяч — ну должна же быть какая-то, хоть символическая, прибыль! А тут она должна стать даже не символической… сто тысяч запросить? Не купят, пусть буров с лошадей по закоулкам ищут. Или не наглеть? И что Гоша молчит, он же у нас финансист?! А, ладно.
— Восемнадцать тысяч фунтов за штуку[5].
Судя по виду офицера, загнул я крепко. Однако тот быстро справился с собой и сказал, что передаст мои предложения по инстанции. Гоша, глядя на мою коммерцию, тихо веселился.
— Сам-то чего не продаешь свои этажерки? — обиженно спросил я.
— «Ноблесс облидж» — слышал такие слова? — осведомилось его высочество. — Это дома я могу творить что хочу, а здесь нельзя ронять авторитет русского принца низким торгашеством. И что ты жалуешься — у тебя же замечательно получается!
Три дня в Лондоне прошли буднично. Я поискал Бейкер-стрит, но не нашел, а потом в основном спал — единственный англичанин, с которым я хотел бы встретиться, Конан Дойль, сейчас был в Южной Африке. Гоша с Машей побывали на паре приемов — не королевских, в связи с болезнью Виктории их не было. А в общем, всем уже хотелось домой, в Россию.
Глава 11
Р-р-р-хлоп-хлоп-чих… Несчастный мотор наконец заглох. Последние два часа он, правда, толком и не работал, а мучился, но испытание надо было довести до конца. Мы с Густавом подошли к закрепленному на стенде испытуемому.
— Шестьдесят два часа! — с гордостью сказал Густав. — И еще четыре с потерей мощности. Смело можно вписывать в регламент пятьдесят часов до капремонта.
— Поздравляю! Думаю, теперь счетверенный вариант ждать осталось недолго, — предположил я.
Наш новый мотор представлял собой, собственно, два старых друг над другом с редуктором между ними, его называли «двойкой». Кроме того, был еще вариант, когда те же два спаривались последовательно, цилиндрами друг за другом. Две таких спарки вертикально и опять же с расположенным в центре редуктором называли «четверкой», но этот образец еще не был готов: восемь цилиндров мощностью в сто шестьдесят сил и весом сто сорок килограмм. Таков был конец нашей двухтактной программы, дальнейшие разработки предполагались только в области четырех тактов. Собственно, я потому и раздавал движки с такой легкостью, что их схема представляла собой тупиковую ветвь развития. Ну вылизав конструкцию (а вылизывание процесс дорогой и долгий), можно, наверное, будет получить сил двести, а то и двести пятьдесят при мизерном ресурсе. И все. А получив прототипы, наши заграничные друзья по логике должны были теперь все силы бросить на совершенствование именно двухтактных двигателей.
Дальше мой путь лежал в заготовительный цех авиазавода. Собственно, заготовительным была только его четверть, дальше дорогу преграждала внутренняя вахта. Я показал пропуск. Изучив его, словно видел в первый раз, а не в сто какой-то, дежурный вернул картонку мне и дал команду открыть дверь. Я вошел в загцех-два. Тут в обстановке полной секретности собирались первые настоящие самолеты — сразу четыре параллельно. Три учебных двухместных и один боевой одноместный. Именно вокруг остова одноместного фюзеляжа кучковались два бывших студента, а ныне главные конструкторы — Миронов и Гольденберг.
— Неудобно залезать, — пожаловался Саша Миронов, выкарабкиваясь из кабины. — На бумаге как-то незаметно было, а тут видно — слишком низко центроплан, и мешают его подкосы.
— Ну-ка дайте я попробую… Нет, ребята, это вам неудобно, а мне просто мучительно. Так что придется с одной стороны вместо прямой рейки поставить фигурную деталь из фанеры, чтобы опустить борт миллиметров на двести, вот примерно такую. — Я быстро набросал рисунок. — А поднимать центроплан нельзя. Кстати, я вот что хотел сказать: закончите компоновку кабины, посидите там каждый часов по шесть — восемь, а потом подумайте, как сделать этот процесс менее похожим на пытку. Так с ходу какие-нибудь мелочи можно пропустить, а пилоты за вас потом расплачивайся. — Это я вспомнил свои страдания во время перелета Париж — Кале. — Кстати, надо в полу кабины предусмотреть лючок-писсуар и испробовать его на удобство пользования. Что смеетесь, начнут пилоты тяги управления или проводку обоссывать — какими словами они вас помянут?
Такой роскоши, как сначала полностью спроектировать самолет, а потом его построить, мы себе позволить не могли. Доводка мелочей и постройка производились одновременно.
Из заготовительного цеха я зашел в сборочный. Там все было нормально, «Святогоры» шли уже без каких-либо доработок, серийные. Армия заказала нам десять штук. Поторговавшись, пришли к выводу, что в цену аппарата, те самые пятнадцать тысяч рублей, входят подготовка пилота, летнаба и механика для каждого. Как раз скоро ожидался первый выпуск летной школы (обучение составляло пять месяцев), и можно было делать новый набор. Понятно, что все пилоты первого выпуска должны были стать инструкторами. С флотом велись переговоры о совместных учениях с реальной бомбардировкой какого-нибудь старого корабля в качестве мишени. В общем, дело шло к тому, что по крайней мере в России авиация начинала получать хоть какое-то признание.
Закончив обход, я отправился к себе в кабинет, пора прикидывать контуры нового самолета. По замыслу это было что-то вроде антоновской «Пчелки», только поменьше — двухмоторный подкосный высокоплан. По идее, этот аппарат на небольшое расстояние сможет нести полтонны бомб, а на приличное — килограмм триста. И сбросить их с пикирования, понятно, иначе он никому не нужен. Вот я и прикидывал, какая получается картина, если крыло крепить не на стойках, а просто положить сверху на фюзеляж — создадут ли в этом случае подкосы достаточную прочность? Вроде выходило, что создадут. От расчетов меня отвлек секретарь, сообщивший, что ко мне посетитель, причем его фамилию я вроде недавно слышал.
— Запускайте.
Опа, на ловца и зверь бежит. Ко мне пришел бригадир с нервюрного[6] участка.
Я глянул в свой блокнот — да, он самый, Михеев Илья Андреевич. Он обратил на себя мое внимание, когда вдруг участок прекратил гнать брак. Более того, нервюры имели даже меньший разброс, чем требовала документация! Выяснилось, что свеженазначенный бригадир внедрил что-то вроде конвейера: каждый столяр делал одну-две операции. И еще он, помнится, говорил, что на склейку нервюр можно посадить женщин, так как они аккуратнее. Мне еще подумалось, что через некоторое время его можно двигать на повышение.
— Здравствуйте, господин Михеев. Я вас внимательно слушаю.
— Здравствуйте, господин Найденов. Тут вот какое дело… — Он слегка замялся. — В общем, я насчет оплаты труда наших женщин. Заранее прошу прощения, что лезу не в свое дело, но так нельзя. Они работают лучше многих мужчин…
— Если работают лучше, то, конечно, и получать должны больше. Какие конкретно цифры вы предлагаете?
Еще не кончив фразу, я понял, что говорю, похоже, не то — Михеев смотрел на меня с немалым изумлением. Я поинтересовался:
— В чем тут дело? Что, если они станут получать больше мужчин, это может вызвать… нежелательные настроения в бригаде?
— Так ведь они получают вдвое меньше! — выпалил Михеев.
«Вот те раз, какие интересные новости иногда приходится узнавать о своем заводе», — подумал я. Но ситуация наводила на некоторые размышления, оставалось кое-что уточнить.
— То есть вы, господин Михеев, считаете, что повышение оплаты поднимет качество работы ваших женщин? Количество ведь определяется не ими.
Михеев опустил глаза, но потом, видимо, решился:
— Нет, не поднимет. Они и сейчас работают так хорошо, как могут. Но… это несправедливо!
Ага, у человека есть чувство справедливости. Кроме того, есть организаторские способности и авторитет среди рабочих. Попробую-ка я экспромтом воплотить в жизнь одну свою задумку — ежу понятно, что на наших заводах, как и везде по России, скоро прорежется рабочее движение самых разнообразных толков. И раз уж это явление нельзя предотвратить, то, в соответствии с комсомольскими заветами моей юности, его надо возглавить. А потенциальный вожак — вот он, сам пришел.
— Скажите, господин Михеев, вам знаком термин «тред-юнион»? Или, если по-русски, «профсоюз»?
— Знаком, — насторожился он.
— Тогда подумайте вот о чем. Вопрос с вашими женщинами мы решим прямо сейчас — то есть вы скажете, сколько им надо платить, и я распоряжусь. Но это ведь не единственная… говоря вашими словами, несправедливость на нашем заводе. И администрация про многие такие вещи может просто не знать. Кроме того, эта администрация еще может считать, что так и надо — возможно, ошибочно. В принципе любой работник завода имеет возможность записаться ко мне на прием и, придя, начать качать права. — Михеев недоуменно поднял брови. «Следи за речью, осел», — мысленно сказал я себе. — …Может, но, скорее всего, не придет. Однако если явится хотя бы каждый десятый, у меня просто не хватит времени выслушать всех — раз, и их пожелания будут противоречить друг другу — два. Вы согласны?
— В общих чертах да…
— А отсюда вывод — нужен какой-то орган для защиты интересов рабочих перед администрацией. И лучше, если рабочие его сами сформируют, их же интересы, в конце концов. Например, тот самый профсоюз.
— И вы допустите появление такой организации на вашем заводе?
— Что значит «на вашем»? Мы делаем самолеты для России. Повторяю — мы! Вы вкладываете свой труд. Я — знания. Великий князь Георгий — деньги и связи. И противостояние звеньев этой цепи друг другу ни к чему хорошему не приведет. В общем, подумайте. Надумаете — дайте знать.
После ухода Михеева я вызвал одного из сотрудников шестого отдела.
— Значит, так. На заводе организуется профсоюз. Скорее всего, бригадир Михеев это сделает. Вам предстоит… э-э-э… курировать этот процесс. Наверно, для вас в заводоуправлении введем должность — секретарь по трудовым вопросом или еще как, сами подумайте. Задач две: первая — приглядывать за этим профсоюзом, чтобы его деятельность не вышла за конструктивные рамки, вторая — обеспечить ему отсутствие конкурентов. Если оные возникнут сами, внутри завода, то действовать мягко, но они должны в конце концов влиться в михеевскую структуру. А вот любые попытки извне организовать что-то подобное должны пресекаться жестко. То есть если окажется, что какой-нибудь заезжий агитатор не был в тот же день избит до полусмерти возмущенными рабочими — я этого не пойму. Да, вот еще что. В процессе сотрудничества с приезжими эти самые рабочие могут поиметь неприятности с полицией. Значит, нужно заранее озаботиться знакомствами в данной конторе. Ну и все неприятности будут тут же материально компенсированы, это понятно.
Вечером я еще поразмыслил на данную тему. Какие другие неприятности могут идти снизу? Наверное, которые с национальным привкусом. Насколько я помнил, в России бузили в основном поляки и евреи. Ладно, евреев как-то можно понять, черта оседлости и прочие подобные вещи не способствуют впадению в нирвану, но поляков вроде никто особенно не притеснял. Я сделал еще пару пометок: выяснить, есть ли сейчас какая-нибудь дискриминация поляков, и если нет, то при малейшем намеке на попытку организоваться делать оргвыводы; узнать, есть ли на заводе евреи, а коли найдутся — намекнуть, что при желании можно создать что-то вроде ма-аленького такого Бунда[7].
Закончив с планами по отбиванию хлеба у борцов за освобождение труда, я взял ноутбук и, вздохнув, принялся читать статью про лечение тифа. Будем надеяться, что в результате моей терапии Николай не помрет, а то неудобно получится. Весь остаток вечера я пытался, продираясь сквозь медицинские термины, понять — при каком течении болезни левомицетин следует заменять бисептолом и коим боком тут оказался преднизолон, который вообще-то вроде как мазь от нарывов. Нет, пожалуй, всякие сильнодействующие, да еще и незнакомые препараты больному Николаю лучше не подсовывать. Поливитаминов ему надо дать, от них точно вреда не будет. Тут меня осенила еще одна околомедицинская идея. Вот, предположим, приехал на завод какой-нибудь агитатор, неважно от кого, и его согласно моим указаниям надо бить. А если он будет женского пола, такое случалось, тогда что?
Я сделал в склерознике еще пару записей: «Посмотреть насчет сильнодействующих слабительных; поискать что-нибудь химическое, чтобы от него прыщи пошли по всей роже и долго не сходили».
На следующий день из Москвы, где он вел переговоры с англичанами, приехал Гоша.
— Берут, — сообщил он, — две штуки. Но не «по», а за восемнадцать тысяч, с ценой ты загнул. Я вообще удивляюсь, как они и два-то за эти деньги взяли.
— Самому надо было коммерцию вести, — огрызнулся я. — Учти, если и со штатовцами мне придется решать финансовые вопросы, я им сразу миллион назначу. У меня случаются иногда приступы неконтролируемой алчности, чтоб ты знал.
— Ладно, посмотрим. Возвращаясь к англичанам, сюда на днях пять человек от них приедут, на предмет обучения полетам. Я сказал, что за месяц научим.
— Одного.
— Почему?
— Потому что мне, во-первых, лень. Во-вторых, если умеющих летать будет два или более, они смогут одновременно и проводить войсковые испытания, и готовить своих пилотов. Не фиг, пускай по очереди этим занимаются.
— Я вообще-то уже пообещал…
— Ну и что? Не ты же их будешь готовить. А я скажу, что из этих пяти к полетам способен только один, остальные бездари, рожденные ползать. И кто оспорит мнение одного из двух лучших пилотов? Начнут возникать — привлечем Машу, она им объяснит, что таких, как они, все пятеро, к аэроплану вообще подпускать нельзя, и дальше комментарии в ее стиле.
— Кстати, хотел спросить: почему у тебя такие разные подходы? Англичанам втридорога, а Сантос-Дюмону за разумные деньги. Про Цеппелина не спрашиваю, тут все ясно, пусть дирижабли ваяет.
— Потому что Сантос-Дюмон — талантливый инженер, ему в принципе хватит того, что он и так увидел. Такому заломишь цену — еще сам чего-нибудь изобретать начнет. А у англичан сейчас никого подобного нет. И они помнят небось, какое им недавно Максим позорище вместо самолета построил — за ничуть не меньшие деньги, кстати. Так что получат они нашу этажерку и начнут себе ее копировать. А я еще их ученика напугаю до полусмерти — опущу нос чуть ниже обычного, тогда нас на первой же воздушной яме так дернет вниз, что мало не покажется. И потом на земле буду дрожащим голосом рассказывать, что самолет может летать только носом по горизонту! Чуть опустишь — сразу гроб.
— В заботе о ближнем основное — не перестараться, — философски заметил Гоша. Уже собираясь уходить, он вдруг спохватился: — Тьфу ты, чуть самое главное не забыл. Знаешь, что мы с Машей изобрели? Ни за что не догадаешься!
— Неужели прокладки?
— И субъект с таким уровнем фантазии пытается открыть человечеству дорогу в небо… Ладно, помогу. Мультипликацию!
— А чем она принципиально от кино отличается?
— Гораздо проще. Не нужно съемочной камеры. И главное — можно обойтись без пленки! Маша рисовала тушью на бумажной ленте, потом ленту покрыли парафином — и все. Мы в Москве знакомым показали — полный восторг.
— Что-то мне кажется, что такую штуку Эдисон изобрел лет десять назад, — с сомнением сказал я, — хотя… Кажись, идея. Помнишь, мы хотели устроить бомбометание по настоящему кораблю? Но корабль может выделить только твой дядя, это который гибрид генерала с адмиралом. И чтоб дяде лучше думалось на эту тему, подари-ка ты ему такую игрушку, а Машу попросим нарисовать несколько мультиков порнографического содержания. Он же не только обжора и пьянь, но еще и бабник каких мало, так что должно понравиться. Глядишь, после этого и по поводу пароходика будет попроще договориться.
— Вот люди стараются, изобретают… Затем художник мучается, ночей не спит, все думает, как донести до зрителя свое видение прекрасного. А потом приходит такой, вроде тебя, — и зритель получает свою долгожданную порнуху.
Глава 12
Как там у нас насчет обеда? Я достал из кармана часы-луковицу и в очередной раз чертыхнулся. До крайности неудобное устройство, да еще и заводить надо регулярно, а я опять забыл. Ладно, судя по солнцу, пора. Я сел на мотоцикл и потарахтел к резиденции великого князя.
— Немножко рано, — заметил Гоша. — Или аппетит прорезался, нет сил терпеть?
— Часы опять встали. Чуть забудешь завести — и стоят, собаки. И вообще, почему у вас тут наручных часов не носят?
— Потому что их еще нет. Но это ты вовремя подал идею, я тут как раз обдумываю новшество.
Гоша подал мне папку. На титульном листе значилось:
ПроектГеоргиевское оптико-механическое объединениеСекретно
Я заржал, потом, в ответ на вопрошающий взгляд Гоши, уточнил:
— Все хорошо, особенно название… Проект «Гомосек» — это звучит!
— Тьфу на тебя, ты дальше читай.
— Так, некоммерческая часть — прицелы, механические вычислители, авиафотокамеры, таймеры… да, пора. Коммерческая — кинофотоаппаратура, часы… Организация собственной киностудии… Как называться будет — «Г-фильм»?
— А хотя бы. Кроме тебя, все равно никто таких аналогий проводить не будет. Блин, вот ведь, с кем поведешься, раньше бы мне и в голову не пришло задуматься, от какого слова происходит «аналогия».
— Растешь над собой, хвалю. И значит, наручные часы тоже сюда? Патент пусть Маша не забудет, ведь золотое дно. И кстати, их можно делать с автоподзаводом — от тряски через храповик какой-нибудь рычажок с грузом будет подкручивать пружину.
— Ладно, наручные часы внесем в программу. Дальше прочитал?
— Ага. Значит, радиомастерскую убрать с авиазавода и перевести в новое объединение… логично. Там же производить моторную электрику. А с чего стеклофабрика окажется аж в Лыткарине?
— Там песок нужного качества. А возить сюда заготовки несложно, объемы небольшие.
— Читаем дальше. Химзаводы один и два, так, первый… целлулоид — это пленка и линейки всякие, на втором — реактивы, только объемы уж очень внушительные. Значит, смотрим сырье — азотная и серная кислота, толуол, глицерин, аммониевая селитра… а, понятно, что там за реактивы. Свинец, натрий тоже есть… Этот где-то в стороне будет?
— На правом берегу Нары, в пяти километрах выше Георгиевска. Надо туда железнодорожную ветку проложить.
Я еще полистал бумаги, повнимательнее, потом еще…
— Гоша, я совсем ослеп на старости лет или у тебя тут действительно нет ни полслова про патефоны?
— А это еще что такое?
— Тот же граммофон, только поразумней скомпонованный.
— Нет… и граммофонов тоже нет.
— Ну вы даете… Ладно, ты с гор еще года нет как спустился, но Маша-то куда смотрела? Как можно двигаться в светлое будущее без патефона — народ не поймет. Значит, вот соберусь в две тысячи девятый, раздобуду образец, а вы уж заранее внесите его в программу. И над репертуаром надо подумать, песен там героических про летчиков и прочих насочинять. Или наадаптировать, если быть точным.
— Все-таки я до сих пор удивляюсь, сколько разных слов придумано в вашем времени для обозначения воровства! — Гоша взял папку, сделал несколько пометок и отложил. Потом вздохнул и поинтересовался: — Не подскажешь, ты когда более добрый — до обеда или после?
— Во время. До — особенно если голодный — могу послать, чтоб не откладывать процесс насыщения. А после обеда мне спать хочется, а не исходить добротой. А вообще в чем дело?
— Да просьба у меня одна есть, личного характера. Пошли, там уже стол накрыт, вот в процессе и изложу.
Пока я ел первое, Гоша внимательно наблюдал за мной, видимо пытаясь на глаз определить момент моего максимального подобрения. Похоже, у него ко мне что-то важное, совсем шуток не понимает!
— Ну ладно, не томи, что там у тебя?
— Такое имя — Антон Павлович Чехов — тебе знакомо, надеюсь?
Вот оно в чем дело, Гоша, значит, решил внести коррективы в его судьбу. А насчет «знакомо» — да. Только вот читать его с удовольствием — увы, это мне не дано. Дело в том, что в моей далекой юности он был в программе по литературе. Тогда ее преподавали не как сейчас. Вон Маша имеет пятерку, и что учила, что нет — в голове ничего не задержалось. В наше время было не так — нам преподавали на совесть, так что глубокую неприязнь ко всем изучаемым писателям я пронес через всю жизнь. Сейчас мне иногда даже обидно — ладно там Толстой или Фадеев, но Чехова-то с Достоевским какая сволочь в программу засунула?!
А подлечить Антона Павловича — дело святое, только не как Гошу, в двадцать первый век ему нельзя. Он же писатель — каково ему будет молчать? Не факт, что сможет. Но у него вроде пока еще все не так запущено, сходит разок через портал, думая, что в соседнюю комнату, потом стрептомицина примет — глядишь, полегчает. Или даже не сходит, а мы его сносим, предварительно угостив снотворным. И пусть в благодарность еще одну «Каштанку» напишет, только желательно про летчиков!
Примерно так я Гоше и сказал.
— Я в тебе и не сомневался! — обрадовался он.
А я начал мысленно прокручивать возможные последствия этого дела. Чехов — врач, и принципиальное отличие действия антибиотиков, скорее всего, поймет. И их значение тоже. А значит, этим надо пользоваться, то есть фармакологическую фабрику начинать создавать уже сейчас. Политику еще надо продумать…
— Раз уж мы будем светить антибиотики — ну не брать же с Антон Палыча обет молчания — нужно в темпе организовать лабораторию, — продолжил я. И патентовать, причем не состав или, упаси господь, способ получения, а только название и свойства. Как бы это обозвать… георгит… георгиум… да, пожалуй.
— А почему бы пенициллин не назвать пенициллином?
— Гоша, ты покушай, — ласково предложил я, — а потом подумай, не надо совмещать процессы. Его же получают из грибка «пеницилум рубрум», нельзя же прямо в названии так засвечивать способ получения!
— Слушай, а разве это допустимо — держать в секрете такое лекарство?
— От потенциальных противников? Кому надо, пусть заключает с Россией договор о ненападении лет на двадцать пять, причем жестко составленный, будем поставлять антибиотики по разумным ценам. Остальным — по десять тысяч рублей за грамм!
— Ох и спекуляция начнется…
— Это ты правильно заметил насчет спекуляции. Значит, надо в договор вносить еще беспрепятственную работу наших спецслужб по пресечению оной на территории страны-покупателя.
— Думаешь, хоть кто-нибудь согласится?
— Думаю, нет. Но в случае войны с наших самолетов полетят листовки примерно такого содержания: вот вы тут мрете по госпиталям, а ведь любого мог бы спасти грамм георгиума! Но ваше правительство отказалось его приобретать, потому что мы предлагали контроль, а им хотелось нажиться. И ведь как нажились, суки, вы только посмотрите! Ату их, гадов жирных, и мы завалим вас лекарствами, причем на халяву!
Над нами протарахтел мотор. Я глянул в окно — точно, Маша прилетела. Последнее время по маршруту Георгиевск — Москва на поезде она ездила только в дождь. Гоша выскочил встречать.
Через двадцать минут (это при том, что Маша садилась прямо под окнами, игнорируя аэродром) молодежь появилась в столовой.
— Дядя Жора, специальный заказ выполнен! — отдав честь, отрапортовала племянница. — Мультфильм «Белоснежка и семь гномов» готов! Цветной и пятисерийный, между прочим. Вечером — премьера. Детей до восемнадцати (она стрельнула глазами в Гошину сторону) даже близко подпускать нельзя! Художники — и те краснели, картинки раскрашивая.
— Вот и замечательно, — кивнул я, — а тут еще одна работенка по художественной части есть. Мы вот задумали антибиотики выпускать, и на упаковках, понятное дело, должен быть Гошин портрет. Его надо изобразить так, чтобы ни у кого и тени сомнения не возникло: если есть на свете идеал мудрости и доброты, то вот он! И чтоб еще похоже на оригинал было.
— Думаешь, получится? — усомнился Гоша.
— Дорогой, ты к себе несправедлив, — заметила Маша. — И ко мне, кстати, тоже. Конечно, получится! Я так понимаю, нужно несколько вариантов под разные способы печати?
Оставив высочество и племянницу обсуждать детали портрета, я направился к себе, на послеобеденный отдых, и заодно обдумать только что обсужденное. Значит, вылечим Чехова. Через некоторое время к известности Найденова-инженера добавится известность Найденова-врача. Это хорошо или плохо? Или, точнее, как сделать, чтобы это стало хорошо?
Начнем с самого верха. Что известно Николаю? Что его брат у себя на Кавказе нашел старца сверхмощной целительской силы. Одновременно неизвестно откуда там же появился инженер Найденов с племянницей, самолетами и мотоциклами. Теперь выясняется, что он еще и врач весьма не из последних. Выводы? Ну ей-ей этот инженер как-то связан со старцем!
Даже если Николай и такой дурак, каким он выглядит в своих дневниках, то уж Алиса-то именно этот вывод сделает точно, если еще не хуже. А значит, надо честно и откровенно заявить, что я — сын? племянник? — нет, пожалуй, лучше внук старца. Точно, внук, которому оный старец и передает помаленьку свои безграничные знания. Кстати, надо слегка подкрасить волосы, чтобы народ успел привыкнуть к тому, что Гошин зам уже не седой. А старец, наоборот, бел как лунь и без очков. Будем надеяться, что такого различия хватит.
На следующий день мы разбежались по городам и временам. Гоша отправился в Питер презентовать дяде-адмиралу шедевр киноискусства. Маша — в Москву девятисотого, продолжать крепить нашу финансовую мощь. Я — в Москву две тысячи девятого за патефоном и информацией о пенициллине.
Патефон я приобрел быстро, а вот по поводу антибиотиков поначалу вышел тупик. То, что я нашел по этому поводу в Интернете, четко делилось на две части. Первая была мне просто непонятна. Вторая понятна ровно настолько, чтобы сделать вывод о практической невозможности развертывания такого производства в Гошином мире. Решение, как это часто бывает, нашлось неожиданно и совсем не там, где искалось.
Как я уже вскользь упоминал, до встречи с Гошей на жизнь я себе зарабатывал ремонтом и тюнингом двухколесной техники. И вот мне позвонил один из старых клиентов и, посмеиваясь, сказал, что его батя совсем сбрендил и на старости лет возжелал скутер. «Можно, конечно, пойти в магазин и купить, — продолжил клиент, — но я могу себе позволить подарить бате нечто получше среднего. Возьмешься ему по спецзаказу сделать?»
Мне, честно говоря, было несколько не до этого, но потом я вспомнил, что клиент как-то завязан в медицинском бизнесе. И вроде он говорил, что это у него потомственное. Быстро выяснилось, что мечтающий о скутере старикан всю свою трудовую жизнь был фармацевтом, причем именно по антибиотикам. «Батя учился у самой Ермольевой», — с гордостью сказал клиент.
В общем, через день фармацевт, сильно напоминающий постаревшего лет на десять Цеппелина, уже объяснял мне, какой именно скутер ему хочется. На самом деле было несколько не так — я наводящими вопросами подвел его именно к той конфигурации, которая не представляла особой опасности для него и особой трудности для меня, и теперь слушал пересказ своих же неявных предложений. Мы быстро сговорились. Он, разумеется, получит свое транспортное средство. Тут я сделал отступление и наплел о своей любви к истории техники. Мол, у меня хобби — сделать что-то так, как могли сто или более лет назад. Как пример я показал несколько фото «Святогора», в том числе летящего, сказав, что вот — сделал самолет по технологиям конца девятнадцатого века. Фармацевт проникся и восхищенно зацокал языком. А теперь, продолжил я, мне вот захотелось попробовать произвести, например, пенициллин, опираясь на технологии того же примерно времени. В общем, очень довольный знакомством фармацевт обещал написать подробное руководство по лабораторно-кустарному производству, разжеванное по шагам.
За неделю я на базе стандартного скутера собрал фармацевту желаемое, а он написал мне руководство и как первоисточник приложил отсканированную статью некоего Бергера про получение пенициллина.
А потом я шагнул из гаража в Георгиевск, куда за день до меня из своего питерского вояжа вернулся Гоша.
— Ну здравствуй! — сказал он мне. — Твой чемоданчик — это и есть тот самый знаменитый патефон?
— Ага, вот, слушай.
Пружина была уже заведена, я открыл крышку, поставил пластинку и опустил на нее штангу с иглой. Патефон зашипел, заёкал, а потом громко и хрипло заиграл «Болеро» Равеля. Сунувшаяся было ко мне кошка возмущенно фыркнула и ушла. Гоша с подозрением смотрел на надрывающийся ящик, Маша чуть не валялась на полу от хохота.
— Я представлял себе несколько более качественный звук, — осторожно сказал Гоша.
— По сравнению с mp-3 плеером действительно не фонтан, но ведь тут сейчас ничего другого вообще нет. И потом, пластинка довольно заезженная, с новой должно быть малость получше. Так что вот вам образец, копируйте и начинайте гнать культуру в массы.
— А я-то собиралась под гитару петь… — разочарованно протянула Маша. — Но с такой звукозаписью я не согласна, подожду лучше магнитофона.
— Ничего страшного, Шаляпин небось не хуже тебя споет и привередничать не будет, — утешил я племянницу. — Ужин у вас тут скоро будет?