Дом золотой Борминская Светлана
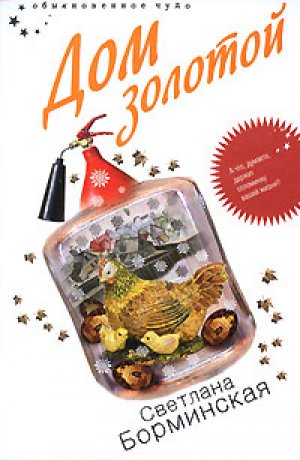
– Да ты что! А как же ж! – опешила тетя Маруся. – Кто ж какавой без молока гортань полощет?
А на площади Стачек в центре города другая группа молодежи развернула «зеленые» плакаты, с которых на сбежавшихся бабок с дитями смотрели черепа с грустными глазами, и нездешний мальчик, забравшись на камень Памяти героям всех революций, тихо спрашивал толпу в мегафон:
– Даже проститутки соглашаются за деньги не на все. Даже проститутки за наличные не соглашаются на анальный секс, а наше правительство за бумажные деньги согласилось превратить ваш город в ядерную свалку!
Бабки при слове «проститутки» начали краснеть и, все в пятнах, схватив внучонков в охапки, разбежались, каждая в сторону своего дома.
Остались одни деды, но слушали вполуха, хмурились и все больше скребли в затылках и прикуривали.
Ребят с автобусов было человек сто, и они долго говорили пятнадцати дедам – что нельзя превращать страну в сливной бачок для всего цивилизованного мира. Деды слушали и в принципе соглашались.
– А чего делать-то? – глухо крикнул из-под яблони Махмуд Иваныч Куличов, старый дедушка, соборский старожил.
– Не пускать составы с ядерным дерьмом на полигон за рекой Девочкой, лечь костьми на рельсы и не пускать! – тихо в мегафон сказал нездешний мальчик, похожий на принца из блокбастера про звездную пыль.
– Так переедут же ж, – почесав сквозь пиджак живот, крякнул дед Сережа, который как раз шел с ночной смены домой.
– Переедут – их в тюрьму посадят, – подал умную мысль еще один дедушка по фамилии Сухостоев-Берестов. Потомок тех революционеров, что лежали под памятным камнем.
– А меня в землю закопают, – закончил дед Сережа и, посмотрев еще раз на нездешнего мальчика, вздохнул, качнулся и пошел домой. Спать.
А звездный мальчик тихо продолжал:
– Пирамиды, МММ, «Тибет», лохотроны… Только самая крутая пирамида была построена в 1917 году. Людей убивали, грабили, гнобили, на их костях построили новое государство, жизнь наладилась – живи, строй! Улучшай, исправляй то, что есть, но зачем напрягаться? Им очень захотелось побольше денежек, и страна-пирамида рухнула, чтобы можно было набить кармашки и мешочки, пока простые людишки выползают из-под обломков. Единственная причина развала Советского Союза – чья-то большая пасть, которая проглотила все нажитое миллионами советских рабов.
Мальчик все говорил. Деды все слушали. Солнце прокатилось слева направо. А на площади не осталось ни одного деда, только кучка выкуренных бычков на асфальте.
А тетю Фаину как раз посередке улицы пытала прелестная девочка в платье из лазоревой марли до самых молоденьких пят.
– Вот вы, бабусечка, за кого голосовали?
– А ни за кого, – любуясь девчушкой, улыбнулась тетя Фаина. – А тебе, любушка, сколько годков?
– Двадцать, – шмыгнула носом девушка. – Бабусечка, вот вы не голосовали, а власти-то ваши дали согласие ядерный мусор за лесом хоронить.
– Так то далеко, – посмотрев в сторону синего леса на золотые облака, пожала плечами тетя Фаина и перевязала потуже косыночку на причесанной голове.
Корова Малышка стояла и ждала, пока хозяйка наговорится с девушкой.
– Пасти иду, – махнула рукой на свою корову тетя Фая.
– Ой, да? – улыбнулась девушка. – А все-таки за кого вы будете голосовать? Ну, чтобы еще, к примеру, вторую помойку вам на голову не опрокинули?
– Я, – поджала губки тетя Фая, потопталась и, расправив оборки на подоле, решилась: – Я, девонька, за корову бы свою проголосовала, за Малышку.
– Ну что вы! – засмеялась девушка.
– А что? – горячо заторопилась выговорить свое наболевшее тетя Фая. – Моя корова, девонька, до того умная, а уж справедливость любит! Она все слова знает и вот на вас сейчас глядит и улыбается, нравитесь вы ей.
– Да? – обернулась девушка на белоснежную приятную корову. Та глядела, и правда, со спокойным вниманием, и в больших коровьих глазах было столько ума, что у девушки екнуло сердце.
– Какая ты, – прошептала девушка.
– Му-у-у! – согласилась корова. – Я такая… Я закончила коровий техникум по специальности «жить и не тужить», факультатив «густое сливочное молоко».
– Моя Малышка за всех бы людей в Госдуме постояла, за всех бы хороших людей голосовала четырьмя копытами, а плохих и корыстных – сразу на рог и за дверь!
Малышка вздохнула, и из большого коровьего глаза выкатилась большая слеза.
– Да! – закончила свою правду тетя Фаина.
– Да, – эхом повторила девчушка в марлевом хитоне и несколько раз оборачивалась, пока тетя Фаина и ее корова шли к началу улицы на выпас, где еще издали синела трава и тек прозрачный ручей по кличке Мальчик.
Утопленница
А еще через месяц летом был праздник с салютом, выступили мэр Соборска Кочергин и представитель из Москвы Иезуитов. Очень торжественный получился День города. Уже закончили, забетонировали карьер, и через месяц должен был приехать первый состав с ОЯТ.
Высохший и почерневший от руководства стратегическим объектом генерал Эдуард Бересклетов поехал в Москву за орденом и… пропал.
Пухляковские-то, уже привыкшие к новому соседу, даже забеспокоились. У солдатиков из охраны спрашивали – что да где и куда делся? Те только плечами пожимали.
И все бы ничего, да вот вышла какая незадача.
Тишка, кошка тети Фаина бывшая, где-то на пятый день, как уехал генерал в Москву, сошла с ума. Бегала по улице туда-сюда, туда-сюда, топоча серыми лапами, и так орала, так орала, так за душу хватала, почти два дня и три ночи, пока не охрипла и…
В общем, полный кошачий психоз. Что она себе возомнила, эта серая кошара? Эдуард все-таки генерал и ничего ей не обещал. Ну, жениться там, котят усыновить, а благоверную и единоутробную жену Любашу в монастырь на постриг, к примеру, на хлеб-воду отселить. Ничего такого никто не слышал. Ну, кормил, гладил, к сердцу жал, так что?
Кошкам – мыши, генералам – лампасы и прочая дребедень… Так устроен мир, и все про это прописано в законе в параграфе «жизнь».
Тетя Фая принесла очумевшую кошку от забора генерала домой, к себе, положила на кровать, велела котятам строго – мать не беспокоить. Те подросли, все понимали, сами почти были уже родителями. И стала отпаивать тетя Фая Тишу молоком. Та – ни-ни. Все котята после допили.
Генерала Бересклетова не было на Пухляковской уже целых семь дней и восемь ночей. Тетя Фаина утром пошла к корове, дала ей сена, подоила и собралась уже пойти на выпас, глянь, а Тишиньки-то на кровати на цветастом пододеяльнике и след простыл. Котята по саду носятся, а Тишиньки нигде нет.
Побежала Фаина на улицу искать, постучала в ворота, солдатик Эммануил сказал, что кошки в то утро не наблюдал, еще сказал, что генерал уехал отдыхать на Мальту и будет аккурат через двадцать один день, если считать с даты отъезда. Как раз к первому составу с ОЯТ поспеет.
Что уж там, как, но оказалось, что Тишка в то утро от тоски по генералу пошла топиться. От любовных страданий, так сказать.
Пошла, прикрыв глаза, к реке, закрыла их совсем, ступила лапами в воду, но по причине толстого живота всплыла, и понесло ее течением куда-то на юг. Не иначе как на Мальту. Выловил ее дед Сережа, бездыханную, под мостом, где ловил корзиной пескарей и прочую плотву и принес в той самой корзине тете Фае хоронить.
А Тишка возьми и прокашляйся ряской и тиной с водой. Полежала в горячке три дня, вырвало ее черными головастиками, и ничего, пошла мышей ловить.
Как будто не было ни генерала, ни двух лет жизни в богатом доме, в общем, не зря говорят – что было, то прошло.
И когда через две с чем-то недели вернулся с Мальты генерал с чумазой от загара Любашей и сбежался смотреть на них весь нерабочий по причине старости или младости люд с Пухляковской улицы – Тишки с тетей Фаей в той толпе не было.
Фаина пасла корову на лугу, а Тиша сидела в подполе и стерегла одну матерую мышь ростом ровно в сто девяносто два майских жука, если их сложить горкой на подоконнике.
Ремарка
И на этом вроде можно заканчивать первую часть истории под названием ЛЮБОВЬ и переходить ко второй части, не менее бестолковой, зато с многообещающим названием – ОХОТА на СТАРУШКУ.
Но.
Но пока не получается, хотя конец уже близок.
Тетя Фаина нарадоваться не могла – вернулась ее родная Тишинька, а уж что как, поверьте, неважно. И телевизор они теперь вместе смотрели, пока все передачи не кончатся, и наглядеться Фаина на свою кошку не могла, а уж как она ее называла: и абрикосинка, и плюшка бархатная, и краса ненаглядная, и милая любовь…
Ой, да что там говорить, вы же любили, чай, знаете, какие слова при этом трепете появляются.
В общем – ах!
Как тетя Фаина кошку свою величала, не каждая влюбленная женщина так своего мужчину назовет, духу не хватит, а уж мужчина-то тех слов и вовсе не знает по причине вялости того центра в черепу, который ведает любовными прибаутками.
Радиоактивные будни
Прошло еще полгода. Свалка-хранилище почти ежедневно принимала по составу с ядерными отходами. Оказывается, их по всему миру накопилось столько, что желающих опростаться от всяческой дряни приходилось ставить в шеренги на границе и составлять список на пять лет вперед. Зато столько денег поступило некоторым ядерным и таможенным начальникам, прямиком в их карманы, что некоторые, не к завтраку будет сказано – лопнули. Буквально. На том самом месте, как схватили деньги за – тьфу! – мусор радиоактивный. И лопнули, как бычьи пузыри.
Соборские жители называли теперь свалку не помойкой, а «за лесом». А то некрасиво – помойка да помойка, а «за лесом», мало ли что за лесом, очень даже прилично и культурно.
Горожан и правда почти всех трудоустроили, кто желал, и все равно еще требовались специалисты. Составы со светящимся грузом шли по ночам, между трех-четырех часов, и если не психовать особенно, то и беспокойства совсем никакого. Так прогремят без свиста, без гудка белые вагоны с автоматчиками на стыках.
А еще открылась на улице Надежды Крупской булочная со стриптизом для желающих совместить приятное с полезным. Булочная функционировала исключительно по ночам, и ходили в нее богатенькие, по соборским меркам, свалочные охранники.
– Сволочные сторожа, – плевались рано встающие бабки, когда по утрам вокруг булочной досыпали мятые нестарые мужики в камуфляжной форме.
– Подлость какая! – ярились с матерком многие уже отжившие свое деды, которым даже стриптиз вряд ли помог бы в одном веселом деле.
Странно
Каким образом у тети Маруси Подковыркиной на чердаке оказалась арфа с двумя струнами и три гигантские метлы, я не спрашивала. Бесполезно.
Тетя Маруся, к примеру, на мой вопрос, купить ли заварки или подождать, пространно отвечала, какие, мол, соседи ненадежные, а участковый – такая пьяница… Местные-то, уличные хулиганы Брэк и Маятник вчера влезли в дом Стукаловых, пока те в бане намывались, и вытащили два черно-белых телевизора, почти новые ботинки и ящик просроченных консервов – «фасоль в свином желе ароматная», которыми Стукаловы кормили двух своих собак. Где же были собаки? Резонный вопрос. А спали. Наелись фасоли в желе и решили всласть поспать. Ночью-то дом нужно сторожить, в доме-то ночью – хозяева Стукаловы.
– Когда собакам спать, как не белым днем? Не знаешь? – вопрошала тетя Маруся. – И я не знаю.
Так мы и общались.
Странно.
С чего бы?
Последний раз генеральшу Бересклетову видели живой в начале недели, был март, день, точнее, позднее утро…
Она садилась в свою голубую машину в шубе цвета подосиновика – оранжево-седая испанская лиса – и черных высоких сапогах.
В это время тетя Маруся Подковыркина как раз тусовалась с бабками недалеко и перечисляла громко:
– Водка «Белая горячка», сигареты «Рак легкого» и рекламирует все это большая лысая собака, которой пересадили шерсть из-под хвоста! Девы, жизнь – это большой обман… Гаврилыч! – чуть погодя крикнула тетя Маруся деду Ефиму, который на тачке поволок что-то красное и металлическое, прикрытое мешком. – Гаврилыч, ты куда? Меня подожди!
Генеральша Люба еще приостановилась и посмеялась в сторонку на Марусину темпераментную речь про засилье рекламы на единственной программе, которую ловил чиненый Марусин телевизор.
И больше живой никто на Пухляковской улице генеральскую жену не видел.
И завеса тайны окутывала Любину смерть и до, и после похорон…
– Съездила на курорт и померла?! После Мальты простые бабы не померли бы ни за что, – как встала, так больше в тот день и не присела, услышав фантастическую весть, Марья Михайловна Подковыркина. – Да я с ей на той неделе калякала!
– Да она и не разговаривала ни с кем, ну, только разве по необходимости, – вытянув на Марусю длинную шею, не поверила, и все тут, одна такая Болихина, старая-престарая бабушка, но с очень даже острым умом. А уж язык-то у нее и вовсе как бритва «Нева».
– Смотря с кем, – необычайно кротко сказала моя квартирная хозяйка и, повращав глазами, побежала вдоль улицы, останавливаясь возле каждой калитки и всплескивая конечностями.
– Генеральша померла! – все три дня до похорон шелестело по улице.
– Да нет, она не померла, а в бензовоз врезалась или в автопоезд… Столько людей поубивала, дура пьяная!
– Нет и нет! Генеральша Любаша на своей алой, как кровь, машине, – в полной темноте у своей калитки рассказывала школьница Орлова другой школьнице Метляевой, – в хрустящую морозную ночь влетела в ядерный карьер, там за городом и за лесом и леском…
– Но там же!.. – пугалась беленькая Метляева.
– Ну и что же! Карьер только в середине занят свалкой с радиацией, а Любаша врезалась в самый его край… Там яма сто сорок метров вниз ступеньками, мне папа говорил, да-а-а… Вот она туда-то и сиганула, сбила ограждения и на скорости сто девяносто девять в час!..
– Маринка, не бреши! – возник отец Орлов за спиной у дочки. – Иди в дом, болтушка.
– Ну, пока!
– Ну, пока! Завтра контрошка по алгебре или по французскому?
Тетя Фаина в таких разговорах не участвовала, но тоже была опечалена и до самых похорон не верила ни в какую, ну, с чего же это умерла сочная пятидесятилетняя, очень живая Люба?
Любаша вблизи… Любашин хохот. Улыбалась так. И то, что не было у них детей, когда-то обсуждалось всей улицей, еще тогда, как приехали они в Соборск, в самом начале после постройки их чудесного дома.
– Не все, – говорили тогда некоторые, – не все жуликам-генералам подвластно, чего-то и у них нет! А у нас вот в каждой избушке на всех стульчиках по дитю сидит.
Домыслы остались во вчерашнем дне, а в действительности имела место обычная автокатастрофа. Голубая «Краун-виктория» врезалась на молниеносной скорости в полный молоковоз… Всмятку. Обычная история. В крови генеральши спирту не нашли, в крови водителя молоковоза также, кроме молока, ничего не обнаружили.
Поздним утром все и произошло, на оживленной трассе ЕД-19. Скорее всего, тормоза подвели, но «Краун-виктория» выгорела так, словно сперва взорвалась. Молоковоз также восстановлению не подлежал. А водитель ничего. Говорит, если кости срастутся, так на другой молоковоз пересядет, если, конечно, кошмары прекратятся. Беда прямо с этими кошмарами.
Хоронили не в Москве, а в Соборске, двадцать человек всего-то провожали Любашу на кладбище. Нет, на улице-то, когда вынесли полированный гроб из высокой военной машины, проститься народу пришло больше, но на кладбище, а оно дальнее – ехать и ехать, – попало всего двадцать человек, и в числе их Марья Михайловна Подковыркина, которая плакала навзрыд и всегда очень жалела мертвых, но не всегда живых.
А тетя Фая и не думала туда ехать, хоть и жалко ей было чужую жизнь. «Пусть бы себе жила», – думала Фая, ставя свечку и зажигая лампадку за упокой Любви…
– Фая, Фаечка, – рассказала после похорон в кухне у Фаины Маруся. – В гробу, представь, лежала горелая земля и все! Почти ничего не осталось от Любаши. Личико с кулачок и в платочке серебряном. Глазки у нее где-то внутри гроба и зажмурены очень-очень.
Маруся сглотнула и раскрыла было снова рот.
– Кончи! – взмолилась Фаина. – Маруська, кончи! – и заткнула пальцами уши.
– Очень-очень! – громко повторила тетя Маруся. – Эдуард, как отпел батюшка покойницу, подошел, поцеловал ее в платочек на лбу, закрыл гроб на ключик и положил его в карман… И похоронили ее, завалили землей… Фая! Да ты где, Фая?
Тетя Маруся оглядела пустую кухню, топнула на котят галошиной, чтоб не воображали, и выскочила в сени.
Бидон с нитроглицерином?
И так-то не принц Эндрю, а уж после похорон жены генерал Эдуард Бересклетов стал похож на свою прежнюю тень. И когда на второй после похорон Любы день акустический колокольчик блямкнул внизу, генерал так и не встал с кресла в глубине каминной. Горевал. Только через полчаса, когда охранник и по совместительству денщик Эммануил доложил о пришедших, генерал выглянул в окно.
У раскрытых настежь ворот стоял сам начальник Соборского УВД полковник Шафранов, чуть поодаль участковый южной части города Кладовкин и какой-то человек с таким лицом, про которые обычно кратко говорят – из органов.
После положенных и обязательных сердечных слов об усопшей генерала попросили вспомнить, не было ли чего-то необычного в последние дни, даже не дни, а недели. Угроз там или наоборот каких-то подарков, которые могли подарить, оставить, передать?
– Не понимаю. Скажите без загадок, что вы имеете в виду? – спросил генерал, продолжая думать: разве любят мужья своих жен, прожив тридцать лет? Нет, конечно, хотя… Я, кажется, любил, или нет? Редкий человек любит свои морщины или уши, которые к старости отвисают и отвисают ближе к земле.
– Так вы не помните? – не умея говорить без загадок, снова спросил Шафранов, незаметно, как ему казалось, разглядывая начальника унитарного предприятия по захоронению ОЯТ.
Генерал сидел в домашней одежде – кремовых брюках из плотного хлопка и рубашке в тонкую полоску, в каких обычно отдыхают у камина французские буржуа, и с длинным лицом цвета недельного дождя. Он, этот человек, присланный из Москвы, так диссонировал с двумя бравыми провинциальными милиционерами, у которых и глаза, и щеки, и губы блестели ярко, как спелые ягоды. И свинцовый на вид сотрудник из органов тоже выглядел не инвалидом.
– Не понимаю, – повторил Бересклетов и замолчал, глядя на сидящих напротив него Шафранова и участкового Кладовкина. Разговор происходил в большой деревянной комнате на первом этаже, в которой пахло, как в лесу.
– Водитель молоковоза, в который врезалась ваша жена, утверждает, что сначала что-то взорвалось в салоне ее машины. И только после этого иномарка вашей жены потеряла управление.
– И? – пожевал губами Бересклетов и вздохнул.
– Хотя бы предположите, – наклонил голову полковник Шафранов, – что могло послужить взрывом в салоне «Краун-виктории» вашей супруги?
– Я не знаю, – через какое-то время твердо сказал Бересклетов. – Разве такое могло быть?
– К сожалению, – уже уходя, повторил полковник Шафранов. – Могло. Может, что-то вспомните? Не сразу…
Я ведь давно не люблю ее. Или люблю. Как можно любить свои кишки или шишку на ноге? Но без своих мокреньких кишок или без этой мозоли, генерал согнулся в три погибели и пощупал шершавый натоптыш через пятисотрублевый носок. Но без них я не я. Они мои. Зачем ее не стало? Зачем она сгорела? Лучше бы бегала, ругалась с зеркалом, из которого на молодую душой Любу сердито поглядывала старая русская тетка в буржуазной одежде.
Что Любаша не возила в своей «виктории» гранаты РГД-5, пластит, завернутый в «МК», и бидон с нитроглицерином, Эдуард Бересклетов мог поручиться головой. Мог. И никаких угроз, подарков, чужих вещей в последние пять лет не получал.
Ну, не считать же угрозой подернутые дымком чего-то, что еще только предстояло познать, дожив до своих девяноста лет… Генерал Бересклетов с трудом вспомнил, как старый дедушка, живущий напротив, – как его там? – Ефим Гаврилыч Голозадов, поглядывал на него. Эдуарду было ясно и понятно без слов значение такого взгляда. Он и сам не раз так смотрел на своих врагов. Где они теперь? А их нет. Так получилось, что всех врагов Бересклетова обычно «съедала моль».
Кстати, последние полгода дедушка, едва живой и пыльный, как и все старики, на Эдуарда не глядел. Так, поглядывал. Жил себе, копался на грядках, ходил куда-то, стуча палкой с такой силой, что только искры из асфальта высекал. А сам-то дряхлей мумии. Даже как-то поздоровался. Увидел генерала и «здравствуй» говорит. И даже с Любашей у него был минутный разговор, когда она объезжала деда на дороге, не дожидаясь, пока тот свернет на обочину.
Любаша, Любаша, улыбалась всем бабкам, не гордилась, хоть и москвичка, а все равно русская, ну баба и баба…
Эдуард подошел к зеркалу, быстро глянул в него, не узнал там никого и понял, что прежней жизнь уже не будет, она ушла, эта жизнь, вместе с Любой, а жизнь без Любы еще не пришла, и он повис на нитке прямо над землей, на которой взрываются женщины.
Кто?
Когда в лоб задают хоть какой вопрос, редкий человек, если он скорее старик, чем ребенок, ответит навскидку. У малышни-то, ясно, на любой вопросик сразу же и ответик имеется.
На следующий день, выезжая на работу, Э. Бересклетов вспомнил, как за неделю до Любиной смерти чуть не наехал на одного такого толстого и свиноподобного молодого мужика, который нес под мышкой коробку, мятую и масляную, кажется, с консервами. И на сигнал уронил ее и обложил генерала таким матом, который даже сам Эдуард позволял себе нечасто.
– Куда е…! ..! …ть! …уй! …!!!
Может, он подложил заряд Любе под днище «виктории»? Эдуард, отъехав тогда от матерящегося на всю улицу Брэка, а это был Брэк, – позвонил прямо из машины в Южный ОВД участковому Кладовкину и с красным негодующим лицом тогда еще предупредил:
– Имейте в виду…
– Конечно, – быстро нашелся участковый.
И кража двух черно-белых телевизоров, пары почти новых ботинок и двадцати одной банки просроченных фасолевых консервов в свином желе раскрылась практически сама собой, и в небывалые сроки. Правда, Брэка до суда (Маятника он не выдал) отпустили, где же на него в СИЗО харчей напасешься?
– Могли, – подъезжая к воротам хранилища с ОЯТ и останавливаясь у первого шлагбаума, задумался и не заметил, что шлагбаумщик, моргая глазами, смотрит на него уже четверть часа.
Кто же еще?
Может, «зеленые»? Вспомнив тот московский десант, взбудораживший почти на неделю, хотя взбудоражились в основном местные власти. Нужно подумать, вспомнить, проанализировать.
И еще один недруг имелся, но… Он сейчас сидел в Москве, в Совете безопасности и, по проверенным данным, занимался исключительно набиванием собственных счетов в цюрихском и кельнском банках.
Нет, нет, не они, сжав голову руками, не поверил в воспоминания генерал.
Кто?—2
Соборские мужчины никогда не отличались богатырским ростом, и Брэк с Маятником выглядели на сером фоне низкорослых горожан впечатляюще. Молодые и перспективные, сдобный флегматичный Брэк и хрупкий, постукивающий при ходьбе костями Маятник. Их видно было за две улицы.
Оба – не подумайте чего плохого – работали. Рыли могилы за наличные деньги на дальнем Царевском кладбище, а ближнего в Соборске и не было никогда. Историческая несправедливость.
А так как на Пухляковской, кроме этих двух вышеозначенных персон, никаких других хулиганов не наблюдалось, автоматически – по звонку генерала – их стали проверять. Где в момент взрыва иномарки генеральши находились оба – Роман Шмильевич Брыкин и Евгений Рустамович Ариффуллин. Если по-простому – Брэк и Маятник.
И ничего подозрительного обнаружено не было. С утра они рыли могилу. Одному такому, Апухтину, который сам, без чьей-либо потной руки помер, опившись водкой. Чем изрядно облегчил жизнь своей замученной им же семье.
Доподлинно также выяснили, что никто ни в то утро, ни днем раньше не видел приезда ни одного «зеленого» москвича, которым ядерная свалка отчего-то была вроде кости в горле. Хотя, собственно, им-то какая разница? Москва далеко, ну что суются? Правда, часть радиоактивных составов, не все, а только небольшая часть, шла через Москву.
Ну и что же? Одним словом – перестраховщики. Сами боятся и другим спать не дают, внушают всякие ужасы.
И поэтому поиск убийц генеральской жены продолжался. Правда, Ефима Гаврилыча Голозадова никто и не подумал причислять к мировому террору. Ну, скажите, вы часто видели в «Дорожном патруле» девяностолетних бомбистов? Я ни разу. И никто не видел.
Ну так, попало во внимание, что дед Голозадов что-то ремонтирует у себя во дворе. Навез откуда-то на тележке старых огнетушителей и что-то мастерит. Старый человек, одним словом.
Доживает дни.
Что ему надо?
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, – тихо сказала Фаина и удивилась – вроде никого нет, никого она не видела, кто же это с ней здоровается, кому она отвечает.
Шел сорок какой-то день после похорон Любы. Моросил прозрачный дождик, как раз в пространстве между глазами и улицей.
Тетя Фая шла вслед за коровой, и шли они от ветеринара.
– Скажите, – глухо в спину произнес голос сзади, тетя Фаина обернулась. Между воротами и дорогой стоял новоиспеченный вдовец и смотрел на тетю Фаину сквозь дождь. «Болеете?» – чуть не спросила тетя Фая, но в последнее мгновение не смогла, все-таки не дед Сережа перед ней, а большой начальник, как ни крути. «Какой он немолодой уже, кожа нездоровая, – удивилась про себя тетя Фая. – Вот ведь генерал, а какой страшенный, ой, грех, грех так думать, Господи прости». И все равно вспомнила своего папу Александра, как-то получалось, что всех увиденных мужчин Фаина сравнивала только с ним, с ним – с высоким, русым папой, вылитым Иван-царевичем, и в глазах его было – по счастью. А ведь простой крестьянский парень и на той войне рядовой солдат, а вот никакого сравнения, снова подумала она.
Бронзовая машина мокла, под дождем на крыльце сторожки стоял солдатик Эммануил и опекал своего генерала.
– Здравствуйте, – еще раз сказала тетя Фаина. – Ты иди, а я сейчас, – обернулась она к застопорившей шаг корове.
– Скажите, а та великолепная кошка жива еще? – смахивая дождь с бескровных губ, глухо спросил генерал.
– Какая-такая? – переспросила тетя Фая через силу. Как-то быстро начало темнеть. Мимо шли люди, проехало несколько машин. Шестой час пасмурного весеннего вечера. Не нравился, ну никак не нравился ей этот пришлый и облеченный чем-то ей совсем ненужным некрасивый длинный человек, хоть и горе у него, а у нас-то горя сколько… Ну и что же, что генерал, а по мне-то он хоть дворник, решила про себя тетя Фаина.
– Помните, я о той лучезарной серой кошке, которая как-то поселилась и жила у меня, – глядя мимо тети Фаи куда-то сквозь дождь, под дерево, буровил что-то свое, одному ему известное и понятное генерал. – Вы помните?..
– Мы нет, не помним, – сказала, как отрезала тетя Фая и пошла прямо по лужам к себе домой. Бересклетов что-то еще говорил ей вслед, что-то тихо, но назойливо, тетя Фаина сморщила старенькое лицо и, выставив вперед мокрый нос, пошла быстрее, как обычно здоровый человек торопится отойти от больного. И когда вошла в свой дом, устроив Малышку в теплом дворе меж двух куч сена, уселась, мокрая, в тяжелом платье на стульчик в сенях и сидела, не замечая, как ей холодно.
Кошки сидели на сухом пороге и мурчали, «Бабушка, давай поедим», – сверкали по очереди янтарные кошачьи глаза.
Эта достойная кошка… Эта умнейшая кошка… Она у вас? Жива? Или умерла? Переваривала про себя эти ненормальные, на ее взгляд, генераловы слова, сказанные ей в спину, тетя Фаина. Безумные слова.
А ближе к полуночи, когда Фаина только-только ткнулась щечкой в подушку, смежила веки и провалилась в сон, как в яму, ее серая кошка забралась сперва на дерево, с него на крышу и долго, долго смотрела из темноты на дом Эдуарда, в котором огни горели так ярко, словно это и не дом вовсе, а лайнер супер-фаталь «Титаник» и жить этот корабль будет, пока чья-то любовь своим дыханием держит его на поверхности, пока не устанут янтари кошачьих глаз удерживать эти огни. Вот отвернется Тишинька – и все, не станет миллионного домика, провалится в тартар или даже глубже.
А что, думаете, держит соломинку вашей жизни, что? Случай или кто-то с надписью судьба на лбу, нет. Чья-то любовь или ее огарочек. Правда, я знаю.
Проклятушки
Шелковый экран с розовым парусом в тумане… Такая вот картинка, шанхайская аппликация висела над Фаиной кроватью. Фая просыпалась, гладила картинку рукой, и сердце тук-тук, тук-тук-тук! День начинался для нее с самого раннего утра и шел себе, шел – столько дел, только успевай.
Был апрель, а тетя Фаина не знала, как сказать корове, что за телочкой сегодня приедет покупательница – Брюсова такая, из Лепешек. Давно просила у Фаины белую телочку, а три года подряд все бычки и бычки.
– Старая уже, не справляюсь с вами, – оправдывалась перед коровой тетя Фаина.
Малышка плакала, когда дочку укутали в красное байковое одеяло и усадили в «Газель». Маленькая телка кричала таким густым басом при расставании с матерью, что тетя Фаина не заметила, проворонила, проглядела – Тишиньки-то нет, опять снова-здорово пропала. Подросшие котята спят под столом на старой кофте, а…
Вечером тетя Фаина села, потом дотянулась и включила телевизор, долго тыкая в сумраке вилкой в розетку.
– Тишка, – вспомнив, позвала она кошку. – Тишка, я давно хотела тебе сказать, зачем ты мышку лапами топтала? Нет, ну поймала, ну давай с ней играть, лапкой подбрасывать, а зачем ты по ней прыгала, Тишка? Нет, ты скажи!
А за столом, подперев кулачком левую щеку, сидела по-соседски и ждала начала телепередач Маруся Подковыркина.
На экране возник улыбчивый добрый дяденька, внизу на экране буковки складывались в фамилию нового министра атомных дел. Румяный.
Тетя Маруся сразу воткнулась головой в экран и стала слушать, повторяя за министром окончания слов.
– Добрый какой, – кивнув на министра, взглянула на Фаину Маруся.
А министр Румяный, улыбаясь душевно, очень доходчиво простыми словами объяснил, как сильно повезло этой нищей стране, что он и министр Одамов провернули выгодную сделку, и теперь все отработанное ядерное топливо свезут в Россию. Оказывается, делился радостью Румяный, весь остальной мир страшно не хотел отдавать России мусорную радиацию, но Румяный с Одамовым подсуетились, изловчились, вывернулись и подписали контракт на все ядерные отходы, на какие только смогли подписать.
– Очень повезло, – закончил, улыбаясь с такой добротой, что у обеих старух поднялись дыбом волосы, новый атомный министр и потер ручки в предвкушении чего-то, видно, очень ядерного и мусорного.
Фая с Марусей переглянулись, и Фая впервые за шестьдесят девять лет жизни сказала:
– Хорошо детей у меня нет.
– И у меня, – как эхо, повторила похожая на высохшее деревце Маруся.
– Чего творится?
– Да. Ни одна баба, будь сто раз министром, не согласилась бы свою землю убивать.
– Думаешь, у них жен нет?
– Вот и я не пойму, чего ж они им сковородой по голове не втемяшили? – вздохнула Маруся, потом перекрестилась на Божью Матерь в углу, отвернулась от телевизора и топнула на котят.
– Тишка, Тишка, – снова вспомнила Фаина. – Мань, ты не видела?
– Отстань, не мешай! – тетя Маруся взяла с края стола старую газету с дырой посередке, свернула ее в толстый кулек и, поглядывая на экран, ткнулась в кулек носом: – Шу-шу-шу-шу…
– Ты чего это, Марусь? – Фаина, поискав глазами Тишку и не увидев, встала и пошла в сени. – Ты чего, ворожишь, что ли? – обернулась она от дверей.
– Отстань, – глухо, в кулек сказала Маруся и опять: – Пшу-шу-шу! Пшу-шу-шу!
– Тишка, киска! – позвала в сенях тетя Фаина. – Нет, не могу! Тишка! Нет, вот посмотришь телевизор и хоть умирай! Вот ведь пожилой старик уже, академик ученый! Марусь, ну ты чего? А такое горе своей земле принес! И еще улыбается, врет в глаза и улыбается, ирод-предатель. Ведь врет, что безопасные эти отходы, Марусь! Может, они сумасшедшие? Или так денег хотят, что с ума сошли? А зачем тогда сумасшедшего показывать? На телевиденье-то как с умом? Или любой сумасшедший может прийти и долдонить, как хорошо и выгодно свою землю облучать? И людей по-тихому в могилу сводить? И какое это доходное дело? Марусь, ты чего там шипишь? – заглянув в комнату, спросила Фаина у Подковыркиной, которая так и сидела с газетным кульком в левой руке и, спрятав в него нос, вращала глазами.
– Ой! – вдруг вспомнила про Тишку Фаина. – Ой?
И, накинув на плечи телогрейку и быстро сунув ноги в сапоги, вышла из дома. Но ни на крыльце, ни в саду, ни у калитки Тишки не наблюдалось.
– Сейчас найду, Тиша, Тиша, Тиша! – позвала тетя Фая. – Ах, да вот ты!
Но по дороге мчался кот Пурген, Маруськин кот, узнала тетя Фая Василия и побежала следом. Фаино сердце чуть не выпрыгнуло за котом, но все равно бежалось почти весело.
– Сейчас найду, Пурген, где Тишка-то? – спросила Фаина кота. Но кот исчез.
Тетя Фаина посмотрела в темноту налево, посмотрела в темноту направо, потом на фонари у бересклетовского дома, прислушалась, позвала, подождала еще, сколько смогла, пока не замерзла, и решила идти обратно домой.
Ноги не слушались, не хотели идти назад без Тишки, но как-то шли. Тетя Фаина прикрыла калитку и пошла к дому, и вот за полшага, как ей войти, дом затрещал.
– О господи, – отшатнулась тетя Фая и поглядела на всю махину своего родного дома, который был такой же большой для нее, как муравейник для муравья.
Дом снова затрещал, вздохнул и затаился.
«Затаился», – подумала тетя Фая и с опаской вошла в полутемные сени.
В телевизоре что-то верещало, лампочка-колокольчик над столом мигала, котят не было видно, а подруга Маруся что-то исступленно втолковывала шепотом в газетный кулек, прижав его к сухим губам. Глаза у Маруси сверкали навроде зарниц, и пахло чем-то! Горелым навозом, что ли?..
– Ой! – принюхалась Фаина. – Пожар, что ли? Маруська, караул!
– Не мешай! – быстро, как от мухи, отмахнулась Маруся.
– Ты чего это? Ты чего это тут раскомандовалась? – Фаина стянула телогрейку и требовательно повторила: – Эй! Я с тобой говорю. Ты чего?..
– Проклинаю, не мешай, – быстро и очень буднично сказала Маруся, даже не взглянув в Фаину сторону.
– Кого?






