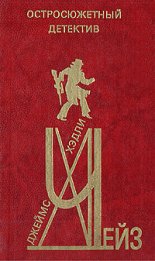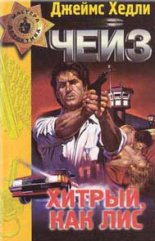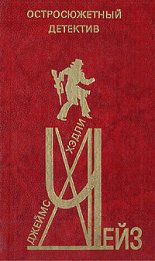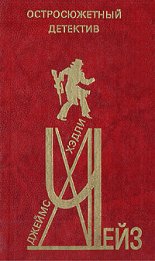Маньяк Куберский Игорь

Ночь первая
Ровно в двенадцать ночи я начал спуск. В это время она заканчивала принимать ванну. Через минут пять она появится в своей спальне в шелковой, золотистого цвета пижаме. Она сядет на круглый пуфик перед зеркалом и, пристально глядя на себя, будет расчесывать волосы с потемневшими от воды кончиками. У нее серьезное, почти строгое лицо, и видно, что мысли не отпускают ее. В квартире она одна. Я узнал о ее существовании лишь неделю назад, и вот уже третий раз отправляюсь к ее окну. Сегодня воскресенье – вернее, уже понедельник. На стене я проведу час-полтора – завтра я работаю.
Этот дом я облюбовал прежде всего потому, что двумя стенами он обращен в парк, к деревьям, откуда в этот поздний час меня никто не увидит. Фонарей в парке нет. Ночь теплая, в ней еще слышится дыхание только что миновавшего августа, первой опавшей листвы. Вообще, август и сентябрь – мои любимые месяцы, когда тепло и темно. Я жду их целый год, готовлюсь к ним, усовершенствуя свою технику. Я, конечно, могу бродить по стенам в любой сезон – холодной зимой и в слишком светлую пору весны и лета, но конец лета – начало осени – это для меня звездное время. Моей экипировке позавидует любой альпинист. На нее я трачу добрую часть зарплаты. Основное мое требование к ней – легкость, прочность и компактность. Большая часть моих спусков или восхождений проходит без страховки. Мизерного заработка старшего библиографа, а я работаю в Государственной публичной библиотеке, на это, естественно, не хватило бы, и время от времени я подряжаюсь на различные высотные работы, когда хотят сэкономить на лесах: крашу стены, спускаясь на дощечке, кладу на высоте двенадцатого этажа отвалившуюся плитку, залезаю на проржавевшие купола церквей. В городе меня в этом качестве знают и зовут, когда нужно. Но никто не знает о моем хобби.
Стена еще теплая. Потравливая лавсановую веревку, я спускаюсь в петле, пропущенной сквозь кольца на моем поясе. На стене у меня нет соперников – я тут хозяин. Но, как и в дикой природе, есть у меня и естественные враги – бомжи, живущие на чердаках и испытывающие какой-то патологический интерес ко всякого рода веревкам, да ночные балконные курильщики. Поэтому стена с балконами и лоджиями для меня – зона повышенного риска.
Я невысокого роста – 167 см. Но Михаил Барышников еще ниже. Между прочим – это рост Пушкина, которого традиционно считают маленьким. Видимо, из-за Натальи Гончаровой, которая по тем временам была просто дылдой – 174 сантиметра. Я русый, широкоплечий, с узкой талией и легкими ногами. Руки – мое главное оружие. И еще – отсутствие страха высоты: для меня все равно, где жердочка, по которой надо пройти, – на земле или на высоте десятиэтажного дома. В детстве я лучше и быстрее всех лазил по деревьям. Но больше всего я любил лазить по развалинам, в старых ремонтируемых домах... Однажды я чуть не погиб... Тогда подо мной рухнул в пролет целый лестничный марш, и я чудом остался жив, зацепившись за перила лестничной площадки, повисшей на арматуре...
Два самых сильных и несбывшихся желания моего детства – быть невидимкой и уметь летать. Хождение в ночное время по вертикальной стене – это все, чем я смог заменить в подлунном, железобетонном мире свои золотые грезы.
Вот и ее окно – я приспускаюсь ниже, так чтобы моя шея была на уровне карниза и... утыкаюсь в тяжелую малиновую штору, которой она завесила всю ширину трехстворчатой рамы. В панике я быстро перебираю ногами, смещаясь к левой стороне, но там между косяком и краем шторы – лишь узкая щель, слишком далекая от меня, чтобы приникнуть и расширить угол обзора. Итак, сеанс окончен. Мне трудно пережить крайнее разочарование, и я готов стучать в стекло, открывать форточку, залезать на балкон... Но, слава богу, у нее нет балкона – балконы здесь через два этажа, и можно только подивиться идиотизму архитектора, расположившего их так по своей эстетической прихоти. Впрочем, допускаю, что идиотов тут было два: он плюс экономист, или даже три – оба они плюс Советская власть, которую я вспоминаю без ностальгии. Дом совковый, панельный, начала семидесятых, когда строили очень много и очень плохо, зачастую оставляя щели между панелями в палец или даже в руку толщиной, которые я по заказу жилконтор затыкаю паклей и замазываю до сих пор.
Зачем она зашторила окно – ведь за ним никого и ничего... кроме меня и тьмы. Чем мы ей помешали? Или сегодня она не одна? Кровь ударяет мне в голову. Как, по какому праву?! Как же я это упустил? Или надеялся, что она всю жизнь будет одна садиться перед зеркалом, а я, затаив дыхание, смотреть? Я перебираюсь к кухонному окну, но оно занавешено и темно. Я подтягиваюсь к открытой форточке на почти неслышно стрекочущем ручном подъемнике – хитрая система шестеренок позволяет почти не тратить при этом усилий – и жадно вдыхаю тихо веющий в лицо воздух женского жилья, пытаясь уловить в нем слабый аромат ее духов, растворенный в запахе кожи, влажного полотенца, только что обнимавшего ее, льнувшего к ней в самых сокровенных местах, или хотя бы мыла, которым дышит сейчас ее омытое свежее тело. Где та вода, что жемчужными струйками разбегалась по ее шее, ложбинке спины, плечам и груди и снова собиралась у ее таинственного лона в прозрачный нервный жгутик, сладко вздрагивающий от соглядатайства и приобщенности к тайне? Тот жгутик – это я... Нервы мои напряжены до предела и мне срочно нужна разрядка. Иначе я сойду с ума.
Словно из мести, я бросаюсь на поиски другого окна, которое, пусть лишь условно, заменит мне окно моей неверной возлюбленной. Я перебираю интимные подробности чужих жизней, словно листаю, забравшись в детстве под одеяло с фонариком, толстую дореволюционную книгу с картинками под ошеломляюще-бесстыдным названием «Мужчина и женщина»... Там, в теплой пещерке собственного мира, я испытал самые восхитительные коитусы, которые потом уже никогда не повторились.
...На десятом этаже голая двенадцатилетняя девчушка изучает себя, стоя задом к трюмо и опустив голову между коленей. Что она там видит, мне неведомо, потому что зеркало – боком к окну, за которым я подзавис, но я легко могу себе это представить. Однако сцена оставляет меня глубоко равнодушным – нимфетки не в моем вкусе, – и я спешу дальше, к еще освещенным окнам. На том же десятом муж и жена средних лет лежат по разные стороны огромной супружеской постели – у каждого свой ночной столик, свой светильник – читают, спиной друг к другу. Для этих секс – в прошлом. В лучшем случае, они время от времени громоздятся друг на друга, чтобы избавиться от зуда в чреслах. Если бы мне предложили за ними понаблюдать, я бы попросил плату и желательно вперед. На девятом мне попадается сцена позанятней – два юнца лежат в обнимку, закатив глаза, в ушах – черные раковинки наушников: накурились или нанюхались, поимели друг дружку и теперь оттягиваются на музыкальной волне. Нирвана... Голубых не терплю. Наконец на шестом этаже – крайнее окно слева, мне попадается примерно то, чего и хотелось. Одинокая миловидная женщина лет сорока в фиолетовой сорочке на тонких бретельках, без трусиков, грустно мастурбирует на старинный манер, многажды запечатленный художниками, – зажав между ног подушку. Она придерживает ее левой рукой, как мужской зад, правая же – между ног... и видно, что рука эта ее давняя верная подруга – не предаст и не подведет, хотя чудес и волшебных превращений от нее ожидать и не приходится.
У меня два варианта – испытать оргазм прямо здесь, на стене, обрызгав ее на память опаловым фонтанчиком низменной страсти, или же открыть окно, тихо войти и спокойно изнасиловать жертву, зажав ей рот рукой. Можно и соблазнить, но для этого потребуется больше времени, а мне завтра с утра на работу. В разное время мне хочется разного. Сегодня я оскорблен и отвергнут ради кого-то – месть моя будет стремительна. На несчастье или счастье сорокалетней дамы, у нее есть балкон – дверь в комнату, окно на кухню. Я неслышно перелезаю через перила, отпускаю конец веревки, дергаю за другой, и она, перелетев через блок, оставленный на крыше то ли строителями, то ли кровельщиками, поднимавшими в бадье свою смолу, возвращается ко мне, – легко, как капли воды, простучав по перилам балкона. Звук этот не привлекает внимания моей сегодняшней избранницы, которая, похоже, уже всерьез увлечена воображаемым партнером. Пора в него воплотиться.
Я решаю начать с кухни, точнее, с коридора, в котором темно и глухо – лишь там, где двери в туалет и ванную – слабый блик света из щели под дверью в комнату. Надо срочно чем-то пошуметь, а то она там кончит без меня и будет потом вялой, как размороженная пикша. Я останавливаюсь возле вешалки, на ощупь снимаю что-то вроде плаща и прямо с плечиками бросаю на пол. Звук негромкий, но явственный под названием «что-то упало». Может быть включен в каталог звуковых файлов компании «Микрософт». Дверь в комнату открывается, и я вижу силуэт своей избранницы – в одной короткой сорочке, доходящей ей до голых бедер, линии которых мне безотчетно приятны. Настороженно вытянув вперед шею, она идет к выключателю возле входной двери, но тут же спотыкается о свой плащ, поднимает его – я делаю шаг и, оказавшись за ней, правой рукой властно хватаю за талию, а левой накрепко закрываю рот.
Ее придушенный крик уходит в мою ладонь, а тело дергается, будто прищемленное в мышеловке. Она может сейчас потерять сознание, и, чтобы этого не случилось, я приникаю горячими губами к ее уху и тихо безостановочно говорю. Почти неважно что. Голосом можно творить чудеса.
– Простите меня, мадам, что испугал вас, – говорю я. – Но вам нечего бояться. Я не насильник и не вор, я просто несчастный человек, который пришел просить у вас милостыню любви. Дайте ее, и ни один волос не упадет ни с вашей головы, ни с вашего лона. Разве мы с вами не одиноки? – Голос у меня – вкрадчивый баритон с бархатными низами и гибкими модуляциями. Выражаюсь я старомодно, велеречиво, как три мушкетера Александр а Дюма и рыцари круглого стола короля Артура. Я воспитан в лучших домах и исповедую культ Прекрасной Дамы. От меня пахнет дорогим одеколоном «Минотавр», перемешанным с молодым мужским потом – увы, трудно не вспотеть на стене, – и если мне позволят раздеться, я продемонстрирую великолепный торс мужской фотомодели с обложки модного дорогого журнала для женщин.
Наконец избранница перестает биться в моих руках, и по ее движению я чувствую, что она хочет вступить в диалог. Я отпускаю ее рот – не талию, которая по-прежнему в капкане моей железной руки, – и слышу:
– Кто вы такой, что вам нужно? – судя по голосу, она смертельно испугана и сбита с толку. Голос у нее вполне интеллигентный, и я облегченно вздыхаю. Поведение интеллигенции, в общем, предсказуемо.
– Ничего, мадам, абсолютно ничего мне не нужно, – отвечаю я, – ни золота, ни бриллиантов. Ни жизни вашей. Я не насильник и уважаю чужую свободу и право выбора. Если вы мне скажете уйти – я уйду. Но прежде прошу вас меня выслушать. – Меня разбирает смех от собственных слов, и я едва сдерживаю улыбку.
– У меня нет золота, – говорит она. – Уходите, я не хочу вас слушать. Я позову милицию.
– Это совершенно невозможно, мадам, – говорю я. – Я не дам вам сделать ни шагу... – Рука моя быстро опускается с талии и оказывается у нее в промежности – приятно горячей и кудрявой.
– Ай! – тихонько вскрикивает женщина, и этот беспомощный вскрик жертвы привычно и безотказно возбуждает меня. Теперь она понимает, что мне нужно, и ее трясет, будто под током.
– Вы не смеете, вы не смеете! – повторяет она свистящим шепотом, обхватив руками мою беззастенчивую руку, пытаясь вернуть себе то, чем я завладел. Но в ее движениях нет решительного протеста, и я продолжаю:
– Я бы не посмел, мадам, если бы не видел, как вы занимались рукоблудием. Где ваш мужчина? Почему вы одна? Такая женщина!
– Я не одна. Ко мне должны прийти.
– Никто к вам не придет, иначе бы вы не занимались таким грустным делом.
– Вы – маньяк! – слышу я и охотно соглашаюсь:
– Да, это правда, мадам, и потому советую быть со мной поосторожней. Я сам не знаю, на что способен в минуту гнева.
Тем временем, несмотря на помеху из ее рук, мои пальцы торопливо оглаживают ее пах, теребят мокрый пупырышек клитора, окунаются в смазку ее довольно упругой вагины. Женщина закидывает голову, и я слышу, как у нее перехватывает дыхание.
– Вы меня не убьете? – слышу я и тихо смеюсь:
– Конечно нет, мадам... Если вы не будете шуметь. Знаете правила поведения жертвы? Отдаваться, когда нет иного выхода. Расслабиться и получить удовольствие.
– Вы – не мужчина...
– Это правда, мадам. Я не мужчина – я импотент. Меня возбуждает только то, чего нельзя.
– Я вас презираю...
– Я тоже, – отвечаю я.
Она начинает плакать. Так-то лучше.
Силой я ставлю ее на колени и мгновение жадно изучаю в полумраке коридора ее вздрагивающие от всхлипов небогатые сокровища. Талия у нее узкая, а зад плосковат, и вся его гладкая масса пошла на ширину, но сам переход от узкого к широкому красив. Опустившись, я с удовлетворением тихонько сжимаю его с боков, подправляя под себя, потом достаю свой восставший фаллос и нежно, его головкой, глажу влажную промежность женщины. Она вдруг перестает всхлипывать, как бы прислушиваясь к неожиданным для себя ощущениям. Наконец я медленно и властно погружаюсь и слышу ее невольное «ух».
Что такое вагина? Мускулистая трубка, в которой, как поршень в цилиндре, ходит член, вырабатывая, вернее, тратя огромное количество энергии. Почему же она мне так дорога, что я готов на безумства снова и снова?
...Резко выдернув фаллос, так что широкие скулы его головки выбрали из глубины добрую порцию капнувшей на пол смазки, я быстро переворачиваюсь на спину и жадно слизываю ее остатки с прилегающих к незакрывшейся дырочке складок, чуть горчащих, как дымок от палой листвы в осенних садах. В таком положении я довольно уязвим и беззащитен, но женщина и не думает воспользоваться этим – она дрожит, и дрожит, и дрожит, молча, как ученица на уроке маэстро.
И в это время раздался звонок в дверь. Прямо как в знаменитой кинокартине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», вздумай он снять ее, так сказать, сексуальный вариант. Машинально я глянул на свои светящиеся часы – была половина первого: время прибытия загулявших мужей и недогулявших любовников. Но мужья открывают сами... Я сделал резкий нырок от ее беззащитного испуганно-податливого лона к ее лицу, засветившемуся надо мной, как печальная луна, и грозно прошептал, крепко схватив женщину за плечи: «Молчать!». И она – о Господи, неисповедимы пути Твои! – готовно кивнула мне. Теперь она будет моей верной рабой – я надену ей ошейник и выпущу погулять. Она будет бежать рядом и повиливать хвостом, заглядывая мне в глаза. И за что? За минуту пронзительной ласки, которой она – бьюсь об заклад – никогда не знала...
– Кто это? – оставаясь под ней, уже как хозяин шепнул я.
– Так, один... – повела она небрежно плечом. Плечи у нее были на диво хороши, а под сорочкой круглились не потерявшие форму груди, похоже, не кормившие детей.
Я снизу поддел туда руки и стал тихо катать между пальцами ее еще свежие соски. Женщина часто задышала носом и упала мне лицом на щеку. Я запустил левую, мою более энергетическую руку в пряжу ее довольно густых, но нежных, как паутинки, волос и послал луч ослепительного импульса ей в затылок. Не знаю, может, все это мне только чудилось, но после того, как женский затылок оказывался на моей левой ладони, я мог делать все, что хочу. Не помню случая, чтобы было иначе.
Дальше началась какая-то сплошная «Песнь песней», постепенно переходящая в «Вечера на хуторе близ Диканьки», потому что звонок звонил и звонил, и было три варианта – не открывать, открыть дверь и набить морду или открыть лишь на цепочку и объяснить, чтобы не шумел, не будил соседей, а по-тихому уматывал, пока метро не закрылось. Надежда – черт подери, ее звали Надеждой! – так и сделала. Свет она, естественно, не включила и пока она убеждала в щелку неразумного дядьку по имени Володя не валять дурака, я, удобно пристроившись сзади, не избежал искушения воспользовался другой щелкой. Самое забавное было видеть, как корчилась она перед очами экс-любовника, объясняя свои судороги менструальными болями в паху.
– У тебя ж только было, – оторопел памятливый Володя.
– Снова началось, – сделав глубокий вдох по вхождении моего фаллоса, нашлась Надя.
Ночь мы провели в каких-то безумных скачках – со сменой седоков и лошадей. «Ах ты, озорник! Ах ты, проказник!» – счастливо смеялась она, обнаружив изобретательность почище моей. Я вернул ей детство, не сказав только о плате. Рано утром я ушел, не попрощавшись, – лишь взяв с балкона свою экипировку, умещающуюся в маленьком компактном рюкзаке. Впрочем, я обещал на днях зайти. Только и узнала она, что я искатель ночных приключений по имени Матвей, умеющий проходить сквозь стены, и что у меня было несчастливое детство. В свете утренней зари ее спящее лицо утратило одухотворенность, и я с облегчением закрыл за собой входную дверь.
Я, естественно, не всегда был маньяком, тем более вуайеристом, хотя наблюдение за тем, как занимаются любовью другие, с детства гипнотизировало меня. За собой не наблюсти – не только, так сказать, пространственно,[1]но и – психологически, потому что секс это, может быть, единственное наше состояние, кроме сна, которое нам неподотчетно, трансцендентно, эзотерично. Есть даже мнение, что секс – это канал, по которому каждый смертный, независимо от звания и количества извилин в двух полушариях, имеет приватный выход к Богу, и что наш оргазм, высшее наслаждение, данное нам на земле, – это и есть выражение любви к Господу, самопожертвование и религиозный экстаз. Для меня в этом что-то есть. Ведь не женщину же мы любим, кончая в нее. В этот миг ее вообще не существует, она исчезает, и вместо нее на том берегу, к которому мы вечно стремимся, вспыхивает Благодать, Блаженство. Интересно, что эти слова, дошедшие до нас из старославянского, включают в себя обертонные понятия благого как слабого, плохого, дурного.[2]Так в живописи порой требуется темный фон, чтобы на нем светилось желаемое.
Вуайеризм – он для продвинутых в эротическом аспект е, не случайно его любят старики. Для них это не зуд угасающих гениталий, а просветленный зов. По мере старения плоти ее эго становится альтруистичным – таков естественный путь к прозрению. Число же прозревших в моем возрасте смехотворно мало – все они записаны в светочи человечества. Потому я и живу пока в грехе, что прошел лишь полпути, данного мне для нахождения истины.
Соитие двоих перед моими глазами – всегда повод стать в нем третьим. Редко мне удается остаться возвышенным, физиологически безучастным, хотя это моя высшая цель. Немощный старик, познающий юную деву гениталиями своего сына, – вот формула продолжающейся жизни. Вперед, мой мальчик, покажи ей, на что мы способны... Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Кстати, проблемы русского православия в том, что и через тысячу с лишним лет после крещения мы остаемся язычниками.
За рождением Христа, который для меня, безусловно, фигура реально-историческая, явно стоит какой-то темный адюльтер его матушки, сокрытый цензором-евангелистом. Скорее всего, Иисус – бастард, или, по-нашему, выблядок, как изволил выражаться о своих незаконнорожденных детях наш национальный гений Александр Сергеевич. Мальчик, рожденный в хлеву от Духа святого,[3]несомненно страдал от комплексов. Возможно, неродной отец его даже поколачивал. Откуда еще было взяться столь нечеловеческой силе духа как не из борений с собственной злосчастной судьбой. Не отсюда ли – и его «оставь жену, дом свой, детей своих – иди за мной». Разрушитель семейных уз, он никогда и не любил семью, удовольствовавшись объятиями падшей девки, – для таких, как он, это весьма характерно.
Нужно ли еще пояснять, что он мне близок. Христос – бунтарь-одиночка, а бунтарство в разные времена самоосуществлялось по-разному. Покопайтесь в детстве великих бунтарей, и вы едва ли найдете там хоть одну мало-мальски счастливую семью.
Если я и принимаю христианство, так это за его явную гетерогамию. «Песнь песней»... – до сих пор удивляюсь смелости духовных отцов, не изъявших ее из Священного Писания. Слышите? – любовь между мужчиной и женщиной священна. Время однополых соитий – это время Сатаны. Но о Сатане как-нибудь в другой раз. Пока же ограничимся демоном бедной Мойбеле из спектакля на сцене одного из питерских драмтеатров. Да, всего лишь этим единственным в своем роде спектаклем, который я им устроил, слегка изменив сценографию центрального эпизода.
Откровенно говоря, меня меньше всего интересовала режиссура, сама концепция, так сказать, и все эти флюиды между залом и сценой, создающие из театрального действа подобие животворного чуда, – меня интересовала лишь главная героиня, вернее, не она, а актриса, играющая эту роль, великолепный образчик женщины-Матери, вылепленный по образу и подобию пышных матрон Рубенса, от каждой из которых было взято только самое лучшее. Вообще-то я Рубенса не люблю, и его целлюлитные телеса с детства вызывали у меня отторжение, но актриса Ома, так ее назовем, самими уже звуками обозначив ее статуарность, была мне знакома еще девочкой по Вагановскому училищу, которое она, как и я, не закончила, причиной чего была ее стремительно проявившаяся к пятнадцати годам избыточная телесность. Посмотреть на ее мегабюст сбегался чуть ли не весь незанятый мужской контингент училища, включая тех из педагогов, которые остались верны прекрасной половине человечества... Бывал там и я, тогда еще непорочный и никого, кроме самого себя, не познавший. Женщина с такими формами просто напрочь переросла балет.
И вот она закончила Театральный институт, и вот она стала актрисой, и как-то я про нее совсем забыл, пока однажды, проходя по Литейному, не увидел ее лицо на афише и не узнал знакомые очертания передних полушарий, естественно, не ускользнувших от взгляда фотографа и дизайнера. Еще не имея никаких задних мыслей, движимый скорее ревнивым любопытством насчет того, как она устроилась в этой послебалетной жизни, что умеет, талантлива ли, я купил билет и посмотрел спектакль, который мне, в общем, пришелся по душе, потому что эта бедная еврейская девушка Мойбеле оказалась из нашенской, маньячной, породы, – то есть законченной нимфоманкой, идентифицирующей свои исконные плотские позывы с поисками Бога. Не думаю, что она, девица в добром уме и здравии, действительно не отличила бы Ангела от тощего возлюбленного, который под шумок ангельских крыльев ее периодически имеет.[4]Значит, хотела не отличать – уж больно сладка была музыка, звучавшая из раскрывающихся чресл.
Играла Ома неплохо, хотя артистизм ее проявлялся скорее в пластике и в низких гортанных модуляциях как бы омытого прохладной влагой голоса, чем в собственно психологическом рисунке образа. Ну да мне было неважно, потому что я, как зачарованный, следил за сценическими перемещениями ее бюста, заостренного привставшими сосками, странствующего по Вселенной Моих Чувств. Похоже, то же самое испытывали в зрительном зале все одинаковой со мной ориентации плюс лесбиянки, жертвы негативного, по Юнгу, материнского комплекса. Теперь, уже зрелый, так сказать, видавший виды муж, я с почти забытым телячьим восторгом взирал на эти божественные груди, понимая божественность, как самое первое, что даруется нам по вхождении в эту жизнь, даруется как утешение за ее жестокость, которая встанет в полном объеме, когда нас однажды и навсегда от этих грудей отлучат.
И я ее захотел. Но она, конечно, оказалась замужем. При таком приданом иначе и быть не могло. Разве что она могла бы выходить замуж ежедневно. Мне же хватило бы и десяти минут в промежутке между двумя замужествами. В общем, я загорелся, а поскольку по гороскопу я Телец, то не собирался отказываться от своей затеи даже ввиду ее абсолютной неосуществимости. Что нам мешает? Только собственная робость. Именно ее мы экстраполируем в будущее и поэтому имеем нулевой или отрицательный результат. Наши комплексы состоят из наших собственных проекций. Попробуйте дуриком, на голубом глазу, закинуть в этот омут самую наглую свою идею, и, уверяю, вам попадется в сеть золотая рыбка. Каждому по вере его – это не шуточки.
И я придумал. Она ведь не нужна была мне всегда, с утра до вечера, и ночью, – доступная, понятная, моя, и больше ничья. Я не собственник. Меня вдохновляет только чужое добро. В ее окно не влезть – там мужик. Само же окно выходит на бессонный Невский проспект – нашли, где жить, пижоны. Я мог бы поиметь ее разве что в подъезде или в лифте,[5]но в ее старинном доме не было лифта, а было кошачье зловоние и общерусская, несмываемая грязца. Представляете себе соитие на таком фоне?
Короче, я решил сыграть свою роль прямо на сцене. В ту пору спектакль шел с аншлагом чуть ли не каждый день. У моей Омы-Мойбеле, как у примы, замены не было, однако в других ролях, в том числе и у ее любовника, имелся еще один партнер из второго состава. По какому-то провидению мы с ним были похожи, даже примерно одного роста, хотя и разного телосложения.
Чтобы получить беспрепятственный доступ за кулисы, я буквально накануне нанялся рабочим сцены за четыреста рублей в месяц, то есть – за тринадцать долларов по нашим абсурдным временам. Нужно ли говорить, с каким чувством я стоял перед массивной кроватью в светелке Мойбеле...
И вот спектакль начался, и я жадными ноздрями собственнически вдохнул присутствие Мойбеле на сцене. Я слышал ее голос, отмечал ее проходы через свет рампы, льющийся в промежутки декораций, – она являлась мне не вся, как из зала, а фрагментарно, как в соитии, – рукой, профилем, голосом, поворотом платья, и тень ее впервые падала на меня, как бы подавая знак. Оставалось выключить из участия ее партнера, но и тут я полагался на естественный ход вещей. От экзотики – подвесить его вместе с декорацией под колосниками, опрыснуть из баллончика слезоточивым газом, залепить рот пластырем и закатать в ковер – я отказался по определению.
После каждого выхода на сцену он смолил сигарету в туалетной курилке – тонкие нервные пальцы, какой-то потусторонний взгляд – там я его и закрыл на внешнюю щеколду, поставленную, видимо, для того, чтобы до зрителей не доносились сантехнические шумы. Свет на сцене померк, и после слов Мойбеле: «Приди ко мне, мой ангел», я явился перед залом на правом краю сцены, босой, как должно ангелу, на верхней ступеньке стремянки, то бишь с самих театральных небес.
Изумление в глазах моей Мойбеле было неподдельным – и вправду, как тут не изумиться? Чудо, даруемое Творцом, как раз в том и состоит, что при всех наших мольбах, даже приходя нам на помощь, сам по себе он остается нематериализуемым. Ома же, вдобавок к вполне тут уместным эмоциям своей героини, была изумлена подменой, как если бы, отправляя в рот ложку с медом, вдруг запоздало, уже в загубной полости, рецепторами языка, реагирующими на горькое, сладкое и соленое, распознала разлившийся там хинин. У нее было полсекунды на оценку ситуации – с отвращением выплюнуть или проглотить, но я так приветливо и твердо улыбался ей, глядя прямо в глаза и не предлагая никаких иных вариантов, кроме своего собственного, что она поверила мне и протянула руки. Что до зрителя, так ведь никто ему и не говорил, что ангел будет только один.
– У Баруткина приступ аппендицита, – шепнул я, когда мы оказались рядом. – Врача вызвали, – добавил я еще раз в удобный момент.
Мы блестяще провели нашу сцену, которая заканчивалась в стоящей тут же фундаментальной кровати, как бы одновременно алтаре Мойбеле... К чести Омы надо сказать, что она прекрасно вписала свою роль в мою и, доверив моей руке свою ладонь, взошла на ложе. Несмотря на нищенскую одежку из костюмерной, она хорошо пахла, как знающая себе цену женщина. Ее разгоряченное игрой большое чистое тело, заботливо обихоженное французским дезодорантом, источало во тьму зала любовный аромат самки, призывающей могучего самца-производителя. Вот я и пришел, Ома, чтобы взять то, что мне причитается. Накрывшись одеялом, мы должны были заключить друг друга в объятия в классической позе, когда партнерша внизу. Что я и сделал, не мешкая впившись в ее губы. Ее руки, бесчувственно обнимающие меня, вдруг замерли, и ее тело, вздрогнув, напряглось подо мной, еще понимая меня в том смысле, что на сцене я, неизвестный ей стажер, практикую по системе Станиславского зашкаливающий суперреализм, которым так знамениты голливудские киноактеры и которому она из-за меня, психа ненормального, должна теперь соответствовать. Вздрогнула она еще и потому, что мой вставший зверь рвался наружу, упираясь ей в мягкий объемный лобок, похожий на подушечку для иголок. Но и такое с актерами бывает не столь уж редко[6] ... Я же стремительно проник левой рукой к ее паху, по причине летней жары и духоты едва прикрытому какими-то хорошо тянущимися кружевами, и поскольку на мне предусмотрительно и вовсе не было плавок, тут же без обиняков вошел, не давая ей опомниться и сомкнуть обширные лядвеи, горячие, как южный полдень. Она была не то чтобы готова – излишней влаги в ней не было, но все же, как истинная женщина, она была готова всегда, потому я легко вошел на всю глубину, получив встречный поцелуй ее шейки матки, и пропустил руки под ее коленями, так, чтобы она не могла разогнуться и оттолкнуть меня. Дивные груди ее, прикрытые под дурацкой еврейской кацавейкой чем-то тонким, батистовым, колыхнувшись, разошлись и сошлись над моей головой, как волны, как облака, как сладкий сон. И хотя, вцепившись мне в волосы, она пыталась вытащить меня на поверхность, я был сильнее.
Над нами звучала томная музыка соития, мерцал зеркальный шар, посылающий в зал и на задник сцены разноцветные блики, а сам задник, сотканный из мириада мягких иголок-фольгинок[7]– шевелился и переливался, как мечта, пропуская туда-сюда наши кружащиеся в любовном трансе, слитые воедино тела... Надеюсь, все так и было, только задник остался пуст, потому что я играл на среднем плане, поднимаясь и опускаясь в темной духоте покрывала, с трудом удерживая над собой ее вздрагивающие высоко поднятые, прикрытые сверху ноги, отчего сценический пододеяльный образ всей этой темной скачки должен был производить хоть какое-то эстетическое впечатление. Мне же надо было по-быстрому кончить, как кончают неопытные юноши и уставшие старики, и, распялив ее пышные сокровища, я бешено работал бедрами, шепча ей в ухо, как помешанный: «Помнишь Вагановку... Мальчика... Это я... Люблю, люблю, люблю, люблю...». И слышал в ответ судорожное: «Что ты делаешь? Пусти!», тогда как недра ее, и я это чувствовал, не отторгали меня.
Нет, она не уступила мне, не разделила со мной и толики предложенных ощущений, она сопротивлялась до конца, до того ослепительного мгновения, когда каскадами водопада я полетел в бездну, издав тихий стон смертельно раненного зверя, стон счастья и боли, потому что я знал, что в этот момент теряю оскверненную мной Ому навсегда.
Потом я поднялся с постели, слыша не только гробовую тишину зрительного зала, но и гробовую тишину сцены и всех емкостей, что были за ней – двух ее карманов, колосников, пустой гримерной, даже запертого[8]туалета, – потому что все, кто был там, торчали теперь здесь, между кулис, гирляндами замерших в шоке голов. Я уже не мог туда вернуться, поэтому пошел прямо в зал, по центральному проходу. Возле самого выхода, обозначенного зеленым огоньком, я обернулся.
Ома сидела на постели, опершись на одну руку, и ее распущенные волосы едва прикрывали полуобнаженную грудь. Она не замечала этого, она смотрела мне вслед и весь ее потрясенный вид женщины, которую бросили, оставили на волне восходящего катарсиса, говорил: «Куда же ты? Как же я теперь?»
Не знаю. Я никогда этого не знал.
Никакого скандала по сему поводу не было. Зал же принял произошедшее за чистую монету – это было время, когда эротика и обнаженка, как сель, хлынули на сцену и никто ничему не удивлялся.
Ома меня не искала. И о том, что на самом деле случилось между нами, скорее всего не сказала никому. Когда она через девять месяцев родила, я подумал, что от меня.
Сегодня на службе, помогая какой-то томной студентке с копной тяжелых черных волос, я наткнулся на Юнга, машинально открыл его книгу об архетипах и коллективном бессознательном, и аж дыхание перехватило. Он написал, что образ Полифила, окруженного нимфами, восходит к одной из самых древних и глубоко укорененных в человеческом сознании фантазий. А ведь это – мои подростковые грезы, когда я не знал ни Юнга, ни Фрейда, блуждая потерянным одиночкой по лабиринтам своих эротических видений. Главное из них – небольшое пространство, задрапированное нежным алым шелком, так что его полотнища реют свободными концами там и тут. Среди них медленно танцуют полуобнаженные девы в таких же шелках, и я – счастливый – вместе с ними. Почти сцена из балета «Аполлон Мусагет» в постановке Михаила Фокина – только вот какими все-таки средствами передать томление поющих чресл?
Не помню, кто из древних философов – Демокрит? – с облегчением сказал в восьмидесятилетнем возрасте: «Наконец-то этот зверь перестал меня мучить». Катастрофа! Еще пятьдесят лет быть на поводу? Сколько раз я обращался к Господу Богу: «Сделай так, чтобы я не хотел. Обрати в смиренного Агнца». Нет ответа.
Все мои любовные истории развивались по сценарию вычитания: не получилось, не произошло. Получалось же то, что, в принципе, меня не интересовало: собачья случка, с заклиниванием в конце – когда я смотрел в другую сторону, но не мог тут же убежать. Хотя поначалу каждый раз мне казалось, что теперь-то все будет иначе...
Однажды вечером она прошла под моими окнами, и я увязался за ней, точнее, за ее походкой – столько там было скромного достоинства, юного азарта и доброго нрава. Она не была девственницей, но ее женский опыт ограничивался лишь одним олухом, который успел сделать ее фригидной.
Когда я впервые привел ее домой и, с трудом преодолев ее деревенское сопротивление,[9]алчно, но нежно погрузился в нее, она сокрушенно призналась, что ничего не чувствует. Еще примерно месяц я терпеливо разжигал в ней огонь, по веточке подбрасывая хворост и сосновые шишки, чтобы она наконец поднялась высоким страстным костром, на котором я и стал сжигать ее два раза в неделю. Она тогда училась в Кульке – так назывался Институт культуры имени Крупской – и подрабатывала на почте, разнося газеты и письма. Вечером по вторникам и пятницам – в ее смену – я приходил за ней на почту и уводил к себе. Еще не раздевшись, распахнув полы пальто, как демон – крылья, я прижимал ее к себе, спускал с нее джинсы, трусики и, обежав языком горячую мокрую пещерку ее послушного рта, тайком любовался в большом зеркале прихожей ее смуглой живой попкой, словно вылепленной Бенвенуто Челлини для эротических утех. Моя рука жадно бродила по ней, исследуя подробности, и я завидовал руке и этому зазеркальному образу, который был идеален, как бы вещью в себе, но, увы, оставлял меня лишь на пороге моих запредельных порывов.
У нее, псковской русачки, была смуглая кожа, и она сама шутила, что без татарского нашествия тут не обошлось. В ее шафранной подпалине рдела роза с крупными лепестками, за которыми во время любовной гимнастики открывался алый, словно раскаленная печная дверца, вход. Там тоже что-то обещалось – Геенна Огненная, Огнь Пожирающий, Агония Огня, Агни-Йога, но, углубившись, я вместо всеобновляющего ожога получал все те же влажные всхлипы плоти, телесные судороги и обморок в конце, который я не раз нечаянно пропускал, продолжая распинать уже бесчувственное тело.
И все-таки я хотел на ней жениться – верная, страстная, бессловесная, родственники далеко – и даже устроил в нашу библиотеку в отдел внешних связей, или сношений, как изволил шутить ее шеф, мой коллега. Иногда, не дождавшись вторника или пятницы, я тайком прибегал к ней на третий этаж и, заперев служебную дверь, набрасывался на ее послушное тело. Лучше всего это получалось на столе, и, чтобы у нее на спине не оставалось синяков, мне приходилось контролировать ее конвульсии. Но мне этого было мало, и, посадив ее голую, дрожащую, что-то безумно шепчущую, на корточки, я продолжал, уже рукой, терзать ее распустившийся цветок – и он без устали стрелял мне в ладонь бартолиниевой струйкой, как хамелеон языком. Такое могло длиться долго, и порой я уже не знал, хорошо это или плохо, что моя тихая и приветливая подружка, готовая за меня в огонь и воду, превращается в неведомое существо из каких-то древних мифов, откуда она не сразу возвращалась ко мне, – я же тормошил ее, расспрашивал, заглядывал в ее еще не видящие, распахнутые, как у куклы, глаза, будто надеясь увидеть в них отсвет иного – обетованного – мира, куда мне почему-то был заказан вход.
Расстались мы через год и довольно болезненно. Она никак не могла взять в толк, что наскучила мне со своими вечно мокрыми от обильного секрета простынями и полетами, в которые так и не смогла взять с собой. Ей, бедняжке, пришлось даже побывать в Бехтеревке, после чего уволиться. Последний раз я ее видел минувшей весной – уставившись в никуда, она продавала журналы с женскими головами и издали показалась мне одной из них, словно тело ей отсекли.
Ночь вторая
Я потерял отца, когда мне было пять лет. Видимо, вместе с ним я потерял возможность стать полноценным мужчиной. Мой отчим – стодевяностосантиметровый мустанг-производитель, в прошлом довольно известный артист балета, типа Джона Марковского, с которым в восьмидесятые годы выступала Осипенко, растоптал мое детство, а потом мою юность. Что было до него, я помню смутно – всего несколько мгновений с отцом, но все они озарены светом, добром и маминой улыбкой. Помню, как мы возвращались втроем из гостей – уже на лестничной площадке нашего дома я услышал, как по радио гремит гимн Советского Союза, и пришел в полный восторг – до полуночи я еще никогда прежде не бодрствовал. Помню салют на Неве, себя на папиных плечах и тысячи кричащих голов на фоне аспидного неба, с громом и треском раскалывающегося на разноцветные вспышки огней... Помню... Впрочем, какое вам до этого дело? Ведь я помню и другое. Как однажды, в первом классе, я заболел, и по ночам у меня были галлюцинации, и однажды я не выдержал и пошел в спальню, от которой меня почему-то отлучили, когда умер папа. Дверь в нее была приоткрыта, и в приглушенном свете от красного абажура я увидел на постели мою маму, а сверху титана-отчима, который что-то с ней делал. Я думал, что он ее мучает, – она стонала и металась под ним, а он ее не отпускал. Ее белые ноги были широко раздвинуты, как у курицы, которую мы недавно вместе покупали по пути из школы, а между ними безостановочно ходили вверх-вниз бесстыдные ягодицы моего отчима, на которых почему-то были мамины прекрасные руки.
От ужаса я лишился дара речи и замер, не в силах сдвинуться с места. Потом отчим, прорычав как зверь, отлепился от мамы, потянулся к сигарете на тумбочке, сел и закурил, а мама вдруг прильнула к нему с благодарной улыбкой, несоответствие которой тому, что я сам минуту назад видел, прогремело во мне какой-то навсегда непоправимой катастрофой. Став взрослее, я расшифровал свое тогдашнее впечатление – так жертва улыбается своему палачу.
С тех пор больше всего в жизни меня стала занимать тайна человеческих отношений, интимных прежде всего, – и чем больше я в нее проникал, тем меньше верил людям, тому, что они говорят, показывают и пишут. «Это все обман, – говорил я себе. – Не обман лишь то, что ты видишь про них сам». Так я стал соглядатаем. Сначала это было моим капризом, потом стало страстью, потом маниакальным психозом, паранойей.
Мне часто снится, что на моей совести несколько убийств, никем не раскрытых, и они мучают меня в моих недолгих снах – сплю я четыре-пять часов, не больше. Мне снятся места, где закопаны мои жертвы, снится, как строители случайно открывают один из моих страшных кладов, – он присыпан ржавой жухлой листвой, и труп еще не разложился и, стало быть, может вывести на след. Мне снится, что круг следствия все сужается и сужается, но каждый раз я просыпаюсь прежде, чем меня поймают, и, значит, в следующем сне все начнется сначала. На самом же деле я помог умереть лишь одному старику, развращавшему в своей поганой холостяцкой квартирке, забитой порнографическим хламом, пятнадцатилетнюю сдобную девчушку, которой он заплатил. Я надел резиновую маску монстра и постучал в стекло. Видимо, у него случился инфаркт...
Не скрою, чем дальше я захожу в своих поисках новых чувств, тем чаще меня искушает инстинкт палача, но мне не нравится вид крови – по этой причине я избегаю девственниц, – и если говорить о моем садомазохизме, то он скорее психологического свойства. Безграничная власть над человеком – вот, что пьянит меня. Но для этого ведь совсем не обязательно убивать. Я имею в виду – физически... Иногда я себя ощущаю всемогущим Бэтменом, человеком-летучей мышью, защитником слабых и обиженных.[10]Иногда – изгоем, горбуном Квазимодо из Нотр-Дама, внешние стены которого я бы легко прошел на руках и ногах, без веревок. Иногда – булгаковским Воландом. Но не реже посещает меня и ощущение собственного ничтожества. Тогда я не поднимаюсь на стену, а лежу лицом к ней в квартире, которую снимаю. Там я прохожу точку своей очередной смерти, а потом встаю и живу дальше. По причине своей ночной профессии я не пью и не принимаю наркотики, даже кокаин. Одно неточное движение может стоить мне жизни – а жизнь я, в общем, люблю и, можно сказать, дорожу ею.
Истории, случающиеся со мной, иногда по нескольку месяцев не дают мне покоя, но в конце концов уходят куда-то, в безопасное беспамятство. Так что совесть моя не очень обременена – не больше, чем у библейского бабника царя Соломона, на перстне которого было написано: «И это пройдет».
Однажды, едва спустившись с крыши на чей-то балкон, я попал на свадьбу, вернее, на ее окончание, когда последние из гостей уже делали молодоженам ручкой. Жених сидел в торце опустевшего стола, положив голову на тарелку, – что называется, отдыхал, а невеста, бойкая, кровь с молоком, девица рабоче-крестьянского помета, тоже изрядно поддатая, но в разуме, как верная жена-выручальница выпроваживала последних свидетелей жениховского конфуза. Я почувствовал себя охотником за дичью и затаился. Я сидел и ждал: подо мной были пять хрущевских этажей и дворик с чахлыми деревцами, надо мной – небо с мохнатыми, как подсолнухи, августовскими звездами, во мне же самом, если продолжать аналогию с Кантом, – никаких нравственных законов... Я был абсолютно уверен в себе, знал наперед каждый шаг и испытывал упоение – не столько от перспективы обладать очередной девицей, пусть даже в редком ранге невесты, сколько от ощущения тайны бытия, соединяющей вдруг одних людей и разделяющей других. Этой аппетитной матрешечке вскоре предстояло узнать, кто ее настоящий суженый. Пока же, ничего о том не ведая, она тщетно пыталась привести в чувство своего жениха, который, как муха, волокся крыльями нового пиджака по краю тарелки, оставляя свекольный след. Нет, ему не дано было преодолеть этот очерченный волей небес магический круг, в который уже нацелился я. Смирившись, она кое-как перекантовала жениха на диван, подложила под его падающую голову подушку и одна-одинешенька ушла в спальню, в сердцах тут же выключив везде свет. Жадно приник я к ночному стеклу, но ничего, кроме нескольких бледных взмахов свадебного платья, не разглядел. Я подождал еще немного и тихо проник в гостиную. Жених спал, как могила, и я двинулся в спальню. Из нее раздавались всхлипы. Я вошел, скинул все с себя и закрыл на защелку дверь.
Невеста перестала плакать, подняла голову и удивленно спросила:
– Руська?
Мне же понравился ее темный силуэт на фоне заполненного ночными бликами окна.
Я мыкнул в ответ, забрался под одеяло и прижался восставшим членом к ее голому ядреному заду. Он был как два детских резиновых мяча – тугой и гладкий. В одной майке, она хотела повернуться ко мне, но я капризно-пьяно замычал, удерживая за плечи и, пристроившись, вставил, пока не поздно. Там тоже было туго, так туго и упруго, что несколько раз меня выталкивало на поверхность, – такой вагиной можно было бы метать копья... Юная телочка была малоопытной, но прилежной, и у нас получалось все лучше и лучше. Она кончила раз и два, однако в спине ее ощущалось какое-то растущее недоумение, и вдруг ударив меня задом так, что я чуть не свалился на пол, она села на постели и прорыдала:
– Ты не Руська!
– А кто же? – трезво спросил я, тоже кончив и чувствуя, что больше мне не хочется.
– Не знаю, – трагически прошептала она и вдруг схватила себя за шею, задавив вырвавшийся вскрик, похожий на позыв к рвоте.
В это время в дверь ткнулось что-то рыхло-тяжелое и пьяный голос Руськи глухо сказал:
– Люся, открой, я уже в порядке.
– Руслан и Людмила – цирк! – пробормотал я, почувствовав себя неуютно.
– Ой! – прижав ко рту руки, тихо запричитала рядом со мной поруганная невеста. – Ой, мамочки, что же это!
– Скажи ему, что не откроешь, пока он не прочухается. Тоже мне, жених – надрался до бесчувствия.
– Это не ваше дело. Уходите, уходите скорее. Стыдно вам. Мы не для того вас приглашали. Ой, мамочки, беда-то какая! – Видно, она принимала меня за шаловливого гостя со стороны мужа, какого-нибудь дальнего родственника, троюродного брата.
– Ладно, так и быть, – с притворным равнодушием сказал я, хотя сердце мое как-то горестно сжималось, встал и оделся под мерные вялые удары в дверь и унылые мольбы жениха. Я не видел лица невесты – она моего, и это почти снимало с меня ответственность за происходящее. Ночью все кошки серы.
Я открыл окно и вылез на балкон – оттуда до крыши мне было три шага.
– Пить надо меньше, ребята, – сказал я ей на прощание, чувствуя, что что-то упускаю, но не понимая, что.
– Не на ваши пьем, – стоя в постели на коленях, ответила невеста, уже непоправимо далекая, хотя еще пять минут назад она так простодушно делилась со мной тем, что у нее есть. Похоже, ей было безразлично, каким образом я исчезну – улечу, испарюсь, навернусь с пятого этажа. Лишь бы с глаз долой.
Вообще набор высоты для меня – это наркотик, эндорфин, гормон наслаждения. Большинство живет и функционирует горизонтально – за таким способом существования десятки тысяч лет закрепленного на практике опыта. Вертикаль – для избранных, для элитного меньшинства, потому что это не только гораздо трудней, но и опасней. Оторвитесь от земли хотя бы на два метра. Чувствуете холодок ниже пупка, точь-в-точь такой же, какой испытываешь в присутствии любимой женщины? Высота – это и есть женщина.
Первую свою стену я прошел в университете, когда учился на филфаке, этой Мекке эмансипированных девиц и субтильных юношей, на первом курсе бредящих о литературной славе, а на пятом – о баксовом местечке в заграничной конторе. Первые в основном невестятся, вторые предпочитают учиться. Вторых маловато, и на каждого приходится по целой стайке едва оперившихся пташек, ждущих, когда их покроют, а если и покрытых, то лишь в глагольных формах несовершенного вида, в том смысле что тема перманентно ждет своего продолжения и, стало быть, всегда есть место подвигу. Но эти водятся с пернатыми из других стай. За пять лет у меня не было ни одного филфаковского романа, разве что с преподавательницей французского, о чем мне не хватит духу рассказать, разве что, может, в старости. Но сейчас я не о том, я о стене, на которую взобрался впервые довольно поздно для будущего альпиниста – в двадцать один год, в начале пятого курса.
Тренировался я в главном спортивном зале университета, в том непонятного вида мрачном здании, несколько похожим на тюрьму, где еще – представьте! – в 1793 году был открыт первый в России крытый зал для спортивных игр, в частности – для французской jeu de paume,[11]представляющей собой нечто среднее между волейболом и сквошем, где применяются отскоки не только от пола, но и от стен. 1793-й... Французская революция в разгаре. Трепещут тираны мира, а Екатерина Вторая по невежеству или из тщеславия кокетничает с этой воинствующей шпаной Вольтером и Дидро, из ядовитой слюны которых и будут лепить свое мировоззренческое гнездо осы рвущегося к власти третьего сословия. Прощай, Бог, адьё, аристократизм духа, – отныне миром будет править плебейство, демократия торгашей и лавочников, ловитва рынка. Нет больше совести, господа и господарки, мсье и медам. Да здравствует корысть! С начала девятнадцатого века и посейчас мир задыхается в дерьме свободы, равенства и братства. От каждого из этих слов меня отдельно тошнит. Человек не свободен, не равен и не брат. Иначе бы он давно сгинул. Свободный человек – это зверь. Равный – это раб. Братство же чревато антиморалью и коллективным преступлением. Девяносто третий, девяносто третий... В 1993 году умерла моя матушка. Последние годы мы с ней мало общались, и я считал, что это правильно, что я не должен ей мешать, и даже гордился тем, что давно уже живу собственной жизнью и не от кого не завишу. И только с ее уходом я прозрел, осознав, что зависимость – это и есть счастье. Какой-то непрочитанный роман о том же 93-м, Жан Вольжан на выросте из детства, защитник отверженных, посланник справедливости. Насчет наличия последней очень сомневаюсь. У Гюго, поставщика мелодрам, в чем и секрет его невыдохшейся популярности, мне нравился другой герой – отщепенец с располосованным ртом – тот, который всегда смеется. Сколько наслаждений выплеснул я на пол из ледащей подростковой плоти, пожирая глазами сцену созерцания Гуинпленом спящей под прозрачными шелками красавицы...
Но я отвлекся. Высота в том зале приличная, метров тринадцать, и на тамошнем импортном тренажере можно получить хорошую нагрузку. Однажды, когда я уже вполне резво ходил по поверхностям не только с прямым, но и с отрицательным углом, я заглянул в этот зал потренироваться. Дело было зимним утром, в студенческие каникулы, спортивная кафедра была закрыта, но между залом и женской раздевалкой с душем, что на этой же площадке, шастал водопроводчик, устраняя какую-то мелкую аварию. Закончив, он, как мы договаривались, оставил мне на лавочке ключи, которые я обещал сам занести в охрану после тренировки. К этому моменту я висел под потолком на страховке, и мне лениво было спускаться, чтобы закрыть за ним наружную дверь. Я еще минут десять ползал по стене, пробуя разные варианты растяжек, но мысль, что наружная дверь не закрыта и что я в здании один и как бы за все отвечаю, молчаливой дрозофилой вилась в моей голове, мешая получать кайф от этого трехмерного пространства, в которое ты выходишь, стоит только оторваться от земли. Короче, я наконец слез со стены, спустился по лестнице и запер входную дверь. Эта наша лестница – надо ее видеть. Мало что осталось от первоначального здания, кроме стен и ее самой, на арочных опорах, и я с привычным пиететом поднимался обратно по ее ступенькам, стертым подошвами примерно двадцати поколений. Включить какой-нибудь тепловизор, и увидишь их еще мерцающие на камне следы...
В зале меня ждал, так сказать, сюрприз – девица на стене. Действительно, то ли сюр, то ли приз. Или сюр пляс – то есть пляс здесь и сейчас, не сходя с места. Впрочем, я тогда еще не лазал по стенам домов и не считал, что моя озабоченность женской горизонталью[12]превышает какие-то общепринятые нормы. Девица эта, видимо, просочилась в женскую раздевалку, пока я слезал с тренажера.
– Ого, теперь нас двое! – весело констатировал я, глядя снизу на нее, зависшую в трех метрах над моей головой сгустком энергии. – Может, вместе потренируемся?
Девица неприязненно посмотрела на меня сверху, но скрыла искус послать подальше, и по законам альпинистского братства[13]откликнулась бесстрастным эхом:
– Может...
Она явно испытывала досаду от моего вторжения в ее вертикаль. Такое чувство бывает на горе, когда вдруг обнаруживаешь, что ты не один.
Но я ведь тоже не был рад ее появлению и улыбался сквозь сиюминутную враждебность, с трудом поднимая шлюз своего затворничества, дабы пропустить толику любви к ней, то ли ближней, то ли не очень. Одета моя альпинистка была, как все мы тогда, в простейший спортивный трикотаж темно-синего цвета, зримо облегавший ее ладно оформленный зад. Светлые тусклые волосы, цвета прелой соломы, были собраны в хвост на затылке. Миловидное лицо – как тысячи лиц вокруг – которое не замечаешь, пока сам не наделишь его особой приметой, отличительным знаком. Лик, лицо, личность. Ее личность была за семью замками. Когда я оказался рядом, она бросила на меня короткий взгляд, в котором не было ни любопытства, ни этого вечного девичьего вопроса «не ты ли мой избранник?», из чего напрашивался вывод, что избранник уже есть, – рекогносцировочный взгляд, которым проверяет нас на улице встречная женщина, дабы выяснить степень нашей непредсказуемости. Меня она как бы и не идентифицировала за ненадобностью, и не скажу, что молодого мужчину это устраивало. Впрочем, ее уже успело обдать первым легким потом, аура которого здесь, на стене, в довольно холодном неподвижном воздухе зала, была приятна.
Ее звали Викой, она училась на биофаке. Тогда мне казалось, что биологини обладают некоторой продвинутостью в области секса, во всяком случае, они могут толково объяснить, что же там происходит на самом деле, и мне захотелось познакомиться с Викой поближе. Но она всем своим видом показывала, что пришла потренироваться и не более... Этакая эмансипированная самодостаточность. Воспитанный в консервативной атмосфере театрально-балетной куртуазности, тогда я еще пасовал перед такими амазонками. Однако стена все же давала мне некоторые шансы на успех, так как передвигались мы не без помощи друг друга. У меня были с собой крючки и, ввинтив очередной крюк в отверстие, и, пропустив через него веревку, я предлагал Вике нестандартные, более сложные ходы, которые сам же и страховал. Надо сказать, что она неохотно вверяла мне свою руку, будучи, как я успел заметить чувствительной к прикосновениям, которые в данном случае претили ей. Будто я посягал на ее ласку, хранимую для другого. Мне и самому был хорошо знаком этот ригоризм юного чувства.
И вот мы ползаем по стене, и разговор у нас совершенно не клеится. Каждый ответ дается Вике с видимым трудом – и если она терпит эту ситуацию, то потому, что иной не предвидится, и, наверное, клянет меня и себя. Дескать, черт дернул. Мне же все лучше и лучше с ней, даже веселее, и моя преимущественная роль на стене дает мне право творческой инициативы. Вика пахнет разгоряченной молодой самкой, принявшей с утра ванну, полную пены,[14]и мне уже неважно, что кто-то где-то у нее есть. У всех у нас кто-то есть, но разве это так уж важно, когда тебе всего двадцать с небольшим и каждый день можно начинать с нуля.
Тут и происходит следующее – ступня Вики в мягкой тонкой кроссовке[15]соскальзывает с крошечного выступа, и Вика падает, повисая подо мной на страховке. Молча, что надо отметить.
С почти непритворным «Ух ты!», в котором звучит и восхищение ее мужественным молчанием,[16]и чувство опасности, и знак, что ситуация под контролем, я протягиваю ей свободную левую руку – она хватается за нее, одновременно обретая ногой опору, и растерянное лицо ее рывками всплывает ко мне. Похоже, она действительно испугалась, и нежелания быть рядом и вместе теперь в ней явно поубавилось. Но, делая последний шаг, она снова срывается на длину наших соединенных рук. При этом она – экая неловкость – проезжает лицом, носом, губами вдоль бугорка между моих чресл, явно выросшего в череде наших экстракасаний. Хотя свидание было мимолетным, свидетельствую, что мой и так уже озадаченный приятель успел ощутить живое касание этих губ, толику выдоха, исторгнутого ими в миг скольжения вдоль моего тела. Да, это была невольная, или даже исподвольная, извлеченная из вечности ласка, которой умеют одарять лишь немногие возлюбленные, изредка посылаемые нам богом любви на отрезке нашей земной жизни, как бы во искупление ее непреходящей сирости и тщеты. И хотя ласка эта, вернее, не она сама, а скорее ее модальность, не была направлена на меня, но достаточно было и того, что я обнаружил ее в этом мире. Она раскачивалась чуть прираскрытым цветком где-то на цветущем лугу, и, испытав холодок зова в мохнатом шмелином подбрюшии, я пошевелил усиками и расправил свои крылья, чтобы отправиться за ней в опасный, но сладкий путь.
Растерянно улыбаясь, пытаясь понять, не подстроено ли очередное падение и одновременно убеждаясь, что нет, Вика несла теперь в своем взгляде встречу с моим мужским началом и, понимая, что встреча случайна, и что я не могу за нее отвечать, прощала мне всю эту ситуацию. Прикосновение к моему естеству не испугало ее и, к счастью, не было ей неприятно – так в дверной давке, абсолютно российской по своему генезису, порой вместе с парфюмерно-телесным ароматом получаешь безличные приветы от соседних бюстов, ягодиц и чресл, даже не успевая визуально идентифицировать их обладательниц.
– Все, я хочу спуститься, – сказала она, покусывая губу. – Сегодня не мой день.
Я же глядел на бисеринки пота, собравшиеся во впадинке над двойным мыском чуть оттопыренной верхней губы,[17]и не желал ее отпускать. В теле моем призывно пели сирены.
– Да бросьте, – сказал я. – Надо дойти до конца.
– У меня мандраж, – сказала она.
– Но вы не одна, – сказал я. – Риска ноль целых, ноль десятых. Мы же не высоту преодолеваем, а себя. Зато потом будет...
– Не надо мне этих банальностей, – перебила она меня, выдергивая руку. – Как будет потом, я и так знаю. Все, я спускаюсь.
Внезапно меня прошиб гнев, будто ударили в большой барабан где-то в районе затылка, и музыка, еще секунду назад звучавшая во мне, разом смолкла. Я скинул с крюка ее страховочную веревку, отбросил от себя, как дохлую змею, и, не оглядываясь, полез вверх. Вообще мне присуща гневливость – в основном, она вредит, но с некоторыми женщинами действует безотказно. Плаксивое детство, всевластие любимого отца, каприз, прерываемый грозным рыком. Релаксация и отрадные слезы покорности. Поднимаясь, я услышал молчание за собой и, не выдержав, оглянулся – Вика медленно взбиралась следом, впрочем, слегка подаваясь в сторону, как если бы меня тут больше не было. Так она поднялась до потолка, где я в три приема настиг ее.
– Пойдем дальше? – улыбаясь, как ни в чем не бывало, спросил я.
Она кивнула.
Дальше начинался отрицательный угол и выход под козырек, над которым можно было подвеситься на страховках и отдохнуть. Я почувствовал покалывание во взмокших кончиках пальцев – знак опасности. Хотя никакой опасности, собственно, и не было, кроме того, что я каким-то звериным чутьем ощущал, что Вика идет прямо мне в сети.
Да, не зверь я, а паук – невесомый, стремительный, алчный...
Я поставил крючья, застраховался, прошел вперед и помог Вике. Мандраж еще не избыл в ней, но клин выбивают клином, и я видел, что она решила что-то мне доказать. Когда тебе, еще полчаса назад совершенно незнакомому человеку, пытаются что-то доказать, это, согласитесь, немало...
И вот, обвязанные веревками, мы повисли под потолком, и я в обезьяньем кураже прошелся туда-сюда на одних руках – почти цирковой номер. В глазах Вики я прочел удивление, одобрение, страх и первые признаки любопытства. Я же хмелел в эманации ароматов, издаваемых ее упругой горячей плотью, когда сквозь духи или какой-то там дезодорант пробивалась горчащая исподняя струйка пота. Внезапно мне пришла в голову мысль свалиться на страховке – так, чтобы та удержала меня над самым полом, но я не решился таким образом проверить крепость тренажера. Мысль, однако, жила, азартно ветвилась... И тут я понял, ради чего, собственно, и заманил сюда Вику. Незаметно я стравил метр своей веревки и разжал пальцы, отпуская крюки.
Меня бросило вниз, и уже после рывка я услышал короткий вскрик Вики. Голова моя, как маятник, закачалась возле ее бедер, перетянутых над коленями веревками. Я уцепился за Вику, словно за соломинку, – причем она еще явно по недоразумению пыталась мне помочь – затем резко сдернул с нее рейтузы, за которыми белой чайкой мелькнули шелковые трусики, и впился губами в прикрытую кружевом нежную податливую промежность, сдобно пышущую сквозь дырочки вышитых узоров, – будто только что из печи.
С этого момента я едва ли отдавал отчет в своих действиях. Все это произошло как бы само собой, и, наверное, так же смутно осознавала происходящее и Вика, потому что она не пинала меня, даже не пыталась оттолкнуть, словно моя безопасность ей все еще была важнее собственной, – она вцепилась мертвой хваткой мне в волосы, невольно прижав к своему лону, так что мне было даже не пошевельнуть головой. Но руки у меня были свободны, я нащупал резинку ее трусиков, потянул вниз с сопротивляющейся крутизны бедер – и лоб мне щекотнула мягкая поросль лобка. Я поспешно проложил языком путь между уже мокроватых ворсинок и погрузил его во влагу, набегающую как березовый сок из свежего надреза. Не знаю, как другие, но я при малейшей возможности предпочитал начинать с куннилингуса, демонстративно подставляя под удар голову и шею, так сказать, атакуя из самой зависимой позиции. Губы и язык не столь агрессивны, как основное оружие, не могут напугать, и даже у некормивших грудью молодых женщин нежное сосание вызывает в недрах их детородного чрева сверкающий рефлекс материнства – а мать не может ударить прильнувшего ртом к ее плоти. Для меня же поцеловать порог этих недр означает собрать почти необъятную информацию, я несу ее на чувствилищах своего рта, на всей этой называемой лицом поверхности, с ее морщинками, волосинками, родинками, порами, детскими шрамами, прыщиками, утренними порезами безопасной бритвой – несу, как бесценный дар, чтобы восторженно принять или сокрушенно отвергнуть. В соприкосновении с чужой плотью всегда проходишь порог отвращения или отторжения, как звуковой барьер, – это протестующе вскрикивает наше отвергаемое эго, но если его преодолеть, точнее, растворить, дальше начинается полет. Да, мы высшие существа, по крайней мере, мы себя таковыми сами считаем, но узнавание по формуле «свой-чужой» и у нас, как у многих низших, начинается с запаха. А что такое запах – симфония, океан звуков, каждый из которых значим, потому что индивидуально неповторим. Когда-нибудь сканеры по нашему запаху будут воспроизводить на экране нашу матрицу. Чудо? Едва ли, ибо природа придумала это еще миллиарды лет назад. Мы сами проделываем это каждый раз, пробуя языком лоно своих потенциальных возлюбленных. Возможно, мы всю жизнь ищем в них запах матери, утробы, из которой вышли. И никто из нас никогда не спутает свое с чужим.
Вика была своей, настолько своей, что мне больше ничего от нее не было нужно. Я впился в нее, как шмель в цветок, и сосал, сосал нежным жалом ее мякоть, впивая вместе с нектаром свои детские мечты и грезы о чем-то таком, что мне было бы трудно перевести на язык внятных человеческому сознанию образов, но что так или иначе было связано с землей, травой, цветами и порхающими над ними бабочками, в солнечный день, на поляне у нас возле дачи, мне пять лет, и я слышу голос мамы, зовущей меня попробовать брусничное варенье из тех ягод, что мы вместе собирали накануне.
Нет, не так – сосновый лес, голубые понизу и оранжевые поверху стволы, их просвечивающая шелуха, похожая на луковичную, косые столбы света, похожие на контрфорсы собора Парижской Богоматери, девочка в соломенной шляпке с соседней дачи, мы с ней играем в бадминтон, и белый волан взвивается и опускается в замедленном парении, которое почему-то отдает холодком под ложечкой, будто это воспаряет и упадает мое сердце, сердце или душа. Видимо, в ласке моей был какой-то ритм, потому что мы раскачивались и раскачивались, как ветви под ветром, как листва, как два сплетенных стебля, и вдруг вместе с дрожью, пробежавшей по телу Вики, я услышал ее стон, тут же прерванный ее сильными лядвеями, которыми она судорожно сжала мою голову. Я ослеп и оглох в этом объятии, сохраняя связь с ней на уровне двух чувств – осязания и обоняния, – но и их было достаточно, чтобы довести Вику до ее конца, который поразил меня своей высокой амплитудой, и когда она, обессилев, разъяла ноги, выпустив меня, новорожденного, в этот мир, воздух еще вибрировал от ее крика.
Я поднял глаза. Уронив голову на плечо, глядя куда-то в сторону, Вика обездвиженно висела надо мной, не замечая своей продолжающейся, как бы уже неуместной наготы. Я подтянулся, лицо мое оказалось против ее лица, она посмотрела на меня, не меняя своей отрешенной позы, и тихо, почти не разжимая губ, сказала:
– Господи, что это было?
Вместо ответа я[18]водрузил на прежнее место ее трусики и рейтузы и протянул руку, давая понять, что мы возвращаемся.
Но возвращаться мне не хотелось. Едва ли тогда мне и открылось впервые, что именно под знаком высоты и чувства опасности и формируются параметры моих самых ярких сексуальных переживаний, но в те минуты мне инстинктивно хотелось остаться на стене, словно она была моей защитницей и колыбелью. К тому же мое неразрешившееся от бремени начало алчно пульсировало, и я поспешно рыскал глазами, ища подходящее для него продолжение.
Моя стена, на которой и крепились щиты альпинистского тренажера, имела на половине своей высоты уступ в метр шириной, и когда мы спустились до него, я сказал Вике:
– Передохнем немного?
Она кивнула.
Кто-то заботливый затащил сюда мат снизу, и мы, освободившись от веревок, уселись на него, глядя перед собой, как с горы, на расстилающийся внизу пейзаж нашего пронизанного светом эроса. Вика, видимо, и вправду подумала об отдыхе, однако меня влекло дальше, и я с трудом выдержав паузу в минуту-другую, повернулся к Вике, запрокинул ее голову и впился в губы. Она не сопротивлялась. Моя свободная левая рука нашла ее груди – они были без лифчика, заостренные, но не тугие, так что мне удавалось удерживать в ладони оба соска, которые я нежно мял, перебирал пальцами, ощущая в них приливы и отливы накипающего желания. Потом рука моя скользнула к лону, мысль о котором буквально сжигала меня, и Вика сама стала опрокидываться на спину, раскрывая ноги. Глаза же ее закрылись. Оказывается, вся ее воинственная недоступность служила лишь одному – скрыть сверхчувственность. Ее Вика, видимо, ощущала как свой тайный порок, от которого, как ни странно, ее освобождали эти самые невероятные обстоятельства нашего развертывающегося соития.
Войдя в нее, я успел спросить «можно?», имея в виду свой выплеск, и откуда-то издалека услышал едва уловимое «да». Это «да» почему-то завертелось в моей голове, как праздничная петарда, являя в сверкающей кромке огненных искр рокоток буквы «р», отчего вся буквенная конструкция стала обретать новый смысл, потом радостно засверкала наоборот, превратившись в «рад», а потом в некое универсальное «да, Ра», словно жертвоприносясь древнейшему солнечному божеству, некогда оплодотворившему Землю. Потом я, полный ликования, летел куда-то в световых лучах. Потом был миг смерти и тьмы, и меня не было. Потом я открыл глаза. Надо мной склонялось лицо Вики. Не знаю, был ли это обморок. Скорее нет. Просто переход из одного мира в другой. Переход, который бывает болезненным.
Потом мы спустились со стены, и Вика ушла в женскую раздевалку. Моя одежда была в мужской, на этаж выше, но подумав, я решил принять душ вместе с Викой. Мне показалось, что там ждут какие-то новые дополнительные ощущения, которые обрамят только что испытанное мной. Тем более что мое отдохнувшее начало снова рвалось в бой.
Но дальше было то, что классически сформулировано на воровской фене: «жадность фраера сгубила». Вика не видела, когда я вошел в душевую. Она стояла под водопадом брызг и обихаживала мылом промежность с моим даром, вытекающим оттуда по внутренней стороне ляжки. Недостатки ее фигуры острой бритвой полоснули меня по глазам. Спина ее была непропорционально длинной, ноги же коротковаты, и сам зад трапецией расширялся книзу, как у рожавших женщин. Больше же всего меня огорчили груди, открывшиеся при повороте торса, – длинные, как у аборигенок острова Самоа, с огромными ареолами. Она была нехороша.
Видимо, Вика успела прочесть то, что написалось на моем лице, когда, почувствовав мое присутствие, внезапно подняла голову, и ее готовая одарить счастьем улыбка на глазах превратилась в перерубленного лопатой червячка, уползающего подобру-поздорову в темный испод земли.
Впрочем, мы все-таки еще позанимались сексом, а потом я проводил ее до остановки и взял номер домашнего телефона.
– До встречи, – сказал я.
Больше мы не встречались.
Я снова на стене. Моросит мелкий теплый дождик, несколько усложняя мне мою подвешенную на веревке жизнь, – все мокрое, ненадежное, но так даже интересней. Одно место почему-то особенно скользкое и припахивает неочищенным подсолнечным маслом – видимо, какая-нибудь разиня Аннушка уронила с подоконника бутыль. С какого? – пытаюсь вычислить я. Надо будет к ней наведаться на пироги.
Мысль о теплых сдобных пирогах – лучше с яблоками – возвращает меня к детству, к матушке, к противню с пирожками, который она достает в праздничный день из духовки и смотрит, как мы с папой их поглощаем. Ей нельзя – она балерина, у нее сегодня репетиция... Отчиму тоже было нельзя – и пирожки исчезли из нашего дома. Мой отец был режиссером-постановщиком в том же Кировском-Мариинском театре и хорошо знал отчима. Более того – по иронии судьбы они были приятелями, и отчим вошел в наш дом, как бы исполняя предсмертную просьбу моего отца... Отчима я ненавижу и лелею день и час, когда он с перерезанным горлом выпадет из окна квартиры, в которой я родился, и которая перешла к нему после смерти моей матушки. Впрочем, я и тогда уже жил отдельно. Моя матушка умерла три года назад – в октябре ей бы исполнилось пятьдесят. Но я ее потерял гораздо раньше – я ушел из дому еще юнцом. И наведывался к матушке редко – лишь по самой крайней нужде. Она, естественно, понимала, что все дело в ее новом муже, но любила его, пожалуй, больше, чем меня, на что, конечно, имела полное право. Дети зачастую лишь побочный продукт отношений мужчины и женщины, и должны, на всякий случай, помнить об этом.
Впрочем, я многим обязан отчиму. Даже тем, что провел семь лет в Вагановском училище и, говорят, подавал большие надежды. Но страсть к книгам, к раздумьям в одиночестве и к тайному наблюдению над людьми плохо сочеталась с постоянными коллективными упражнениями у станка, потными мускулистыми партнершами и всем этим театрально-балетным дебилизмом, считающим сцену подлинной жизнью, а убогий набор условных поз и движений – истинным выражением человеческой души. Когда твоя партнерша крутит, дрыгая ногой, тридцать два фуэте, ее душа писает под себя от страха и изнеможения, и больше ничего.
...Обладание объектом желания убивает и объект и само желание. Мне всегда хотелось уничтожить женщину, в которую я кончил. Будто она вбирала в себя не только мой неистовый выплеск, но в нем – мою мечту дойти однажды до вечного блаженства и раствориться в нем без остатка и навсегда. Бедный Будда, достигший нирваны, но не оставшийся в ней – он решил подождать, пока к нему не присоединится все остальное, просветленное наконец, человечество. Ненавижу всех этих спасителей и моралистов! Человечество нельзя спасти, ему нельзя помочь, потому что ему ничто не угрожает. Человечество расползается по телу земли как первородная плесень с единственной ветхозаветной целью плодиться и размножаться, все же остальное, в том числе отпущение грехов, – от лукавого. Я не хочу размножаться, я не хочу плодиться, я восстал против естественного хода вещей, потому что он откровенно пошл. Я не хочу, чтобы в матке женщины из моих сперматозоидов начиналась алхимия еще одной бессмысленной жизни. Я желаю хотя бы собственным примером остановить этот процесс переливания из пустого в порожнее. Онан, проливший свое семя не в женское лоно, а на землю, представляется мне первым великим бунтарем против пошлости бытия. Но я живу среди людей, и потому знаю, что однажды за мной придут и поместят то ли в психушку, то ли в камеру смертников. Пока же не настал этот час, я спешу жить мою собственную жизнь.
Вот и ее освещенное окно – и снова оно занавешено! Это прямо какой-то вызов, брошенный мне в лицо. Холодная надменная красавица, Наталья Гончарова, прекрасная дева, явившаяся мне однажды на Эльбрусе, как София – Владимиру Соловьеву в Аравийской пустыне, я поставлю тебя на колени – ты будешь с упоением, по халцедоновой капельке, брать на кончик языка мой романтический экстаз и глотать его плавными подъемами гортани, вытянув высоким столбиком снежную шею. Гневно я перебираюсь к кухне – темно, но окно приоткрыто и занавески раздвинуты. Пахнет творожными сырниками – скорее всего, с изюмом. На ужин мы предпочитаем легкую пищу... Чашку кефира, парочку хрустящих крекеров. Дыхание у нас чистое, а зубки белые, как яичная скорлупа. Я влезаю, кладу на верхнюю полку рядом со старинным тульским самоваром свой рюкзак и на цыпочках выхожу в коридор.
Квартира – чета той, где я на днях побывал, разве что без балкона. Мужчиной не пахнет. Из ванной комнаты плеск воды, трубный шум ее, льющейся из крана. Шум мне на руку. Дверь не заперта, но в розовую щелку виден лишь выступ косяка. От розового света в ванной, вместе с этими звуками плескания и журчания, голова моя начинает кружиться, а в животе ниже пупка, прямо над лобком, как лотос, раскрывается витальная чакра земного желания, чакра притяжения мужского к женскому. Однако в ее гонге я слышу и иные голоса – они все явственней, все яснее, они возвращают меня к моему началу, к нирване материнского чрева, где я был невесом и покоен, и бытие мое состояло из теплого света и теплой тьмы да мерных ударов материнского сердца, отсчитывающих срок моего появления в мире, который я так и не признаю своим. Я еще не знаю, кто я, у меня нет ни имени, ни пола, я маленькое божество вселенной. Правда, я подозреваю, что там, за хрустальной плацентой, живут иные боги, но в их пантеоне я еще равен им.
...Я вспоминаю, что в полутемном коридоре на меня вопросительно глянула круглая лужица зеркала на столике у стены – взяв его, я тихо открываю дверь туалета, затем дверцы стенного шкафчика и вижу то, что мне нужно – небольшое незарешеченное оконце в ванную. Точно в такое же оконце с помощью зеркала подглядывал я мальчиком за своим отчимом и матушкой, когда желание заставало их среди бела дня в моем присутствии. При сем они всегда включали воду, и иногда я путал ее разнообразные звуки со сдавленными стонами любви. Встав на обруч унитаза, я подставляю зеркальце под углом и гляжу в него. Я вижу ее темный затылок, белые плечи и спину, и больше ничего. Зеркальце тут же запотевает, и, быстро протерев его рукавом, я снова наставляю его. Затылок, плечи, девичья узкая спина, кажется, с родинкой под левой лопаткой. Я еще раз протираю, еще раз смотрю – уже только на родинку – это я сам приник к ее нежной коже, мозги мои плывут наискось, второпях я свободной рукой вывожу на свободу своего жеребца, взнуздываю его и пускаю вскачь. Закусив удила, он успевает пролететь лишь короткое расстояние, пасть его ощеривается и белая пена хлещет во все стороны... Мокрый, обессиленный, я спускаюсь с унитаза, закрываю шкафчик, не потрудившись утереть обрызганную черную фановую трубу, беру на кухне свой рюкзак и ухожу в дверь. Мне нужно немножко побродить по улицам перед тем, как снова вернуться на стену...
Дождик продолжает мелко сеять с неба – тепло, темно и глухо, под ногами скользят раскисшие листья. В парке какой-то мужчина в затрапезной куртке прогуливает собаку. Я пристально вглядываюсь в него – не видел ли он меня на стене. Глупые опасения. Я брожу по парку, пытаясь найти открытое пространство, откуда была бы видна стена дома, но не нахожу. Везде деревья... Освещенных окон становится все меньше – темны уже окна моей снежной красавицы, и окна старушки Нади, к которой меня на аркане больше не затащишь, – только на самом верхнем этаже первое окно слева едва обозначено приглушенным карминным светом – за такими окнами, как правило, и занимаются любовью.
Я возвращаюсь к подъезду, набираю код замка, легко вычисляемый: три кнопки с цифрами, его обозначающими, заметно западают и больше отшлифованы. Лифт возносит меня на последний этаж, я поднимаюсь к железной двери на чердак – она подперта доской изнутри, как я ее и оставил, – я достаю припрятанный за трубой металлический прут, просовываю его в щель под дверью и отталкиваю доску. Я вхожу в кромешную тьму чердака, но у меня все равно нет уверенности, что я один, и, включив мощный фонарь, говорю негромким властным голосом хозяина положения: «Бомжи, на выход! Дом охраняется концерном „Защита“. Как правило, подобная заявка действует. Если бы я назвался участковым, эффект был бы меньший – с милицией бомжи непрочь попрепираться. В ответ – молчание. Луч моего фонаря быстро обшаривает углы – и только в одном из них раздается испуганный вспорх крыльев – голуби. Никого. Я снова подпираю дверь доской и вылезаю на крышу. Внизу – темное пространство парка, дальше – многоэтажные дома, потихоньку обживающие берег залива, еще дальше – несколько одиноких огоньков на том берегу – Лахта, Ольгино, Лисий Нос... Небо над заливом – как огромная черная яма, а над городом – угрюмо-багровое от уличных огней. Раскинуть крылья и полететь. Вместо этого я закрепляюсь, пристегиваюсь и повисаю на тридцатипятиметровой высоте.
Как я и предполагал – за карминным окном идет бурный трахач. С минуту я наблюдаю за ним, но заглавные чувства мои молчат, и меня почему-то начинает разбирать смех. Балкон позволяет мне укрыться от дождя, но на всякий случай я не выпускаю веревки и вежливо стучу в стекло двери, попутно отмечая, что она не деревянная, а алюминиевая, как и весь переплет витражного окна. Хозяева тут явно не бедные. Парочка мгновенно приходит из лежачего в сидячее положение, и по ужасу в глазах довольно рыхлого белесого мужичонки моих лет я вдруг безошибочно вычисляю, что он здесь залетный гость и подлежит отстрелу. Так вот что делает супруга одна в отсутствие супруга... Я вытаскиваю газовый пистолет – он у меня ни разу не был в действии, – показываю его гостю и приманиваю пальцем: открой, дескать, мил человек, не то хуже будет. Он, как завороженный, прижав к животу подушку, движется к двери и открывает ее. Я показываю оружием, чтобы он вернулся к даме, и вхожу.
Фу, как здесь душно. Пахнет дорогими духами, потом, куревом и распаленными гениталиями.
– Частный детектив охранного концерна „Защита“, – представляюсь я, демонстрируя издали давно изжившую себя красную корочку члена Всесоюзного общества по охране памятников старины. – Ваши документы! – Требование мое обращено к мужичку, и он понимает, что я понимаю, кто он такой.
– Документы... – в прострации мямлит он, беспомощно глядя на меня. – Нет у меня документов.
Тогда я с наслаждением опускаюсь в просторное бархатное кресло возле окна и теперь уже обращаюсь к даме, которая, хотя и в легком шоке, но как хозяйка дома чувствует себя все же уверенней и уже стремительно подсчитывает в уме, во что ей может обойтись ее приключение. На вид ей под тридцать, миловидна, полновата, взгляд наглый и беспокойный, как у всех новых русских. Возможно, сама содержит магазинчик шведских пылесосов или французских кофеварок.
– Сударыня, – говорю я ей. – Простите за столь поздний визит, но сами понимаете – служба. Выполняем заявку вашего мужа – проследить, так сказать...
– Какая сволочь! – говорит госпожа, чем мне сразу начинает нравиться. – Какая он все-таки сволочь! – убежденно повторяет она и поворачивается к своему дружку: – Иди, Петя, мы тут без тебя разберемся... – Она явно не уверена, что я его отпущу так просто, без предъявления документов, и блефует.
– Минутку! – поднимаю я руку, спокойно достаю из рюкзака „поляроид“ и, прежде чем они успевают отвернуться, щелкаю их со вспышкой на вечную память. Фотоаппарат всегда при мне, но впервые я его использую как сыскной агент... Затем я благодарно киваю онемевшей парочке. Моя акция, похоже, добила их окончательно.
Тот, кого назвали Петром, трясущимися руками подхватывает с другого кресла брошенную одежду и, продемонстрировав мне свою бабью задницу, скрывается в коридоре.
А хозяйка смахивает набежавшую слезу, встряхивает густой шевелюрой каштановых с позолоченными концами волос и говорит ему вслед:
– Тихо! Ребенка не разбуди!
Затем она с презрительно-неуверенной и, в общем-то, жалкой усмешкой поворачивается ко мне, смотрит мне прямо в глаза, как бы говоря: да мы такие, и вы не лучше.
– Вот за ребенка ваш муж и беспокоился, – голосом доктора Спока говорю я.
– Да пошел он... – сквозь зубы цедит она и, придерживая рукой на груди простыню, тянется другой к ночному столику, берет узкую пачку сигарет „Davidoff“, ловкими пальцами достает одну: – Курите?
Я мотаю головой.
Она с моей помощью прикуривает, глубоко затягивается, снова смотрит на меня, словно колеблясь, нужно ли посвящать меня в семейные тайны. Потом говорит зло, с надрывом, будто в кабинете следователя:
– Мой муж импотент... – и, видя в моих глазах немой вопрос, продолжает: – А ребенок – ребенок не от него. Так что ваша сраная „Защита“ прикажет делать молодой женщине, можно сказать, ягодке в самом соку? А он еще, сволочь, ревнует. Думает, за деньги все можно купить... Член бы себе купил, паскуда... – Она всхлипывает.
– Такие члены есть, – говорю я. – Вживляются в настоящий, наполняются специальным составом. Действуют безотказно. Читал в одном журнале, собственными глазами. И потом есть масса способов удовлетворить женщину и без члена.
– Он не умеет! И не хочет учиться. В церковь ходит. Он у меня того, христосик... – Она повинтила пальцем висок и звучно щелкнула языком, открыв розовую изнанку влажных полных губ. Губы эти словно поцеловали меня в пупок, и я встрепенулся.
Дверь робко приоткрылась, всунулся одетый Петя и, обращаясь неведомо к кому, проблеял:
– Так я пойду?
– Иди, – сказала хозяйка.
Я же молча деловито кивнул, как бы занятый допросом основной участницы бытового преступления.
Оба мы отметили, как за ним тихо закрылась входная дверь, и с облегчением посмотрели друг на друга, будто без него нам будет легче договориться.
– Ну так что прикажете делать? – вопросительно смотрит на меня хозяйка.
– Ничего. Составим акт. Вы подпишетесь. И разбежимся.
– Триста... – говорит она и выдыхает в мою сторону голубую струйку дыма.
– Чего триста? – ломаю я ваньку.
– Баксов... Не рублей же.
– Между прочим, у меня сертификат надежности высшей категории, – леплю я первое, что приходит в голову, помня ее губы и то, что под простыней на ней ничего нет.
– Четыреста...
– М-да... – тяну я.
– Пятьсот, – выдыхает она. – Больше у меня с собой нет.
– А у Петра?
– Вы же его отпустили! – недоуменно вскидывает она брови и что-то вычитывает в моем лице, потому что вдруг спокойным, почти царским движением убирает простыню и выпрямляет спину, являя мне свои тяжелые полновесные груди с коричневыми красивыми сосками. Движение давнее, заученное, проверенное на многих...
– Интересное предложение, – говорю я, колеблясь в выборе.
– Триста сверху, – говорит она, явно себя недооценивая.
Если бы не этот рохля, побывавшей в хозяйке до меня, я бы, пожалуй, выбрал то, что у нее между полных тугих ляжек, теперь же меня скорее возбуждает минимум, и я говорю:
– Ладно. Остановимся на поцелуе...
– Чего-чего? – говорит она.
– На поцелуе, – повторяю я. – Как это по-французски?