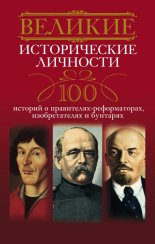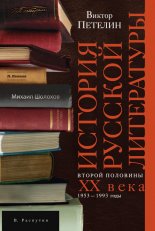Жития радикальных святых: Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Михаил Новоселов (Лурье) Епископ Григорий

Завещание Нила
Даже самые лучшие монашеские общины редко доживают хотя бы до четвертого поколения монахов, считая от отцов-основателей. Точнее, доживают-то часто, но редко без вырождения. Это закономерность скорее внутреннего человеческого устройства, нежели общественных отношений; она проявляется всегда и во всех странах. Ничего фатального в этом нет, и против этого предупреждает известная максима монашеской жизни «не живи в славном месте». Нило-Сорский скит не стал исключением. Его устав постепенно трансформировался. К тому же, не позднее XVII века он оказался местом ссылки провинившихся монахов из Кирилло-Белозерского монастыря. Один такой монах в XVII веке убил одного из скитских старцев и сжег его труп вместе с кельей. А другой такой монах, сосланный в скит за аморальное поведение, был при этом назначен туда настоятелем. В то же время, как нередко бывает в подобных монастырях, кто-то мог жить там и терпеть подобное общество в качестве особого монашеского подвига. Как бы то ни было, но уже в XVI веке Нило-Сорский скит перестал быть школой монашеской жизни, и было бы странно, если бы этого не случилось.
Настоящими наследниками святых монахов оказываются те, кто живет по их правилам, а не те, кто живет на месте их подвигов. Таких наследников у Нила Сорского было немало. К сожалению, мы плохо представляем себе соответствующую монашескую традицию в конце XVI ив XVII веках, хотя именно она сохраняла и переписывала писания нестяжателей. В 1620-е годы, после завершения Смутного времени, наследие нестяжателей вновь становится крайне востребованным: идет дискуссия о том, какой быть дальше Московской Руси. Но опять партия нестяжателей проиграла – на сей раз административному ресурсу отца и сына Романовых (патриарха Филарета и его сына царя Михаила). Перипетии этой идейной борьбы до сих пор, к сожалению, не становились предметом специального научного исследования.
В XVIII веке, как мы уже упоминали, наследие Нила Сорского оживает у старцев Василия Поляномерульского и Паисия (Величковского), живших в Молдавском княжестве – центре монашеского возрождения, затронувшего весь славяноязычный церковный мир, в который тогда входили и Молдавия с Валахией (до XIX века там писали кириллицей, а богослужебным языком был преимущественно церковнославянский). С 1790-х годов вместе с учениками Паисия (Величковского) это возрождение распространяется в России, и вместе с ним распространяется в монашеской среде особое почитание Нила Сорского, которое сохранилось и до нашего времени.
Внутри московской церкви заволжское монашество вовлеклось в конфликт с иосифлянами еще при жизни Нила, а после его кончины этот конфликт, изначально имевший общецерковное и общегосударственное значение, только разгорался при деятельном участии великого князя Василия III. На острие борьбы со стороны нестяжателей оказался Вассиан Патрикеев.
Есть люди, которые искренне полагают, будто православно то, что в итоге было окончательно постановлено церковным начальством, а окончательной они считают позицию этого начальства своего времени, фактически присваивая начальству свойство папской непогрешимости. Такие люди пытаются представить дело так, будто Вассиан стал отщепенцем и изменил принципам Нила. Но Нил, если бы хотел, мог бы его остановить или хотя бы дистанцироваться от него еще в начале резкой полемики с Иосифом Волоцким: она ведь перешла в «горячую фазу» в 1505 году, то есть при жизни Нила. Напомним, что Вассиан вел эту полемику не от себя лично и был в ней солидарно поддержан «кирилловскими старцами», то есть всем духовно близким Нилу заволжским монашеством. Если бы Нил завещал иную позицию, то подобной солидарности не могло бы возникнуть. Наконец, Вассиан получил еще одно и независимое свидетельство от святого – поддержку Максима Грека, прибывшего в Москву в 1518 году и ставшего ближайшим сотрудником и старшим товарищем Вассиана, а не иосифлян. Говоря о деятельности Вассиана после смерти Нила, нельзя забывать, что это была общая деятельность Вассиана и Максима Грека. За нее оба они были осуждены церковными судами иосифлян (Максим Грек дважды, в 1525 и 1531 годах, а Вассиан Патрикеев единожды, в 1531-м), и оба оказались в казематах Иосифо-Волоцкого монастыря. Едва ли ошибается Г.М. Прохоров, говоря, что и Нил, если бы не умер вовремя, закончил бы свою жизнь там же. Но Нил умер «вовремя», а «…Вассиана, своего родственника, он [Василий III] повелел заточить, связав святого мужа, словно злодея, и отправил в Иосифов монастырь к презлым иосифлянам, с приказом его уморить, а те, недобрых дел потаковники, вскоре исполнили его злую волю», – как позже напишет духовное чадо нестяжателей князь Андрей Курбский. Даты смерти Вассиана мы не знаем – известно лишь то, что в марте 1532 года он еще был жив.
Нил завещал жить молитвой и внутренней жизнью, но он не завещал потворствовать или пусть даже не препятствовать злу. Он не относился терпимо к ереси, но он также не относился терпимо к искажению смысла монашеской жизни и самой веры в Церковь иосифлянами.
В послании Вассиану Патрикееву Нил Сорский говорит ему те слова, которые многих могут ободрить и сегодня. Они, пожалуй, и являются главным завещанием Нила Сорского. Относительно насильственного пострижения, которое Вассиан принял как добровольное, Нил пишет: «…тебя же, возлюбив, Бог изъял из мира сего, и поставил в чин службы Своей, по милости и по замыслу Своему». Сегодня, когда насильственное пострижение трудноисполнимо, это могут применить к себе (и, как мне достоверно известно, применяют на самом деле) те, кто попал в тюрьму. И дальше, не столько пророчески, сколько верно на все века: «И это знак любви Божией – если кому-то достаются скорби за делание правды… Ведь не иначе благодетельствует Бог любящим Его, как только посылая им испытания скорбями. Этим и отличаются возлюбленные Богом от прочих: они живут во скорбях, а любящие мир сей – веселятся в сладости и покое. Это и есть правый путь – претерпевать испытания скорбями за благочестие».
В распоряжении о своем погребении Нил подражал египетскому подвижнику V века Арсению: «Завещаю о себе… бросьте тело мое на пустом месте, да съедят его звери и птицы, поскольку согрешило оно против Бога много и недостойно погребения. Если же так не сделаете, то вы, выкопав ров на месте, где мы живем, со всяким бесчестием погребите меня. Бойтесь же слова, которое Арсений Великий завещал своим ученикам, говоря: „На Суде стану с вами, если кому-нибудь дадите тело мое“. Я стараюсь, сколько есть силы моей, чтобы не быть сподобленным чести и славы века сего никакой, как в жизни этой, так и по смерти…» Дальше шла просьба о молитвах и еще пара мелких распоряжений, из которых самое подробное – какие книги нужно вернуть в библиотеку (Кирилло-Белозерского монастыря).Зверям тело Нила, конечно, не бросили, но и никому не отдали. Его мощи так никогда и не вынимали из земли, и даже с точной локализацией его могилы нет никакой уверенности.
Тем не менее Нила почитали святым при жизни, и какие-то элементы культа потихоньку с неизбежностью развивались – уже и в XVI веке, а в XVII и вовсе. По одному из преданий, Иван Грозный захотел выстроить в скиту каменные здания, но во сне ему явился преподобный и сказал, чтобы он этого не делал, а лучше помог деньгами. С тех пор скит стал получать государственный пенсион.
В 1840-е годы ревнитель памяти Нила и большой энтузиаст монах Нил Прихудайлов решил перетолковать чудо с явлением Нила Ивану Грозному в том смысле, будто запрет строить каменные строения относился только к этому осквернившему себя кровью царю. На этом основании он нашел спонсоров и построил тот монастырь, остатки которого сейчас занимает психоневрологический интернат – наглядная иллюстрация того, что со святыми спорить бесполезно, и они все сделают по-своему, хотя и не всегда сразу.Дедушка и смерть. Житие Михаила Александровича Новоселова
Предыстория
В 1884 году была посмертно опубликована драма Козьмы Пруткова «Сродство мировых сил». Она открывалась словами одной из природных сил в предчувствии трагедии (хотя и написанной с целью посмеяться):
Есть бестолковица …
Сон уж не тот!
Что-то готовится …
Кто-то идет!
Владимир Соловьев 3 июня 1897 года пишет эти слова уже от собственного имени в письме близкому другу и своему будущему первому биографу, а также поэту и ведущему идеологу черносотенства Василию Львовичу Величко. Пишет и прибавляет: «Ты догадываешься, что под «кто-то» я подразумеваю самого антихриста. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неуловимым дуновением, – как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидеть море».
Это были годы, когда Соловьев быстро менялся, причем, все больше переходя под влияние своего почившего (еще в 1891 году) оппонента Константина Леонтьева (при жизни Леонтьева их дружба завязалась, но развалилась). Этот последний период Соловьева увенчается «Легендой об Антихристе». Антихрист приходит к власти, эксплуатируя ту веру в прогресс, защищая которую, еще недавно сам Соловьев спорил с Леонтьевым. Антихристу подчиняются люди всех вероисповеданий и особенно христиане всех официальных церквей. Но тут же из разных конфессий отсеиваются и объединяются маргиналы, которые преодолевают свои прежние расхождения, потому что вместе последовали Христу.
Михаил Новоселов
Начав спорить с Леонтьевым, Соловьев незаметно для себя усвоил его главную интуицию о ближайшем будущем христианства и России. Еще через несколько лет (в 1900-м – в год смерти Соловьева) она взорвалась в его мозгу «Легендой об Антихристе» – как бы вспышкой молнии, которая во время ночной грозы разрывает на секунду тьму и освещает уже наставшее будущее. Был один человек, которому на ближайшие десятилетия предстояло стать соловьевским старцем Иоанном, – Михаил Александрович Новоселов (1864–1938).
Толстовец по рождению
Новоселову повезло (надо ли тут ставить кавычки?) родиться в семье тогда еще редких толстовцев. Родители Новоселова близко общались с Толстым в 1870-е годы, тогда, когда он обдумывал свои расхождения с православной Церковью и начинал формулировать собственное учение. Среди молодежи, особенно из семей духовного звания, было привычно становиться нигилистами. Но родители Новоселова стали толстовцами, хотя и они происходили из духовного звания. Оба дедушки Новоселова были священниками, но толстовству симпатизировали. Дед по матери, Михаил Васильевич Зашигранский, священник Тверской епархии на покое, был постоянным собеседником Новоселова в молодости. Он очень переживал, до ухудшения здоровья, когда толстовство приводило Новоселова к неприятностям с полицией, но сам сочувствовал Толстому настолько, что в 1887 году передавал ему через внука поклон и «радость по поводу… борьбы [Толстого] с тем учреждением, которое он [дед] до глубины души презирает», то есть с официальной церковной организацией.
Отец Новоселова, Александр Григорьевич, был директором классической гимназии и сам преподавал древние языки. Он рано умер, открыв своей смертью (13 января) один из главных для биографии Новоселова годов – 1887. До этого он успел, однако, обеспечить сыну прекрасное классическое образование еще в гимназии и потом на историко-филологическом факультете Московского университета, который Михаил закончил в 1886 году. Тогда никто не предполагал, насколько пригодится Новоселову хорошее знание греческого: защитники классического образования в эпоху Александра III всегда приводили аргумент о надобности греческого языка для чтения отцов Церкви, но при этом гимназические программы не имели ничего общего с христианской Византией. Последнее, в чем отец успел повлиять на судьбу Михаила, – удержал его от получения медицинского образования. В качестве компромиссного способа послужить народу Михаил выбрал преподавание в учительской семинарии в Торжке и в одной из сельских школ. Долго это не продлилось из-за наставших вскоре осложнений с полицией, но педагогические навыки очень и очень пригодятся Новоселову впоследствии – сначала чтобы мирить друг с другом разные группы интеллигенции, а после революции – чтобы объединять в Истинноправославной Церкви крайне разные и подчас почти антагонистические силы.
Мать Новоселова Капитолина Михайловна, которой он был крайне предан, будет и его крестом. Уже в 1891 году у нее были настолько явные признаки психического заболевания, что сын боялся, как бы не пришлось ее отдавать в больницу. Тогда еще не были изобретены психотропные средства, и поэтому лечение в стационаре имело гораздо меньше смысла, чем сейчас. С возрастом ее состояние не могло улучшаться, но, видимо, у сына появились специальные навыки по уходу за больной, которая осталась на его попечении. Она прожила с ним до самой смерти 12 декабря 1918 года, а после ее кончины все многочисленные друзья Новоселова молились об упокоении ее души. Похоже, такое окончание ее судьбы оставило Новоселова с чувством удовлетворения от удачно завершенного трудного и небезопасного дела.
Лев Толстой был близким другом семьи. Можно сказать, что Михаил вырос у него на руках. Буквально это было не вполне так, хотя и похоже, а душевно – именно так. Духовно, впрочем, оказалось, что тоже «не так». Сохранилась почти полностью переписка Новоселова с Толстым. О молодом Новоселове много упоминаний в различных записях Толстого и людей из его окружения. Несмотря на все последующие расхождения между Новоселовым и Толстым, личного разрыва между ними никогда не было. За несколько дней до смерти Толстой с интересом читал изданные Новоселовым брошюры о православии, которые увидел в Шамордино у своей сестры монахини Марии. Он успел оттуда продиктовать свое последнее письмо Новоселову с просьбой прислать ему еще этих брошюр. Из письма следовало и то, что, уйдя из Ясной Поляны, Толстой планировал надолго задержаться в Шамордино около монастыря (эти планы изменились еще до того, как письмо было отправлено). Умирающий Толстой на станции Астапово был полностью изолирован своим окружением, и к нему не допустили отца Варсонофия Оптинского, к которому Толстой успел передать через свою сестру-монахиню просьбу приехать. «Но Судья, которому все открыто, – напишет Владислав Ходасевич, – судил Льва Толстого, взирая не на то, что было , не на то, что произошло изволением людей, но по тому единственно, что был о бы , если бы состоялось последнее общение Толстого с Церковью. Этого суда мы не знаем». Но мы знаем, во всяком случае, что в этой борьбе за душу Толстого Новоселов стоял с правой стороны в первых рядах.
«Николай Палкин»
1887 год проходил в общении со сверстниками и обсуждении планов на будущее, пока еще неопределенных. Речь шла, конечно, о том, чтобы воплотить идеи толстовства в собственной жизни. Вокруг Новоселова собрался молодежный кружок. Теперь это на всю жизнь: где Новоселов, там собирается какой-нибудь кружок; даже в последней тюремной камере, после чего его расстреляют – формально, именно за это.
Тем временем в руки Новоселова попала недавняя (1886 года) и даже так и не обработанная автором для печати рукопись Толстого «Николай Палкин». Новоселов размножил ее на гектографе. Это было сделано без ведома автора, но Толстой в таких случаях и не требовал уведомлений. Очерк не содержал в себе ничего напрямую революционного – да и не мог содержать, так как толстовцы были противниками всех видов насилия, включая революционное. Но относительно жестокостей времен Николая I, да и более поздних, было рассказано немало, так что небольшой криминал в его распространении был.
Новоселова должна была заинтересовать главная мысль очерка – о том, как у нормального человека отключается совесть, когда он «выполняет долг» (а потом опять включается, когда перестает выполнять). Главный герой очерка, 95-летний солдат, считает себя виновным перед Богом в различных грехах, но совершенно не считает грехом свое личное участие во всевозможных жестокостях по службе, хотя сам же осуждает все это зверство. Однако в действительности Божий закон один и тот же для тех поступков, которые мы совершаем сами, и для тех, которые мы совершаем по требованию начальства.
«Но мы дошли до того, – заключает Толстой, – что слова “Богу Божие” для нас означают то, что Богу надо отдавать копеечные свечи, молебны, слова, – вообще все, что никому, тем более Богу, не нужно; а все остальное, всю свою жизнь, всю святыню своей души, принадлежащую Богу, – отдавать Кесарю!» В этих словах сразу же узнается лейтмотив позднейшей аргументации Новоселова против идеи «спасения Церкви» при большевиках как борьбы за дозволение совершать культ, пусть хотя бы и ценою рабства у антихристовой власти. А также против другого эпидемического поверия в среде священнослужителей – будто рядовые клирики не отвечают за грехи, совершенные по приказу епископов.
Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908 г.
Сразу вспоминаются пассажи из текста церковного «самиздата» 1928 года, написанного ближайшим учеником Новоселова священником Феодором Андреевым в соавторстве с ним самим (так называемая «Апология отошедших от митрополита Сергия»). Авторы обращаются к знакомому епископу; адресат недоумевал, как они могли не послушаться высшего церковного начальства, которым был для них митрополит Сергий, будущий первый советский патриарх:
«Дисциплина же закрывает Вам глаза и на те великие полномочия, которые дает… [церковное право] даже мирянину, делая его разумным зрителем и участником дел Божиих даже тогда, когда они принимают почти апокалипсические размеры. Но рабу дисциплины невозможно представить падение предстоятеля, т. к. это бросает тень и на него самого, поэтому всякое проявление собственного разума в подчиненных он спешит представить как бунт против начальства. …если бы м. Сергий сперва объявил запись в свою партию – тогда получилась бы хоть дисциплина партийная, но он воспользовался уже готовым обществом, иначе сплоченным, иными думами мыслящим, и просто надел на него безглазую маску дисциплины, за которой, поэтому, исчезли последние остатки и личности, и совестливости человеческой, и осталась дисциплина, как таковая, «ученичество» (перевожу слово по-русски) без «Учителя», настоящее «отвлеченное понятие». Но, мало того, магическая пустота этого слова сама околдовала тех, кто его исповедует…»
Два идеалиста
Публикация толстовской брошюры обернулась для Новоселова сразу и близкими, и отложенными последствиями. Те и другие наступили благодаря встрече с ровесником (родились в один год), тоже идеалистом и тоже своего рода народником, критичным к революционному народничеству – Сергеем Васильевичем Зубатовым. Это был как раз тот год (1886–1887), когда Зубатов только начал свою борьбу с революционерами, внедрившись в народовольческую среду в качестве секретного агента. Всего через несколько лет он сам возглавит в Москве работу с секретной агентурой, и столь успешно, что в Москве будут разгромлены все революционные организации. Зубатов считал, что помочь рабочим в противостоянии капиталистам необходимо, но это могут сделать лишь правительство и монархическая власть, а никак не революционеры. Последних он знал близко, и, собственно, с разочарования в их моральных качествах начался путь Зубатова в политику. Сам Зубатов пал жертвой собственного идеализма. Сначала его съела государственная бюрократия, которая, как и всякая бюрократия, не могла по самой своей природе сотрудничать с инициативой снизу. Бюрократия разрушается от всего, что делается не по указанию начальства, даже если это делается в защиту самого начальства. Зубатовская идея о прямом союзе между рабочим движением и монархической государственной властью была прихлопнута его же собственным начальством как раз тогда, когда, и как раз потому, что она доказала свою эффективность. После вынужденной отставки Зубатов уже не захотел возвращаться на государственную службу. 3 марта 1917 года, узнав об отречении Михаила и, таким образом, о конце русской монархии, которой он служил всю жизнь, Зубатов немедленно застрелился.
Зубатов заинтересовался новоселовским кружком, узнав об издании «Николая Палкина». Скорее всего, он не разобрался в отличии «новоселовцев» от революционных обществ: «история» была раскручена по полной, несколько членов кружка, включая Новоселова, были в декабре 1887 года арестованы, и Новоселову грозила Сибирь. Во всяком случае, едва ли не новоселовский случай имел в виду Зубатов, когда, уже будучи в отставке, писал историку Владимиру Бурцеву: «Справедливость требует добавить, что в кратковременный период контр-конспиративной деятельности (несколько месяцев) имело место два-три случая, очень тяжелых для моего нравственного существа, но они произошли не по моей вине, а по неосмотрительности и из-за неумелой техники моих руководителей».
Дело разрешилось в феврале 1888 года на высшем уровне. Лев Толстой лично явился к начальнику Московского жандармского управления генерал-лейтенанту Ивану Львовичу Слезкину Второму, и сказал, что раз автор брошюры – он, то и ответчиком нужно сделать его. Интеллигентный генерал ответил: «Граф! Слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить!» Впрочем, окончательно дело было решено лишь самим Александром III. Он согласился с докладом министра внутренних дел Д.А. Толстого о том, что «Николай Палкин» написан «вне каких-либо преступных связей и намерений, исключительно под влиянием религиозного фанатизма».
Новоселова освободили из-под ареста, но он был отдан под гласный надзор полиции и наказан административно запретом жить в Москве и Санкт-Петербурге. Его посещения Москвы стали нелегальными и подчас приводили к неприятностям по полицейской части. Педагогическая карьера Новоселова оказалась насильственно прервана. Еще несколько лет он нервно реагировал на любой интерес полиции к своей персоне. В письме к Толстому от 1891 года он описывает один случай, когда он уже полностью подготовился к аресту, предал себя в волю Божию и лишь постарался успеть зайти к матери. Но в тот раз тревога оказалась учебной.
Таковы были ближайшие последствия публикации Новоселовым «Николая Палкина». Отложенные последствия были куда важнее. Для будущего церковного деятеля в молодые годы полезны вовсе не семинарии (в которых учили слушаться начальства вместо Господа Бога), а умеренные дозы политических репрессий. Тут даже неважно, если твое дело не будет безупречно правое. Хотя бы несколько лет жизни в обстановке опасности, исходящей от государственной власти, дают молодому человеку вакцинацию от страха тюрьмы или занятий нелегальной деятельностью. У него не формируется патологической аддикции к легальности и государственной защите, которая характерна для русских церковных деятелей еще больше иных грубых пороков. Впоследствии, когда ему придется принимать значимые для Церкви решения, это очень поможет не отвлекаться на посторонние Церкви личные интересы. И, главное, модель церковной организации, намертво прилипшей к истукану государственной власти, не будет у него вызывать ничего, кроме естественного для христианина физиологического отвращения.
«Секта перховцев» и монашество в миру
Обстоятельства просто вы талкивали Новоселова в сель скую жизнь. Уже в 1888 году он покупает земли в селе Дугино Тверской губернии, неподалеку от родового поместья, где жили его дед и мать. Там создается сельскохозяйственная община толстовцев. Журналисты назовут ее членов «перховцами» по названию ближайшего к ней села, Перхово. В ее основном составе периода расцвета (1889 год) было пять человек – три мальчика и две девочки, 23–25 лет (впоследствии все они так или иначе отдалились от толстовства, но ни у кого, кроме Новоселова, не осталось острого интереса к религии). Ставилась задача создать самоокупаемое крестьянское хозяйство среднего достатка и помогать образованию окрестных крестьян. Параллельно аналогичные эксперименты были поставлены толстовцами в других местах России, в том числе и в Тверской губернии.
Несмотря на энтузиазм молодости, экономическая сторона дела не заладилась. В этом смысле община перховцев, будучи одной из первых, не оказалась одной из лучших. Эта и подобные ей общины доказали, что для городского жителя переход к сельскому хозяйству возможен лишь в качестве редкого исключения. На этом интерес самого Толстого к подобным экспериментам иссяк. Как водится, общине «перховцев» достались и иные трудности, помимо личной неприспособленности общинников к крестьянскому труду. Развалу общины много содействовал один молодой человек, как сказали бы теперь, нарциссического склада, который присоединился было к основному составу. Да и в этом основном составе не все было хорошо со здоровьем, психическим в том числе. Община закрылась приблизительно весной 1891 года, примерно тогда, когда одного из основных ее членов пришлось поместить на несколько месяцев в психиатрическую лечебницу. Новоселов еще немного пожил в другой общине, но вскоре оставил этот род деятельности. Бывшие перховцы еще успели «поработать на голоде» (термин толстовцев той поры) зимы-весны 1891–1892 годов в Рязанской губернии, где толстовцы развернули бесплатные столовые. Деятельность общинников поначалу взбудоражила журналистов, а через них полицию, но никаких причин им мешать у полиции не оказалось. Они достаточно хорошо умели мешать себе сами.
Такова была внешняя канва перховской истории. Как водится, ее внутренняя канва была намного важнее. Новоселовская община была заодно и экспериментом в том жанре, который в 1920-е годы назвали бы «монастырь в миру». Для Новоселова лично этот момент был в числе самых главных. Еще в 1887 году у него обозначилось по поводу семьи и личного имущества расхождение с Толстым, подробно обсуждавшееся в их переписке. Новоселов усмотрел в поведении Толстого непоследовательность – зачем он сам, проповедуя аскетический образ жизни, сохраняет за собой огромный капитал и живет с совершенно лишней графиней? Толстой, впрочем, и сам гораздо раньше начал терзаться от этого противоречия и поэтому отвечал Новоселову кротко. Нам сейчас известно, что последняя попытка разрешить это противоречие привела Толстого сначала в Шамордино, а потом на станцию Астапово.
Новоселов принадлежал к тому поколению религиозно ищущей молодежи, которое неизбежно должно было подрасти после «людей со сложной биографией» (в аскетическом смысле) – Константина Леонтьева и Владимира Соловьева. Для славянофилов, не только старших, барский уклад семейной жизни оставался непререкаемой и обычно даже не осознаваемой аксиомой. Странность этого на фоне декларируемой приверженности к традиционному православию бросалась в глаза Герцену, но не им самим. Только супруги Киреевские отошли от этого стандарта, посвятив себя сотрудничеству со старцем Макарием Оптинским в деле перевода и издания творений святых подвижников, – но одновременно и уйдя с общественной сцены. Для следующего поколения религиозных властителей молодежных дум, Достоевского и Толстого, при всем их различии, проблема совмещения или несовместимости семьи и духовного поиска была в центре их всех произведений (и, разумеется, не получила не только простого, но и вообще никакого решения). Леонтьев и Соловьев были в этой новейшей истории русской мысли первыми – опять же, при всем их различии, – кто сказал, что черное это черное, а белое это белое. Не надо путать духовное с семейным, хотя они имеют друг на друга большое влияние; духовное должно быть первым, и это оно должно определять, что делать с семейным и сексуальным, хотя обычно у людей бывает наоборот. На следующем этапе должны были явиться молодые люди, у которых просто «не дойдут руки» до семьи, так как открывшиеся им (вставшим на плечи гигантов) горизонты духовных поисков поставят перед ними слишком много гораздо более значимых проблем. А также, разумеется, вместе с ними должны были появиться молодые люди и в точности противоположных взглядов, которые, оставаясь на религиозной почве, будут атаковать историческое христианство со стороны его семейной и сексуальной морали (это сделает В.В. Розанов, к которому мы еще вернемся, так как и он окажется в кругу друзей Новоселова).
Новоселов с самого начала своей сознательной жизни был таким молодым человеком, которому важно узнать только то, как правильно верить в Бога и жить по этой вере. Он совершенно не планировал даже создания семьи, не говоря уж о том, чтобы вести скотский образ жизни, который тогда называли «холостяцким». Семья – слишком ответственное и трудоемкое занятие, чтобы посвящать ему себя, не имея по-настоящему сильной мотивации.
Может быть, стоит сказать тут, чтобы потом не возвращаться: едва ли нужно доверять сообщению Валерии Дмитриевны Пришвиной (урожденной Лиорко, вдовы писателя М.М. Пришвина) о кратком периоде послушничества Новоселова в некоем неизвестном монастыре, в результате которого он понял, что жизнь в монастыре – не для него. Никакими другими данными это не подтверждается (хотя, по правде сказать, где-то от 1893 года, когда расставание с толстовством еще не было окончательным, и до 1901 года данных о Новоселове не так уж много; теоретически, нашлось бы время и для монастыря). Все же более вероятно, что поводом для этих слухов стало переселение Новоселова в Данилов монастырь в Москве в 1918 году, где он, видимо, планировал остаться навсегда и быть там похороненным (мы вернемся к этому ниже, когда будем обсуждать вероятность факта принятия Новоселовым монашества). Мемуары Пришвиной («Невидимый град») рисуют Новоселова с очень близкой дистанции и очень ярко. В 1924–1927 годах ей, действительно, привелось довольно много общаться с ним, находившимся тогда на нелегальном положении, и даже временами жить рядом. Встретившись с ним 25-летней девушкой, она тогда же признала его за святого и оставалась при этом убеждении всю жизнь. Поэтому ее воспоминания тяготеют к агиографическим топосам, то есть к некритическому воспроизведению тех слухов, которые клубились вокруг Новоселова, если эти слухи совпадали с ее личным представлением о святости. Так и в этом случае: если не монах, то пусть хотя бы послушник. В то же время, в некоторых вопросах у нее осталось поразительное непонимание Новоселова. Это не только обращенные якобы лично к ней слова Новоселова о том, что отделение от митрополита Сергия (Страгородского) – это раскол (в действительности как раз Новоселов был главным архитектором этого якобы раскола). Также это – и абсолютное непонимание принципов монашества как такового, и монашества в миру как его частного случая.
В 1920-е годы многие молодые люди – верующие, но совершенно не настроенные на монашество – не понимали своего действительного душевного расположения. Под влиянием скорбных обстоятельств тогдашней церковной жизни они иногда пускались во всевозможные эксперименты как с монашеством, так и с особыми венчанными браками. Такие особые браки не предполагали обычной супружеской жизни – и даже иной раз имели своим продолжением одновременный тайный монашеский постриг обоих супругов, – но при этом супруги испытывали и культивировали в себе совершенно не подобающие монашеству (но зато подобающие супружеству) аффективные расположения. Автобиография Пришвиной тут дает много поучительного материала, включая историю ее двух состоявшихся и одного не состоявшегося замужеств в течение только 1920-х годов (Пришвиной она станет гораздо позже и уже в результате нормального замужества, правда, в возрасте 41 года).
«Кое-что таинственное» и тень Леонтьева
Отход Новоселова от толстовства нужно датировать 1892–1893 годами, но подробностей мы не знаем. Элементы критического отношения к Толстому, как мы отчасти видели, имелись и раньше, но они не приводили к разрыву. Так, к концу 1880-х годов относится история, переданная в мемуарах Сергея Николаевича Дурылина («В своем углу») – в 1910-е годы представителя младшего поколения (родился в 1886 году) новоселовского «Кружка ищущих христианского просвещения», но идейно более зависимого от П.А. Флоренского, нежели от Новоселова. Дурылин рассказывает, со слов Новоселова, как Толстой перебирал с учениками мыслителей древности (Конфуций, Лао Цзы, Будда, Сократ…), и кто-то спросил его, кого из них он хотел бы встретить лично. Толстой кого-то назвал, и тогда Новоселов спросил с удивлением: «А Христа разве вы не желали бы увидеть, Лев Николаевич?» – «Л.Н. отвечал резко и твердо: “Ну уж нет. Признаюсь, не желал бы с ним встретиться. Пренеприятный был господин”. Сказанное было так неожиданно и жутко, что все замолчали с неловкостью. Слова Л.Н. Авва [так называли Новоселова в 1910-е годы] запомнил точно, именно потому, что они резко, ножом, навсегда резанули его по сердцу». Тем не менее и после этого разговора Новоселов еще несколько лет оставался толстовцем и не веровал в божественность Христа.
В письме к Толстому от 1893 года Новоселов сетует на невольно доставленные им огорчения – очевидно, из-за идейных расхождений с Толстым, – но то же самое письмо показывает все еще сохраняющуюся вовлеченность Новоселова в круг толстовцев. Данных о том, когда именно и при каких обстоятельствах Новоселов стал православным, то есть присоединился к Церкви, у нас нет. Судя по косвенным признакам, это произошло не позднее середины 1890-х годов. Будучи крещеным в младенчестве, Новоселов должен был быть принят из толстовства через таинство покаяния (исповеди), в котором он должен был покаяться в своей принадлежности к толстовству. Это был, неизбежно, вполне определенный и формальный момент, который имел точное время и место и к которому Новоселов наверняка готовился достаточно долго, обсуждая в это время с кем-то из православных клириков и мирян чисто «технические» вопросы будущего присоединения. К сожалению, мы ничего не знаем о православных контактах Новоселова в этот период. Можно только сказать, что на его сближение с православием повлиял Владимир Соловьев, с которым как раз тогда Новоселов начинает близко дружить. Соловьев еще с 1880-х годов был известен своей полемикой против Толстого. Однако Соловьев сам мало что знал о православии с этой «технической» стороны и вообще в начале 1890-х годов был все еще довольно далек от самого себя времени «Легенды об Антихристе».
Весьма содержательно еще одно свидетельство, сохраненное П.А. Флоренским, который ссылается на устное сообщение Новоселова, но, увы, не дает никакой датировки. «Новоселов как-то спросил: “Но есть же, Лев Николаевич, в жизни кое-что таинственное?” – Толстой ответил, раздраженно напирая на каждое слово: “Ничего такого, друг Михаил, нет ”». Понятно, что Новоселов, в конце концов, все-таки решил, что «есть». Менее очевидно другое: что же именно «есть»? Эпоха предоставляла два диаметрально противоположных ответа, сформулированных старшими. Один был дан Константином Леонтьевым, другой Владимиром Соловьевым, и мы обсудим оба чуть ниже. Особенностью Новоселова стало то, что он выбрал Леонтьева, но шел к этому выбору по следам Соловьева. Поддаваясь посмертному влиянию Леонтьева, Соловьев «перерастал» сам себя, а уж Новоселов, как водится, «перерастал» учителя.
Впрочем, связь Новоселова с Леонтьевым не ограничивалась посредничеством Соловьева. С середины 1890-х годов Новоселов сближается с одним из самых преданных учеников Леонтьева и своим ровесником (родились в один год) – московским священником Иосифом Фуделем. Вскоре они начнут сотрудничать в издании актуальной для интеллигенции религиозной литературы. Фудель впоследствии издаст «старое» (дореволюционное) собрание сочинений Леонтьева и до самой своей смерти в 1918 году будет считаться главным хранителем его наследия. Фудель, однако, не имел леонтьевской харизмы, и, может быть, вернее было бы его сравнить не с самим Леонтьевым, а с одушевленным музеем Леонтьева. В таком случае, если продолжить сравнение, Новоселов вышел бы новым воплощением Леонтьева – причем, как чисто аскетическо-религиозной, так и религиозно-политической составляющей его натуры. Правда, Новоселов никогда не будет всерьез интересоваться мировой политикой, и даже внутренняя политическая ситуация в России будет его интересовать только в духовных аспектах. Но ведь и Леонтьева вся мировая политика интересовала только в духовных аспектах…
Собственная связь с Леонтьевым осознавалась Новоселовым как нечто важное. Достаточно сказать, что он зарезервировал для себя то могильное место на кладбище Гефсиманского скита неподалеку от Троице-Сергиевой лавры, которое мы теперь знаем как могилу В.В. Розанова. Это по соседству с могилой Леонтьева – настолько близко, что удобно служить панихиду по ним обоим сразу. Когда-то это место Новоселов зарезервировал для себя, но в 1919 году, когда Розанов умер, сподобившись христианской кончины, исповедавшись и причастившись у своего общего с Новоселовым друга священника П.А. Флоренского, друзья покойного решили похоронить его на этом «новоселовском» месте. Впрочем, Новоселов в то время подолгу жил в Даниловом монастыре в Москве и надеялся «похорониться» там.
Аскетизм и оккультизм
Леонтьевский и соловьевский ответы о природе «чего-то таинственного», которое все-таки «есть», можно свести каждый к одному слову: соответственно, аскетизм и оккультизм.
Христианская аскетика предполагает, что все в мире определяется следующим набором причин: естественными причинами (теми, которые признаются и атеистами, и которые изучаются науками), действием ангельских сил (которые могут быть как добрыми, то есть собственно ангельскими, так и злыми, бесовскими; но бесы по своей природе – это все равно ангелы, только падшие), а также непосредственно Богом. Важно, что этот список исчерпывающий и не допускающий ничего иного, хотя мы, строго говоря, не знаем исчерпывающего списка естественных причин. Область научно допустимого исторически меняется в зависимости от развития науки. Не меняется, однако, само представление о необходимости проводить различие между наукой и лженаукой.
Леонтьев научился именно такой, строгой и традиционной, аскетике еще на Афоне в 1870-е годы, где совершилось его покаяние и обращение, – от своего первого духовника, старца Иеронима. В России, будучи уже фактическим монахом в миру, он продолжал развиваться в том же направлении традиционного монашества под руководством Оптинского старца Амвросия – психологически и стилистически совершенно иного человека, более «народного» типа, но по аскетической сути такого же, как не «народный», а «профессионально-монашеский» старец Иероним. В конце жизни, когда Леонтьев был вынужден переселиться далеко от Оптиной, в Сергиев Посад, старец Амвросий тайно постриг его в монашество с именем Климента и передал под духовное руководство старца Варнавы из Гефсиманского скита – опять же, старца того же монашеского духа, хотя опять несколько иного стиля. «Тайность» пострига (означавшая отсутствие ведома архиерея и «проведения» пострига по канцелярским бумагам) была нужна для того, чтобы не попасть в подведомственность церковной бюрократии, которая для Леонтьева ничего душеполезного бы не сулила. На кладбище Гефсиманского скита его и похоронили – жившего до конца жизни в миру инока Климента. Леонтьев умел, что называется, «тонко чувствовать» в светской жизни и в своих художественных произведениях, но от этого только лучше видел, насколько весь этот эмоциональный шум неуместен в молитве и вообще в области духовного.
Оккультизм начинается не там, где пытаются выводить ложные закономерности (это как раз в науке бывает), а там, где принципиально допускают существование еще каких-то сверхъестественных сил, не являющихся при этом ни божественными, ни ангельскими, ни бесовскими. Традиционное христианство считает проявления таких сил либо обманом (возможно, самообманом), либо бесовскими действиями. Соответственно, практическое обращение к таким силам (не обязательно носящее форму магии) традиционное христианство понимает как общение с бесами.
Существует специальный аскетический термин «прелесть» (что означает по-церковнославянски «обман», «состояние обманутости») для тех состояний, которые возникают вследствие принятия бесовских действий за чистую монету. Всевозможные так называемые «медиумические» состояния являются химически чистым случаем прелести, когда уже никакой более глубокий духовный анализ для их квалификации не требуется. Но духовная квалификация какоголибо состояния как прелести никак не предопределяет квалификации медицинской (психиатрической). И, напротив, с психиатрической точки зрения эти состояния могут восприниматься как потенциальные симптомы психического заболевания, но не более того: для постановки диагноза важны не симптомы сами по себе, а лишь их сочетания (симптомокомплексы).
Поэтому тот, например, факт, что психическая жизнь Владимира Соловьева, несомненно, представляла бы объект профессионального интереса для психиатра, не является каким-то особенно значимым для нас, если мы хотим судить о подлинности его духовного опыта. Подлинный духовный опыт и даже святость могут быть и у психотика, а ложные «мистические» явления могут быть в жизни и у человека с наикрепчайшей психикой. По свидетельству своего близкого друга князя Евгения Трубецкого, Соловьев тоже понимал это так: он не отрицал психотического характера своих галлюцинаций – и даже надобности для себя в психиатрическом лечении, – но от этого они для него нисколько не теряли в своей духовной достоверности.
Отвращение от нигилизма и материализма в русском обществе конца XIX века, разумеется, далеко не всегда, а, напротив, лишь изредка приводило к традиционно христианским воззрениям на область «чего-то таинственного». Гораздо успешнее развивался оккультизм. К началу ХХ века оккультизм, в тех или иных формах, стал господствующим в русском обществе принципом нематериалистического мировоззрения. По сути, тут ничто не меняется до сих пор (так, все книгопродавцы сегодня знают, что самая популярная литература на околорелигиозные темы – эзотерическая, с огромным отрывом от всех остальных). Но в течение всей первой трети ХХ века происходил широчайший разлив и просто некое буйство волн оккультизма. Оккультизм принимал как нехристианские и христианские внецерковные, так и церковные формы.
Новоселов близко соприкоснулся с оккультизмом одновременно с первым же соприкосновением с церковным христианством или даже еще раньше – в лице его нового старшего друга Владимира Соловьева. Но и до самой революции Новоселову придется оказываться на передовой тогдашней войны между церковным христианством и оккультизмом в церковной среде. Эта война будет иметь два главных театра военных действий, разной степени известности в обществе, но, может быть, одинаковой важности для Церкви: общероссийские споры вокруг личности Распутина и споры внутри кружка Новоселова по поводу имяславия.
Владимир Соловьев
В области церковного, а точнее, богословского оккультизма Владимир Соловьев посмертно получил место отца церкви в священном предании так называемой «русской религиозной философии». Постепенное преодоление Соловьевым собственного «мистического» опыта в самые последние годы жизни при этом не принималось во внимание.
Главной «мистической» (в том самом, оккультном смысле слова) темой Соловьева была София – персонализированная Вечная женственность и некое особое существо, отличное от Бога и от прочей твари. К ней будет восходить вся «софиологическая» традиция так называемой «русской религиозной философии» (П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков и др.). Для Соловьева тут была не просто концепция и вера, но абсолютно конкретный и реальный жизненный опыт. Он описан им самим в 1897 году в поэме «Три свидания», где говорится о трех видениях этой Софии, определивших его жизнь. Подзаголовок поэмы указывает дату и место каждого из этих свиданий: «Москва – Лондон – Египет. 1862–1875–1876». Из поэмы совершенно ясно, почему Владимир Соловьев не женился: с 12 лет у него уже была его София.
Характер его отношений с «Софией» лучше всего виден из довольно многочисленных образцов его так называемого «автоматического письма» – когда посреди черновика какого-либо сочинения или просто на случайной бумажке Соловьев записывает измененным почерком реплики невидимой собеседницы. Двенадцать образцов такого письма Соловьева были подготовлены к печати в 1927 году литератором-символистом и литературоведом Георгием Чулковым (кстати, тоже добрым знакомым Новоселова), но публикации пришлось ждать до 1992 года. «София» подписывается по-французски Sophie и тональность ее беседы, примерно, следующая: «Sophie. Ну что же милый мой? Как ты теперь себя чувствуешь? Милый я люблю тебя. Sophie. Я не хочу чтоб ты был печальным. Я дам тебе радость. Я люблю тебя. Sophie. (…) Я буду рада получить от тебя весть. Милый мой как я люблю тебя. Я не могу жить без тебя. Скоро скоро мы будем вместе. Не печалься все будет хорошо. Sophie» (этот текст – внутри черновика какого-то богословско-философского рассуждения о мировой душе).
Владимир Сергеевич Соловьев
В другом месте «София» обещает: «Мы будем вместе жить с января 1889». Видимо, общение с «Софией» стало как-то понемногу сходить на нет как раз после «Трех свиданий» – в результате мистического видения в каюте парохода во время второго путешествия в Египет в 1897 году. Современники рассказывают об этом видении хоть и со слов Соловьева, но довольно по-разному, однако, не расходясь в сути: Соловьев увидел бесов и таким образом убедился в их реальном существовании. Он сам описал это в стихах:
Нет, не верьте обольщенью, –
Чтоб сцепленьем мертвых сил
Гибло Божие творенье,
Чтоб слепой нам рок грозил.
Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар …
«Что-то таинственное», как он понял только в этот момент, – это не обязательно «что-то хорошее». Это стало толчком к дальнейшей эволюции Соловьева в сторону церковного христианства. Если в том же 1897 году он хватается уже не только за Платона, но и за Оригена (хоть и осужденного за ересь, но очень значительного церковного автора III века), то в самые последние месяцы жизни его внимание переключается на Максима Исповедника (VII век) – пожалуй, главного богослова за всю историю православия.
Таким образом, путь Соловьева к христианской кончине с исповедью и причащением был осознанным и закономерным, хотя и очень тернистым. Именно на этом пути Новоселов оказался к нему особенно близок. Нужно думать, что их духовная помощь была взаимной. Соловьев, по всей видимости, обсуждал с Новоселовым то, что, судя по их мемуарам, не вполне мог обсуждать с ближайшими друзьями. В частности, В.Л. Величко лишь вскользь упоминает, что Соловьев (очевидно, в последний период жизни) «…из молитв… особенно действительною считал молитву мысленную». Что именно подразумевал тут Соловьев, мы, скорее, сможем узнать через Новоселова, и это настолько важно, что чуть ниже мы поговорим об этом отдельно. Но были и другие постоянные темы, запомнившиеся тому же рано умершему Величко (1860 – 31 декабря 1903/ 13 января 1904), но ставшие впоследствии куда более актуальными для Новоселова. Величко воспроизводит один такой, по его словам, типичный для позднего Соловьева разговор, имевший место за месяц до смерти, в июне 1900 года. Здесь Соловьев предсказывает уже вплотную приблизившееся будущее и даже само название «катакомбной» церкви, в которой Новоселову будет уготовано своеобразное служение главного архитектора.
Соловьев объясняет Величко, почему он, захотев сейчас участвовать в церковном богослужении, все же не сможет заставить себя пойти в многолюдный городской храм:«Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане опять будут собираться в катакомбах, потому что вера будет гонима – быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу!»
Нет ни малейшего сомнения в том, что подобные же вещи выслушивал от Соловьева и Новоселов. Речь тут шла не о совсем скором окончательном конце света, а о наступлении одной из «предпоследних» эпох – в соответствии с тем, что написано в Апокалипсисе. Лет через десять в детализацию этих мыслей, разбуженных Соловьевым, погрузится будущий друг Новоселова Лев Тихомиров, и результаты тихомировской рефлексии, с подачи Новоселова, сильнейшим образом повлияют на самосознание православных людей в 1920-е годы.
В московской квартире Новоселова в 1900-е – 1910-е годы в большой проходной зале будут висеть три портрета: Хомякова, Достоевского и Соловьева. Каждый из них был олицетворением одного из этапов на пути интеллигенции в Церковь, и всем троим было место лишь в проходной комнате: несмотря на огромную пользу каждого из них для движения в сторону Церкви, никто из них еще не представил понастоящему церковного мировоззрения. Из проходной комнаты гости Новоселова попадали в кабинет, где проходили всевозможные собрания на религиозные темы, и там уже стоял не портрет, а икона Иоанна Лествичника – олицетворения лествицы (лестницы) аскетических добродетелей, ведущей на небо.
«Откровенный рассказ Странника»
Одно из первых богословских сочинений Новоселова – изданная им самим в 1902 году в качестве первого выпуска впоследствии знаменитой серии «Религиозно-философская библиотека» брошюра «Забытый путь опытного богопознания». Там есть одно авторское примечание к основному тексту, которое объясняет сразу многое: что это за «молитва мысленная», к которой был так привержен Владимир Соловьев в последние годы; что было главным из того, чему Новоселов научился в личном общении с Соловьевым; как они оба, Соловьев и Новоселов, пришли к церковному православию… Вот полный текст этого примечания:
«Странник, записки которого подарил мне за полгода до своей кончины Влад. С. Соловьев, невольно напоминает мне своими речами одно из последних слов, которые я слышал от покойного философа-христианина. На мой вопрос: “что самое важное и нужное для человека?” он ответил: “быть возможно чаще с Господом”, “если можно, всегда быть с Ним”, – прибавил он, помолчав несколько секунд».
Речь идет о книжке, впервые появившейся на русском языке в 1881 году и теперь переведенной на языки всего мира и читаемой иногда далеко за пределами православия. Так, она (уже в английском переводе) сыграет центральную роль в повести Сэлинджера «Фрэнни и Зуи» (1961). Для монашества и православной аскетики в ХХ веке она стала основополагающим текстом. Очевидно, еще раньше она стала таким текстом для Соловьева и Новоселова.
Странник, автор «записок», или «рассказов» (наиболее известное название книги, появившееся во втором издании 1884 года, – «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», а в первом издании книга называлась в единственном числе: «Откровенный рассказ странника…»), до сих пор остается неизвестным. Мы не знаем, какое именно издание подарил Новоселову Соловьев – второе или первое. Разница велика, так как текст второго издания подвергся цензурным искажениям Феофана Затворника (Говорова, 1815–1894). Он убрал в том числе и всю линию конфликта духовного поиска Странника с официальной церковностью, а также радикально переработал состав святоотеческих текстов из приложения к книге – они стали больше ориентировать не на самостоятельную духовную жизнь, а на подчинение духовным авторитетам, – чем нарушил основную идею составителя этого собрания.
Смысл этой правки Феофана был тот же, что и его обширнейшей деятельности по созданию новых стандартов духовной жизни в целом (Феофан переводил, но также сильно цензурируя, многие аскетические тексты византийских отцов, и был, кроме того, очень плодовитым оригинальным духовным писателем). Он хотел ввести пробуждающееся возрождение исихазма и традиций русского нестяжательства в рамки тогдашней официальной церковности. А они, «как ни странно», упорно не хотели вводиться, так что Феофану приходилось перелицовывать даже святых отцов. Это вызывало к нему недоверие и в аскетике, и в догматике, а уже в 1910-е годы Феофан со своими тенденциозными искажениями святоотеческих писаний посмертно встанет в ряд духовных предтеч имяборчества, в борьбу с которым включится Новоселов.
Феофан отличался от своего современника и оппонента, епископа Игнатия (Брянчанинова, 1807–1867), который в своих советах ищущим, напротив, стремился спрятать духовную жизнь как можно дальше от церковного официоза, чтобы архиереи не затоптали. Игнатий стал и первым идеологом монашества в миру. Это ему принадлежала знаменитая фраза, обращенная к близкому ученику (впрочем, монаху и будущему епископу, Леониду (Краснопевкову)): «Ныне не должно удивляться, встречая монаха во фраке. Поэтому не должно привязываться к старым формам: борьба за формы бесплодна, смешна…». Само собой разумеется, что Новоселов развивался в русле традиции Игнатия Брянчанинова – отдавая, впрочем, должное и многому полезному у Феофана, но, вероятно, не вполне доверяя духу его христианства.
Как бы то ни было, даже если Новоселов поначалу и не знал неотцензурированного текста, его жизненный опыт конца 1890 – х годов уже был достаточен, чтобы мысленно залатать сюжетные дыры, проделанные феофановской правкой. А сюжет там заключался не только и даже не столько в том, как научиться непрестанной памяти Божией и творить со вниманием Иисусову молитву («Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»), но – и это главное – в том, как через молитву стяжать все христианские добродетели и даже саму христианскую веру. Это даст нам ключ к пониманию того, как пришли к церковному православию Владимир Соловьев и Новоселов, и это же даст нам понять, почему Новоселов позднее войдет в конфликт с другими церковными течениями, которые были другого духа.
Герой рассказа, Странник, услышал в церкви слова апостола Павла «непрестанно молитеся» (1 Фес. 5, 17), и они так запали ему в душу, что он захотел узнать, как можно их выполнить. Безуспешно он обходил в поисках ответа ярких церковных проповедников и преподавателей академии. Все они говорили о том, что настоящая молитва требует уже заранее и твердой веры, и дел добродетели, и бесстрастия, и внимания, и всецелой душевной преданности. Не видя в себе ничего из этих условий, Странник только все более приходил в отчаяние. Но, конечно, его не оставляла мысль, что здесь что-то не так: не мог апостол заповедать неисполнимое. Но тогда получалось, что все официальные учителя христианства не понимают в христианстве как раз самого главного (вот эта идея книги и подверглась жесткой цензуре Феофана). И действительно, как-то на пустынной дороге его нагнал «какой-то старичок, по виду как будто из духовных», который оказался схимонахом из какой-то пустыньки неподалеку. И этот монах (что характерно, не имевший никакого священного сана) стал его первым настоящим духовным наставником. Он научил его молиться, а для этого, перво-наперво, объяснил ему, в чем ошибаются все эти проповедники о молитве, кого ему довелось прежде слышать.
Их ошибка в том, что они перепутали причину со следствием. Не молитва является плодом всех этих добродетелей и пусть даже веры, а все добродетели и даже вера суть плоды молитвы. «Не можно без молитвы найти путь ко Господу, уразуметь истину, распять плоть со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24), просветиться в сердце светом Христовым и спасительно соединиться без предварительной, частой молитвы. Я говорю – частой, ибо и совершенство, и правильность молитвы вне нашей возможности… Следственно, токмо частость, всегдашность оставлена на долю нашей возможности как средство к достижению молитвенной чистоты, которая есть матерь всякого духовного блага. Стяжи матерь, и произведет тебе чад , говорит святой Исаак Сирин; научись приобрести первую молитву и удобно исполнишь все добродетели. А об этом-то и неясно знают и не много говорят мало знакомые с практикою и с таинственными учениями святых отцов». В этих словах безымянного старца безымянному Страннику мы безошибочно узнаём предсмертное поучение Соловьева Новоселову: «Что самое важное и нужное для человека? – Быть возможно чаще с Господом… если можно, всегда быть с Ним».
Иисусова молитва, полученная из рук Странника, стала той нитью, ухватив которую, Соловьев выбрался из своих оккультных скитаний в поисках лжеименной Премудрости (Софии). Ту же нить он бросил и Новоселову, чтобы тот мог выбраться из других скитаний – по дорогам толстовского рационализма.
Христианство, основанное на постоянной внутренней молитве, – это и существенно иное христианство, нежели то, что уже было знакомо русской интеллигенции. Серафим Саровский называл монахов без внутренней молитвы черными головешками, но ведь сказанное о монахах нужно применить и вообще ко всем тем, кто всерьез хочет быть христианами. Хомяков и Иван Аксаков в свое время сознательно (хотя ине ведая, что творят) отвергли учение о непрестанной молитве. Достоевский к нему так и не пришел, и поэтому его старец Зосима оказался – по мнению оптинских монахов, засвидетельствованному Леонтьевым, – таким же неестественным и поневоле карикатурным, как его же отец Ферапонт.
Практика внутренней молитвы имеет такое свойство, что от прикосновения к ней невозможно остаться прежним или хотя бы нормальным. Через нее путь только либо в серьезное христианство, либо в прелесть (что тоже серьезно). К ней прикоснулись супруги Киреевские, к ней прикоснулся Леонтьев – и изменились навсегда. Но после Леонтьева к ней прикоснулся уже не один человек, не один Новоселов, но целая генерация молодых христиан. Те из них, кого мы уже упомянули, или кого предстоит упомянуть, были возраста Новоселова или даже точно его года рождения: Иосиф Фудель, великая княгиня Елисавета Феодоровна, Антоний (Булатович)… От этой довольно большой группы поколения 1860-х пошла уже цепная реакция – прежде всего, через родившихся на двадцать лет позже, в 1880-х, и ставших их учениками. Эти два поколения принесут огромную жатву новомучеников и исповедников российских, когда количество пострадавших за Христа в течение двадцати-тридцати лет превысит их общее количество за всю христианскую историю.
Оборотной стороной такого воспитания на Страннике и молитве Иисусовой в тогдашних условиях церковной жизни стала потенциальная конфликтность, так как церковный мейнстрим был иным. Ведь одно дело – вера, которая приобретается от молитвы, а другое дело – вера, которая приобретается без всякой молитвы – и о которой, указывая на ее неспасительность, несмотря на правильность, апостол Иаков сказал: и бес и верую т и трепещут . Преемники нестяжателей в начале ХХ века окажутся преемниками их проблем XVI века, так как они «проснутся» (духовно) в церкви победившего и перегнившего иосифлянства (в том смысле, в каком этим словом называли противников нестяжателей в XVI веке; парадоксально, но факт: в ХХ веке имя иосифлян, в честь другого Иосифа, получат как раз противники советского «иосифлянства», и одним из их вождей станет Новоселов). Можно не сомневаться, что в XVI веке Новоселова ждала бы судьба Вассиана Патрикеева. Но и в ХХ веке его ждала судьба не лучше – и, конечно, не хуже.
Вспоминая «забытый путь»
Для человека, обретшего веру через молитву, было естественно посвятить свою первую богословскую книгу объяснению такого пути для всех. Так и появился в 1902 году новоселовский бестселлер, многократно переиздававшийся до революции, – «Забытый путь опытного богопознания». Новоселов старается объяснить, что богопознание бывает только опытным – или никаким. Как бы ни отличался высокий опыт святых подвижников от опыта юного неофита, но опыт – это всегда опыт, то есть открытие некоей реальности. И он всегда приобретается через молитву, а не просто через какие бы то ни было события внешнего или пусть даже внутреннего плана. Даже самый ничтожный опыт дает бесконечное богопознание, хотя потом должен быть следующий опыт с «еще более бесконечным» богопознанием. Эти формулировки про бесконечность принадлежат, впрочем, не Новоселову, а мне, но я тут перефразирую, с одной стороны, Симеона Нового Богослова, а с другой стороны – младшего друга Новоселова П.А. Флоренского, который как раз в начале ХХ века заметит логическое сходство между православным учением о божественной бесконечности и как раз тогда появившимся учением математика Георга Кантора о бесконечных множествах и трансфинитных числах.
Однако Новоселов «нулевых» годов ХХ века – это еще не тот строго православный богослов, каким он войдет в историю. К нецерковным либеральным богословским теориям он уже непримирим – часто несмотря на личную дружбу с их носителями. Он конфликтует, спорит, но даже его оппоненты, даже не соглашаясь с ним, его любят и доверяют. Так, он участвует в деятельности петербургских Религиозно-философских собраний 1901–1903 годов, организованных, с одной стороны, супругами Мережковскими, а, с другой стороны, столичным духовенством с Петербургским митрополитом во главе (митрополит не участвовал лично, но по его поручению председателем собраний был архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский), будущий первый советский патриарх). Там прозвучал новоселовский афоризм, выразивший незамысловатую суть его тогдашней проповеди: «Скажу кратко: на сомнение и отрицание (разумеется, серьезное и искреннее, – подчеркиваю это) можно истинно ответить только живой верой». В конце 1902 года он был там даже главным докладчиком на одном из заседаний по теме брака, где выступал с резкой критикой Розанова, на которую не осмеливались участники из числа духовенства (кажется, Розанов не обиделся, но Зинаида Гиппиус обиделась изрядно).
С другой стороны, в современном ему или относительно недавнем русском православии Новоселова привлекает чуть ли не все, что тогда называли «живое», – то есть почти все без разбору, что было свободно от схоластики семинарского образования. Сводом этой схоластики был массивный учебник для духовных академий «Догматическое богословие» Московского митрополита Макария (Булгакова). На его публикацию еще Хомяков успел отозваться в частном письме «Макарий провонял схоластикой». Новоселов развивает эту же тему в своем открытом письме Льву Толстому по поводу отлучения его от Церкви в 1901 году (это письмо также многократно переиздавалось). Не сомневаясь в справедливости отлучения от Церкви (поскольку синодальное решение лишь констатировало то положение, в которое Толстой добровольно и совершенно сознательно давно уже сам себя поставил), Новоселов на правах младшего друга обращается к нему с увещанием – поминая и Макария, и «опытное богопознание»: «Можно пожалеть, что Вам пришлось знакомиться с христианским богословием по руководству м<итрополита> Макария. Может быть, приобщение на первых порах к более жизненной и животворящей мысли богословов-подвижников раскрыло бы Вам глубочайшую связь между христианским вероучением и нравственностью, а главное, ввело бы Вас в сферу внутреннего духовного опыта, при котором только и можно непоколебимо верить в догмат и сознательно его исповедовать». Новоселовское письмо вызвало у Толстого полное отторжение, но личные симпатии не прервались, и, как мы помним, последнее чтение о православии Толстой принял из новоселовских рук.
В «Забытом пути» Новоселов перечисляет тех, кто особенно чужд схоластике и «имеет у нас добрый успех»: Хомяков, Самарин (Юрий Федорович, автор предисловия к богословским сочинениям Хомякова, в котором он назвал Хомякова отцом Церкви), Киреевский, Несмелов (один из первых ученых, связавших добротное изучение отцов Церкви с общей проблематикой философии и богословия), а также Феофан Затворник, епископ Антоний Уфимский (Храповицкий; будущий оппонент Новоселова в спорах об имени Божием, но в то время – автор серии интересных статей о «нравственном смысле» догматов, частично переиздававшихся Новоселовым) и Иоанн Кронштадтский с его книгой «Моя жизнь во Христе» (фраза из которой «Имя Божие есть Бог» даст повод к будущим спорам об имени Божием). Все эти авторы «…отреклись от стереотипного, мертвого и мертвящего, формально-диалектического метода мышления и пошли по новому пути богословской мысли, пути, который, кажется, лучше всего назвать “психологическим”». Новоселов, как видим, еще не понимает опасности «психологизма», с которой ему придется столкнуться при защите имени Божия как раз от субъективности и психологизма Антония (Храповицкого). Он во всем находит хорошее, включая и духовный опыт католических святых, на которых он ссылается в открытом письме Толстому как на добрый пример религиозности: он знает о его отличии от православного (и наверняка уже тогда читал и соглашался с тем, что написал об этом Игнатий Брянчанинов), но хотел брать хорошее и отсюда. Актуальность предостережений против аскетики западных вероисповеданий обозначится для него в начале 1910-х годов, и тогда появятся посвященные этому выпуски «Религиозно-философской библиотеки».
«Опытное богопознание», по мысли Новоселова, должно отдавать должное также и Льву Толстому (это публикуется на следующий год после отлучения Толстого от Церкви):
Нечего скрывать, что Толстой, например, всколыхнул стоячую воду нашей богословской мысли, заставил встрепенуться тех, кто спокойно почивал на подушке, набитой папирусными фрагментами и археологическими малонужностями. Он явился могучим протестом, как против крайностей учредительных увлечений 60-х годов, так и против мертвенности ученого догматизма и безжизненности церковного формализма. И спаси, и просвети его Бог за это! Как ни однобоко почти всё, что вещал нам Толстой, но оно, это однобокое, было нужно, так как мы – православные – забыли эту, подчеркнутую им, сторону Христова учения, или, по крайней мере, лениво к ней относились. Призыв Толстого к целомудрию (тоже, правда, однобокому), воздержанию, простоте жизни, служению простому народу и к “жизни по вере” вообще – был весьма своевременным и действительным. И мы должны, отвергнув всё неправое в его писаниях, принять к сведению и, главное, к исполнению то доброе, что он выдвигал в Евангелии в укор нам, а вместе с тем должны показать, что истинное разумение, а тем более достижение нравственного идеала Евангелия возможно только при условии правой веры, т. е. в Церкви.
Церковно-общественная деятельность Новоселова начинается как бы под девизом «за все хорошее, против всего плохого». Хорошее – это всё «жизненное»; плохое – это неверие или «мертвящий» богословский официоз. Казалось, жизнь не требует высокого богословия, а требует дать людям только самую первую, младенческую духовную пищу – то, что апостол Павел называл «молоком». Вскоре Новоселов будет призван к другим делам, но до самой революции он не оставит и эти. Настоящей наградой за эту просветительскую деятельность можно считать не столько избрание Новоселова в члены Московской духовной академии в 1912 году, сколько дарственную надпись благодарного Розанова на своей книге «Опавшие листья»: «Дорогому Михаилу Александровичу Новоселову, собирающему душистые травы на ниве церковной и преобразующему их в корм для нашей интеллигенции. С уважением, памятью и любовью В.В. Розанов» (цитируется у Пришвиной без указания, о каком томе речь – 1913 или 1915 года).
Лев Тихомиров и кружок Новоселова
Дружба Новоселова со Львом Тихомировым должна была начаться где-нибудь году в 1900-м. Во всяком случае, уже с 1904 года она приносила плоды в виде брошюр Тихомирова в новоселовской «Религиозно-философской библиотеке». 11 августа 1900 года Тихомиров записывает в дневнике со слов отца Иосифа Фуделя содержание уже известной нам предсмертной беседы Владимира Соловьева с Новоселовым о том, что прогресса и «даже соединения церквей» (православной и католической) не будет, и что надо теперь «о себе думать… Быть возможно больше с Богом… Если возможно – быть с Ним всегда…» Из этой записи Тихомирова чувствуется, что близкого знакомства с Новоселовым еще нет, но оно уже не за горами.
Тихомиров уже давно дружил с Фуделем и входил в круг последователей Леонтьева, которого считал ближайшим для себя, но недосягаемым образцом по-настоящему православного человека. Тихомиров только раз в жизни побывал в гостях у Леонтьева, уже незадолго до его смерти, и несколько страничек его воспоминаний об этом относятся к лучшему из написанного о Леонтьеве. Дружба Новоселова с Тихомировым помогла им обоим пройти через смуту 1905–1907 годов так, чтобы выйти из нее более серьезными христианами, чем они были раньше (сам бы я не дерзнул так сформулировать, но пытаюсь посмотреть на них глазами Леонтьева и использовать его лексику). В этой дружбе Новоселов был духовно старше, хотя физически на двенадцать лет младше. Тихомиров в одной записи 1916 года упоминает Новоселова как эталон человека, с которым ему « легко » (подчеркивая это слово и тем самым указывая на всю ширину спектра его значений). Но и Новоселову было чему поучиться у Тихомирова.
Как раз в 1907 году Новоселов, устав от различной кружковщины своих близких и не очень близких соратников, создаст свой собственный кружок, в котором будет запрещена политика, но станет нормой совместная молитва членов – «Кружок ищущих христианского просвещения в духе Православной Христовой Церкви». Этот кружок оказался очень прочным, так как его не надо было придумывать: его будущие члены и так уже были собраны вокруг новоселовской «Религиознофилософской библиотеки».
Новоселовский кружок просуществует до 1918 года включительно. Он будет собираться в московской квартире Новоселова в доме Ковригина напротив храма Христа Спасителя (Обыденский 1-й пер., д. 1). В этом кружке Новоселов получит ласковое и уважительное прозвание «Авва». «Авва» – это грецизированная форма арамейского «абба» – «отец»; так называли египетских монахов ранних веков, изречения которых собраны в специальные сборники (патерики) и находятся настолько же на слуху у людей монашеской культуры, насколько у интеллигенции на слуху стихи Пушкина. Сказался и возраст Новоселова: в 1907 году ему уже пятый десяток, и он уже старше многих своих молодых друзей, тоже участвующих в кружке – например, уже упоминавшихся Павла Флоренского (р. 1882) и Феодора Андреева (р. 1887). Кружок сочетает два поколения: среднее, из которого образован его костяк, и младшее, которое наполняет его жизнью и поддерживает температуру дружеских дискуссий.
Есть особая причина упомянуть об этом кружке в связи с именем одного из его далеко не самых ярких членов – Льва Тихомирова. Кружок стал для деятельности Новоселова результатом значительной перестановки приоритетов и некоторой переоценки некоторых ценностей. Общественно-политические аспекты этой деятельности отступили в далекую даль, а чисто религиозные общественные инициативы вышли на первый план. Соответствующая эволюция была совместным жизненным опытом Новоселова и Тихомирова.
В годы первой русской революции они оба, в меру сил, пытались противостоять разрушительным идеям и отстаивать монархию. Тихомиров это делал как политолог: в 1905 году он выпустил свой фундаментальный труд «Монархическая государственность», за который был награжден серебряной чернильницей от Николая II. Новоселов издавал брошюрки в пользу монархии, приводя убедительные для интеллигенции авторитеты (вроде Белинского) и публикуя также популярные статьи Тихомирова. В частности, эти статьи развивали идею позднего Леонтьева о том, что социализм в России непременно обернется «грядущим рабством» – огромным усилением деспотии и социального неравенства, – «и Великому инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Феодору Михайловичу Достоевскому». Последняя фраза – из письма Леонтьева к Розанову от 1891 года, тогда уже опубликованного. Это письмо и весь круг леонтьевских идей о социализме был камертоном, с которым сверяли «музыку революции» и Тихомиров, и Новоселов.
Когда в 1907 году революция отступила, ни у Новоселова, ни у Тихомирова не оставалось иллюзий о будущем монархии. Оба посчитали, что пытаться ее «спасать» и вообще стремиться к политическому влиянию на умы – это только зря отвлекаться от «единого на потребу». Для Тихомирова, пришедшего к таким мыслям параллельно с занятием поста главного редактора главной консервативной газеты, «Московских ведомостей» (1909–1913), такое умонастроение может показаться не совсем понятным, если не заглянуть чуть дальше в глубину его личности и биографии. Тогда станет видно, что и у него взгляд на политику был не столько практическим, сколько религиозным.
В молодости Лев Тихомиров был правой рукой Петра Лавровича Лаврова и, таким образом, заместителем руководителя террористической организации «Народная воля». Он судился по «процессу 193-х» в 1873 году. Почти сразу после освобождения (1878 г.) переходит на нелегальное положение, чтобы уйти от надзора полиции. На учредительном съезде «Народной воли» в 1879 году в Липецке избирается в ее Исполнительный комитет и поддерживает принятое съездом решение о подготовке цареубийства. В цареубийстве 1 марта 1881 года непосредственного участия не принимал (только потому, что в этот момент уже не был членом Исполнительного комитета), но стал автором прокламации Исполнительного комитета, выпущенной сразу после преступления. Прожив несколько лет в подполье, в совершенстве изучив искусство пользоваться поддельными документами, все-таки бежал в 1882 году от неминуемого ареста за границу. Использовал свое положение в руководстве партии, чтобы блокировать планы убийства Александра III.
В Женеве в 1882 году у него рождается сын Александр. Сын болеет, требует внимания, а эмиграция дает хотя бы частичную изоляцию от прежней среды общения. В 1886 году, именно в потоке размышлений, связанных с сыном, Тихомиров испытывает внутренний религиозный переворот. Он принимает православную веру, кается и соединяется с Церковью. В 1888 году во Франции он выпускает свою книгу-выстрел (даже целый залп реактивной артиллерии) – «Почему я перестал быть революционером». А в 1889 году присылает Александру III вместе с экземпляром этой книги прошение о помиловании и просьбу дать ему поработать в России на благо монархии (это уже второе письмо Тихомирова к царю: первое было после цареубийства – письмо-ультиматум от имени «Народной воли»). Просьба будет удовлетворена, хотя, к великому огорчению Тихомирова, государственная служба окажется для него навсегда закрыта. Прибыв в Петербург, он почти первым делом идет в Петропавловский собор к гробнице Александра II – молиться и просить прощения.
Упомянутый сын Тихомирова вырастет монахом Тихоном, а потом (в 1920 г.) станет седьмым епископом Кирилловским – городка, выросшего вокруг Кирилло-Белозерского монастыря. Епископство закончится арестом в 1927 году. После трех лет лагерей он освободится, но весь остаток жизни проведет в почти полном затворе в Ярославле – в суровых аскетических трудах и непрестанной Иисусовой молитве. Умрет в 1955 году и будет похоронен сергианами. Боевая подруга молодости Льва Тихомирова, известная народоволка Вера Фигнер писала в 1920-е годы о монашестве любимого сына Тихомирова как о страшном горе, постигшем его семью из-за предательства отца (которое она объясняла, скорее, психическим заболеванием, нежели злонамеренностью).
Отойдя от революционного народничества, Лев Тихомиров не очень изменил своим базовым народническим убеждениям, но теперь они привели его к монархизму. Он, однако, понимал монархию как власть народа, врученную династии или монарху, которую народ может и забрать. Тем не менее, сохраняя идеализированное представление о русском народе, он считал, что монархия – лучшая из возможных для него форм правления. В событиях первой русской революции способность идеализировать народ несколько выгорела. Соответственно, ценность монархии убавилась. Февральскую революцию Тихомиров встретит без особого одобрения, но с облегчением и надеждами. При большевиках он даже получит право на какие-то льготы, положенные бывшим народовольцам, но в эти годы он будет писать художественное произведение – «эсхатологическую фантазию» «В последние дни». Он доживет до 1923 года.
Новоселов тоже не был склонен к сакрализации монархии, особенно если понимать ее как сакрализацию монархов. Этому не способствовало «византийское» (в леонтьевском смысле) восприятие христианства. Священный характер монаршего служения, аналогично служению церковному, в такой «византийской» перспективе означал, скорее, повышение персональных рисков для тех, кто оказавшись на этом служении, проходит его не так, как должно. Как священнослужитель всегда находится под угрозой извержения из сана, так и монарх. Падение российской монархии и с ней всей Российской империи Новоселов считал заслуженным. Он подробно говорил об этом на допросах в ГПУ, не забывая сказать в лицо представителям советской власти, что он считает ее посланной народу для наказания:
Я, как верующий человек, считаю, что и царь, и Церковь, и весь православный русский народ нарушили заветы христианства тем, что царь, например, неправильно управлял страной, Церковь заботилась о собственном материальном благополучии, забыв духовные интересы паствы, а народ, отпадая от веры, предавался пьянству, распутству и другим порокам. Революцию, советскую власть я считаю карой для исправления русского народа и водворения той правды, которая нарушалась прежней государственной жизнью… (допрос 7 августа 1930 г.).
По поводу моих убеждений могу показать следующее: я, как славянофил, придерживался монархических воззрений, но эти мои воззрения оставались чисто теоретическими: ни в каких монархических организациях я не состоял. Как я уже раньше показывал, для меня в славянофильстве существенным моментом являлся религиозный. Касаясь моего отношения к советской власти, должен прежде всего сказать, что я являюсь ее недругом, опять-таки в силу моих религиозных убеждений. Поскольку советская власть является властью безбожной и даже богоборческой, я считаю, что, как истинный христианин, не могу укреплять каким бы то ни было путем эту власть, в силу ее, повторяю, богоборческого характера… (допрос 9 апреля 1931 г.).
Но об этом же он говорил и раньше, будучи на свободе. Новоселовская брошюра приблизительно 1928 года (возможно, написанная в соавторстве с Феодором Андреевым) «Что должен знать православный христианин?» в первом же ответе формулирует по поводу советской власти ровно тот же принцип, который относился и к власти царской (тем более, что цитата из Исидора Пелусиота, святого V века, касалась власти православных императоров):
Как следует понимать слова св. ап. Павла: «Несть бо власть аще не от Бога» (Рим. 13, 1)? Ответ: «Власть от Бога, а не начальник», говорит прп. Исидор Пелусиот … т. е. власть или идеал власти есть тот Божественный порядок, по которому одни начальствуют, а другие им подчиняются, ради Бога и по чувству долга, как дети родителям …
По темпераменту и способности к неконвенциональному поведению Тихомиров был вполне под стать Новоселову. Оба были очень чутки к опасности пойти на поводу у «своих», то есть в чем-то пожертвовать истиной ради того, чтобы не потерять союзников или просто не огорчить хороших людей. Из-за этого, в частности, у новоселовского кружка, несмотря на присущий ему национализм (леонтьевского типа), не заладилось общение с околоцерковными националистическими кругами другого рода – теми, где принимали всерьез религиозный настрой книг Сергея Нилуса и верили в подлинность «Протоколов Сионских мудрецов».
Новоселов избегал публичных дискуссий на нерелигиозные темы. Но Тихомиров по своей должности главного редактора «Московских ведомостей» избегать их не мог. В 1911 году ему случилось сформулировать суть расхождений с этими «другими» националистами в программной статье «Что значит жить и думать по-русски?». Поводом послужило требование правых запретить евреям поступать в православные духовные учебные заведения, то есть запретить им путь в православный клир. Чтобы понять, насколько эта идея задевала личный жизненный опыт Тихомирова, нужно прочитать его мемуарный очерк «Еврейсвященник. Отец Сергий Слепян» – это настоящее житие священника, положившего свою жизнь на служение среди русских фабричных рабочих. Но в «Московских ведомостях» Тихомиров формулирует только теорию вопроса:
Нельзя не заметить поразительного сходства национальной узости иных наших патриотов с той еврейской национальной психологией, которую обличали пророки. В узких порывах патриотизма и у нас понятие о вере ныне смешивается с понятием о племени и русский народ представляется живущим верой только для самого себя, в эгоистической замкнутости. Но такое воззрение внушается не христианским, а еврейским духом. Русский народ имеет великие заслуги в христианском деле именно потому, что всегда признавал себя не собственником христианства, а слугой, сам ему служил, а не его заставлял служить себе. В этом отношении историческая русская национальность является антиподом исторического еврейства, которое, вопреки указаниям пророков, всегда стремилось отождествить веру с этническим элементом, считало себя “избранным” только потому, что составляет известное племя. Но нам, христианам, известно, что чада Авраамовы считаются не по плоти [ср. Мф 3, 9]. Как же нам воскрешать в своей вере еврейскую точку зрения, да еще при этом воображать победить евреев, усваивая их дух?
Было бы несправедливо думать, будто все оппоненты Тихомирова были глухи к каким-либо аргументам. Когда «всё худшее» уже свершится, в 1920-е годы, все те, для кого на первом месте вера, совершенно забудут о подобных темах для споров в условиях гонений на Церковь. Для верующих станет неважным, кто и в какой степени был или не был черносотенцем до революции. А для гонителей это тоже станет неважным, так как «черносотенным духовенством» большевики станут называть всех, кто не подчинялся ГПУ.
Церковь Филадельфийская
Будучи немного знакомым с Владимиром Соловьевым, Тихомиров успел еще при его жизни всерьез задуматься над его эсхатологической концепцией. После 1907 года эти мысли получили развитие в статьях и в книге «Религиозно-философские основы истории». Многие идеи этой книги звучали в докладах Тихомирова на заседаниях новоселовского кружка в 1916–1918 годах, и, скорее всего, она предназначалась для «Религиозно-философской библиотеки» (но была впервые опубликована в 1997 году).
Тихомиров никак не находил в современности признаков непосредственной близости Второго пришествия Христа, но он считал, что упомянутые в Апокалипсисе Иоанна семь малоазийских церквей можно понимать как символы семи фаз развития единой Вселенской Церкви. Нынешний момент – это эпоха трех последних церквей из семи: Сардийской, Филадельфийской и Лаодикийской. Сардийская содержит в себе некоторое количество верных христиан, но их мало. Ангел этой церкви носит имя, будто он жив, но он мертв. Это современная Российская Церковь (речь идет о дореволюционном времени). Филадельфийская церковь – та, что не отвергается имени Христова, оказывается стойкой во время всеобщего искушения и венчается победным венцом. Наконец, Лаодикийская (о которой в русской христианской литературе особенно много писали еще со времен Достоевского) – та, которая ни холодна, ни горяча, и поэтому Господь обещает «изблевать ее из уст Своих». Это те две церкви, истинная Филадельфийская и ложная теплохладная Лаодикийская, на которые предстояло в ближайшее время распасться дореволюционной Российской церкви.
Все это говорилось Тихомировым задолго до революции и впервые оформилось в статью в 1907 году. Для Новоселова и вообще для новоселовского кружка это схема трех церквей к 1917 году превратилась в привычный способ рецепции церковной реальности. Богословские споры об имени Божием в 1912 году – Новоселов воспримет их как событие эпохальное – акцентировали верность имени Божию как признак Филадельфийской церкви, чистой церкви последних времен. Теплохладность Лаодикийской церкви будет как нельзя лучше соотноситься с господствующим равнодушием к догматике, которое обнаружат споры об имени Божием, а потом и вообще с равнодушием к церковной истине, которое выявят смуты 1920-х годов.
На рубеже 1918 и 1919 годов, видя развал уже не только империи, но и Российской церкви с ее на тот момент только что разогнанным большевиками помпезным, но бесполезным Поместным Собором, Новоселов впервые обратится с «письмом к друзьям», чтобы разъяснить нынешнее церковное положение. «Письма к друзьям» – это название его будущего сборника из двадцати открытых писем, писавшихся с 1922 по 1927 годы. Письмо, о котором мы говорим сейчас, не вошло в этот сборник, но может рассматриваться как предисловие к нему или как «письмо номер ноль». Оно завершается выводом (в котором еще и переводятся с греческого и переосмысливаются топонимы Филадельфийская и Лаодикийская, так что выходит противопоставление христианского «братолюбия» социалистическому «народоправству»):
Странно и, пожалуй, страшно сказать, что спасают нашу Церковь, святыню нашего сердца, не Собор, не Высшее Церковное Управление, а сильный социалистический пресс, выжимающий, говоря языком Апокалипсиса, из теперешней умирающей (Апок. 3:1) церкви Сардийской верную (“сохраняющую слово Христово и не отрекающуюся от Имени Христова ” , 3:8) Филадельфийскую и отжимающий на сторону “ теплохладную, нищую, слепую и нагую ” Лаодикийскую (“народоправческую ” – христианско-социалистическую) 3:15,17. Да сохранит нас Господь от сообщения с Лаодикией и да вселит в шатры Филадельфийские (“братолюбивые ” ), немноголюдные, но “ хранящие слово Господне и не отрекающиеся от Имени Его ” (Апок. 3:8).
В начале 1924 года скрывающийся от советской власти Новоселов посвятит теме Филадельфийской церкви целый трактат (10-е «письмо к друзьям»). Это писалось в обстановке нервозности, связанной с колебаниями патриарха Тихона, который слишком поддавался влиянию своего окружения, и, при всей личной симпатии, не вызывал доверия к своей твердости. В 1924 году главным требованием к Тихону со стороны ГПУ было его вступление в общение с обновленческим протопресвитером Владимиром Красницким, недавним палачом Петроградского митрополита Вениамина (главным лжесвидетелем обвинения на его процессе в 1922 году) и очевидного даже не еретика, а безбожника. Власти требовали включения Красницкого в высшие органы церковного управления. В мае 1924 года патриарх Тихон примет это условие под угрозой ареста всех архиереев. Почти случайно митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), оказавшись в нужное время в нужном месте, успеет его переубедить вошедшим в историю контраргументом: «Ваше Святейшество, о нас, архиереях, не думайте. Мы теперь только и годны на тюрьмы…»
Когда лучшие из архиереев старого поставления были «только и годны на тюрьмы», на их место промыслом Божиим были вызваны люди совершенно иной складки, и Новоселов был среди них первым. Когда патриарх Тихон решался внести на евхаристический пир в чертоге небесного Царствия тарелку кала, Новоселов в нескольких «письмах к друзьям» объясняет на святоотеческих примерах, почему, как и когда нужно отделяться от патриарха, и как при этом сохранить церковную организацию. В отличие от Кирилла Казанского, он не мог прямо влиять на Тихона, но зато на паству он влиять мог.
В 1924 году тревога, к счастью, оказалась учебной. Отработанные навыки потребовались чуть позже, после смерти патриарха Тихона (1925) – при разрыве с фактическим главой церковной организации митрополитом Сергием (Страгородским) в 1927–1928 годах. В написанных весной 1928 года «Ответах востязующим» (то есть спрашивающим) Новоселов собирает по нескольку библейских или святоотеческих цитат на каждое стандартное возражение сергиан. Ответ на вопрос XXI «Чего вы ожидаете в будущем?» начинается с цитат из Апокалипсиса (3, 4-10): «…И Ангелу Филадельфийской Церкви напиши: знаю твои дела, ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. Поелику ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушений, которая приидет на вселенную, чтобы испытать живущих на земле».
Герман
Бывает, что очень кратковременное явление оказывает очень сильное воздействие на ход истории, но потом исчезает, оставаясь трудноуловимым для историков будущего. В истории предреволюционной российской Церкви таким явлением оказалась Свято-Смоленская Зосимова пустынь – возобновленная в качестве филиала Троице-Сергиевой лавры около 1896 года и окончательно закрытая большевиками в 1923-м (официально же пустынь с 1920 года считалась сельскохозяйственной артелью). Этот монастырь, первоначально основанный в 1680-х годах схимонахом Троице-Сергиевой лавры Зосимой под городом Александровом (ныне во Владимирской области, недалеко от станции Арсаки), запустел уже вскоре после его смерти. В 1890-е годы он обрел новую жизнь, вновь от лаврских монахов, а построенный тогда большой храм в честь Смоленской иконы Божией Матери дал ему новое имя.
В начале ХХ века Зосимова пустынь прославилась двумя старцами – Германом (Гомзиным; 1844–1923) и его учеником Алексием (Соловьевым; 1846–1928). Герман предсказал закрытие пустыни вскоре после его смерти. Алексий доживал последние годы у своей духовной дочери в Сергиевом Посаде. Он успел отрицательно отреагировать на отделения от митрополита Сергия (Страгородского), но в 1928 году процесс разделения Российской церкви на сергиан и истинно-православных был только в самом начале. Даже Новоселов тогда надеялся на кратковременность разделения и не настаивал на его обязательности. Так бы оно и вышло, если бы не дальнейшие действия Сергия по углублению раскола (вплоть до того, что Сергий своим указом 1929 года приравняет отделившихся от него к неправославным и постановит лишать их даже православного погребения). Именно такими действиями Сергия сергианство затвердевало в отдельную конфессию со своей особой от традиционного православия верой.
При выборах патриарха в 1917 году собор поручил старцу Алексию вытащить жребий с одним из трех имен кандидатов, определенных голосованием, и он выбрал Тихона, голосов за которого было меньше всего (а большинство голосов получил Антоний (Храповицкий), что косвенно говорит о перспективах рассмотрения на соборе вопроса об имяславии; мы к этому еще вернемся).
В дореволюционное время старцев Германа и Алексия посещали многие, если не все яркие церковные деятели 1910-х – 1920-х годов, но только о некоторых можно сказать, что они находились под духовным руководством кого-то из старцев. В частности, еще в 1900-е годы под систематическое духовное руководство старца Германа придут Новоселов и великая княгиня Елисавета Феодоровна (кажется, ее руководителями были совместно оба старца, Герман и Алексий). Само их знакомство и, что гораздо важнее, единство их духовного направления, несомненно, определилось влиянием старца Германа. Семьи Тихомировых и Фуделей были под руководством старца Алексия. В дневнике Льва Тихомирова есть трогательная запись от 6 июня 1916 года, передающая впечатления от прощания его дочерей со старцем Алексием перед уходом того в затвор. Между прочим, старец «снова» говорил дочерям о желательности Тихомирову сделаться священником, несмотря на возраст (64 года), но тот не послушался. В той же записи упоминается ослабевший отец Герман – «…который, впрочем, слишком слаб, чтобы принимать многих, но из старых кое-кого принимает (как Новоселова)».
Старец Герман будет стоять «за кадром», а точнее, за фигурами своих духовных чад, Новоселова и Елисаветы Феодоровны, в обеих околорелигиозных войнах предреволюционной России, в которых этим духовным чадам придется принять участие в качестве генералов, – деле Распутина и споре об именах Божиих.
Две сестры
Великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась в один год с Новоселовым, 1864-й. Православие она приняла чуть раньше него, в 1891, уже на восьмом году церковного брака с великим князем Сергеем Александровичем (родным братом Александра III). Тогда в высшем свете не было принято особенно обращать внимание на вероисповедание, если речь не шла непосредственно о царе или наследнике престола. Обряд венчания Елисаветы и Сергия в 1884 году совершили дважды: сначала по православному, потом по лютеранскому обряду. Но Елисавета отнеслась к православию очень серьезно, несколько лет ходила молиться в православные храмы и только потом решилась на смену конфессии. Это было настоящее религиозное обращение, как и у Новоселова из толстовства.
Еще в лютеранстве у будущей Елисаветы (тогда еще Эллы) проявился твердый аскетический настрой. Она бы и не выходила замуж, если бы это было возможно для ее круга, но тут как раз появилась удачная возможность брака с Сергеем Александровичем, который также не стремился к обычным семейным отношениям, хотя и в силу своих особенных причин. Семья, тем не менее, была очень дружная, хотя и, разумеется, бездетная. Убийство Сергея Александровича в 1905 году террористом Каляевым стало для Елисаветы настоящей трагедией.
Великая княгиня Елисавета Федоровна. Фото с подписью самой княгини
После этого для нее приоткрылся, но еще не совсем открылся путь к монашеству. Мешала необходимость войти, для официального монашества, в подчинение синодальным структурам. Под руководством старца Германа было, однако, найдено соломоново решение: Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная Елисаветой в 1909 году, – формально не монастырь, а фактически монастырь с особым уставом. Сама Елисавета, как стало точно известно после ее мученической кончины 18 июля 1918 года (на следующий день после убиения царской семьи), была монахиней в тайном постриге – она носила под одеждой монашеский параман. Предположительно, ее постригал в монашество старец Герман.
Тяжелейшим искушением всей ее жизни стала ее младшая (на восемь лет) сестра Аликс, с 1894 года супруга Николая II императрица Александра Феодоровна. Проблемы начались намного раньше того, как отношения между сестрами были прерваны из-за Распутина. Теперь это легко проследить по опубликованным письмам Елисаветы Феодоровны к ее любимой старшей подруге Марии Феодоровне (жене Александра III и матери Николая II). Елисавета очень переживает за сестру, очень радуется ее необычно серьезному отношению к вопросам веры и, наконец, к ее сознательному принятию православия. Но с 1902 года появляется проблема – влияние «Мэтра Филиппа»: «…бессознательно
Аликс могла подпасть под его влияние, что все хорошо и Бог сохранит ее. И она слепо верила, не видя различий между истинной верой и состоянием экзальтации на почве религиозности».
Филипп Низье, о котором тут речь, – французский спирит, маг, предсказатель, лидер ордена мартинистов ит.п. (в соответствующей среде это личность, весьма почитаемая до сих пор). Непосредственным поводом для беспокойства Елисаветы стала неформальная встреча с Филиппом Николая II во Франции 20 сентября 1901 года, которая не осталась в тайне. К тому времени Филипп был уже весьма близок к семье двоюродного дяди Николая II, великого князя Петра Николаевича, его жены Милицы (по происхождению черногорской княжны) и ее родной сестры Станы (Анастасии). Сестры-черногорки не на шутку увлекались всевозможным оккультизмом и магией и успешно боролись за влияние на царственную чету со всеми, включая Елисавету. В переписке Елисаветы и Марии Феодоровны сестры-черногорки именуются не иначе как «Тараканами» (видно, что у Елисаветы еще не было монашеского воспитания!). Елисавета, как видно из этого письма 1902 года, сразу увидела, что причина в экзальтированной религиозности ее сестры. Пока что она, однако, надеялась на лучшее, но выходило наоборот. Влияние черногорок сможет перебить только Распутин, которого они же и приведут в царский дом. В дневниках Николая II «мэтр Филипп» будет именоваться «наш друг» – как впоследствии Распутин.
В монархических кругах возникла легенда, будто удаление «Мэтра Филиппа» от двора в 1904 году произошло под влиянием Иоанна Кронштадтского (в действительности отец Иоанн имел заметное влияние на Александра III, но уже никакого – на Николая II и его близких). В оккультно-масонских кругах почитателей Филиппа передается рассказ о письмезавещании Филиппа Николаю II после рождения наследника (1904 г.), в котором он точно предсказал дату собственной смерти 2 августа 1905 года, а заодно крушение России и династии в следующем десятилетии, но с последующим возрождением и того, и другого; а сам он тогда обещал вернуться в образе ребенка, явно на мессианский манер. Если даже истина где-то посередине, то точно не может быть речи о каком-либо критическом отношении царственной четы к Филиппу.
Это доказывается письмами Александры Феодоровны к царю в Ставку во время войны: «Наш первый Друг дал мне икону с колокольчиком, который предостерегает меня от злых людей и препятствует им приближаться ко мне. Я это чувствую и таким образом могу и тебя оберегать от них… Даже твоя семья чувствует это, и поэтому они стараются подойти к тебе, когда ты один, когда знают, что что-нибудь не так и я не одобряю. Это не по моей воле, а Бог желает, чтобы твоя бедная жена была твоей помощницей. Гр<игорий Распутин> всегда это говорил, – m-r Ph<ilippe> тоже…» (16 июня 1915 г.). В этом же письме делались далеко идущие выводы: «…та страна, Государь которой направляется Божиим человеком, не может погибнуть. О, отдай себя больше под его руководство!» – прямым текстом предложение царю отдать себя под руководство Распутина. На голос этой же иконы с колокольчиком, подаренной Филиппом, императрица предлагает ориентироваться при решении кадровых вопросов в правительстве 4 декабря 1916 года, а 14 декабря 1916 года она ссылается на авторитет Филиппа, уговаривая царя «не давать конституции». А вот она пишет о помощи иконы с колокольчиком против людей, изобличавших Распутина перед царем: «Моя икона с колокольчиком действительно научила меня распознавать людей. Сначала я не обращала достаточного внимания, не доверяла своему собственному мнению, но теперь убедилась, что эта икона и наш Друг [Филипп или уже Распутин? – впрочем, уже неважно] помогли мне лучше распознавать людей. Колокольчик зазвенел бы, если бы они подошли ко мне с дурными намерениями, он помешал бы им ко мне подойти – этим Орловским [намеренное искажение фамилии ген. Орлова], Джунковским и Дрентельнам, которые имеют этот “странный страх” передо мною. За ними надо усиленно наблюдать. А ты дружок, слушай моих слов, – это не моя мудрость, а особый инстинкт, данный мне Богом помимо меня, чтобы помогать тебе» (9 сентября 1915 г.).
Фрейлина Анна Вырубова, близкая и абсолютно единомудренная подруга императрицы, в простоте душевной рассказывает, как плавно и естественно совершился переход от Филиппа к Распутину: «Я… слыхала от Их Величеств, что М. Philippe до своей смерти предрек им, что у них будет “другой друг, который будет говорить с ними о Боге”. Впоследствии появление Распутина, или Григория Ефимовича, как его называли, они сочли за осуществление предсказания М. Philippe об ином друге». Филипп – «наш первый друг», а Распутин – второй.
Сегодня затруднительно даже спрашивать о какойлибо совместимости всех этих магических (или психопатологических) практик с традиционным христианством, но в начале ХХ века грань между оккультизмом и христианством в сознании интеллигенции была смазана. Например, на ученика и главного продолжателя дела Филиппа, Папюса (который, кстати, ввел Филиппа в круг русских великих князей), П.А. Флоренский ссылается в одном ряду с отцами Церкви и нормальными учеными в своей диссертации, защищенной в Московской духовной академии, «Столп и утверждение Истины» (защищена в 1912, изд. 1914). И в более поздних трудах начала 1920-х годов он вполне всерьез рассуждает об оккультных силах, не считая их при этом бесовскими и даже, напротив, разрабатывая на их основе собственное учение об именах.
Вера Елисаветы Феодоровны и Новоселова предполагала отчетливое различение между аскетизмом и оккультизмом. Но часто люди, искренне считавшие себя православными, как Флоренский или Александра Феодоровна, были «просто верующими» – без разбора. Когда ректора Академии епископа Феодора (Поздеевского) спрашивали, почему он сделал редактором официального журнала «Богословский Вестник» П.А. Флоренского, он, по свидетельству А.Ф. Лосева, отвечал: «Этот хотя бы во что-то верует», – намекая на рационализм и безверие остальной академической профессуры. Если бы не катастрофические события с Распутиным, то, вероятно, и неразборчивая вера царской четы никем не рассматривалась бы под лупой.
В свою очередь, и Александра Феодоровна говорила о «недоброй ханжеской клике Эллы» (в письме к царю от 15 июня 1915 г.), пытаясь не допустить назначения обер-прокурором Синода антираспутинца А.Д. Самарина, причисленного ею к этой «клике» (назначение все-таки состоялось, но Самарину удалось продержаться лишь с июля до сентября). Насчет Самарина она почти не ошибалась: это был друг Новоселова. Летом 1917 года епархиальное собрание Москвы по предложению отца Иосифа Фуделя будет рассматривать его кандидатуру, мирянина (вдовца), в митрополиты Московские. В первом туре он наберет одинаковое число голосов, 297, с епископом Тихоном (Белавиным), будущим патриархом, но во втором туре все-таки ему проиграет. Как заметил тогда кто-то из священников, «Самарин был бы для Церкви хорош, а для духовенства тяжел». Самарину предстоял путь лагерей и исповедничества в 1920-е годы, но с мирной кончиной в Костроме в 1932 году. По своему душевному расположению он был против Сергия и даже перестал было ходить в сергианский храм, но потом не выдержал без церковного богослужения и вернулся. Бывало и так.Казни еретиков?
1910 годом датируется письмо Елисаветы Феодоровны Николаю II, в котором она предпринимает, может быть, последнюю попытку его вразумить относительно Распутина (разговаривать с сестрой она уже давно не пытается). Потом она уже не берется за такие разговоры, но и публично не выступает. С 1910 по 1912 годы центральной фигурой в деле обличения Распутина становится Новоселов (хотя Распутин и его окружение несправедливо считают, что за ним стоит Елисавета). Лев Тихомиров предоставляет Новоселову трибуну «Московских ведомостей». Для Новоселова совершенно ясно, что Распутин – насквозь лживый человек, ведущий двойную жизнь, где-то прикидываясь верующим человеком из народа, а в других случаях тонущий в пьянстве и разврате. Но самое главное, что за этим стоит религиозная подоплека: Распутин – хлыст. Тут шла речь не о том, что Распутин входил в какие-либо хлыстовские организации, а о том, что он сам был центром своей собственной хлыстовской организации. Некоторые хлыстовские практики Распутина могли наблюдать даже случайные люди. Так, в мемуарах писательницы Тэффи описывается, как они с Розановым оказались свидетелями знаменитого распутинского экстатического танца: «“Ну, какое же может быть после этого сомнение? – сказал за мной голос Розанова. – Хлыст!”» На рассказы поклонниц Распутина о его практиках совместного похода в баню для совершения ритуала изгнания блудного беса Николай II, когда ему их передавали, отвечал, будто «у простолюдинов так принято». Современная медицина (в трудах Роберта Хаера и Отто Кернберга) описывает людей склада Распутина как особого рода психопатов и раскрывает механизмы их влияния на людей, вроде того, чему подверглась Александра Феодоровна. Но в 1910-е годы психология Распутина никого не интересовала. Кому-то в деле Распутина была важна политика, а кому-то – религия.
Новоселов публично потребовал от Синода, чтобы он сказал свое слово: «Где его “святейшество” [дореволюционный Синод считался заместителем патриарха и поэтому носил патриарший титул “святейший”], если он, по нерадению или по малодушию, не блюдет чистоты веры в Церкви Божией и попускает развратному хлысту творить дела тьмы под личиною света? Где его «правящая десница», если он и пальцем не хочет шевельнуть, чтобы извергнуть дерзкого растлителя и еретика из ограды церковной?» (открытое письмо Новоселова, опубликованное в газете «Голос Москвы» 24 января 1912 г.). Одновременно он выпускает книгу документальных материалов «Григорий Распутин и мистическое распутство» (1912). Книгу конфискует цензура, но ее материалы успевают широко разойтись и звучат с думской трибуны. Политические силы всех направлений имели тут свои интересы, но беспокойство Новоселова касается религии: при дворе захватило власть «мистическое распутство», и оно оплетает собой всю систему государственного управления. И действительно, процесс фактического захвата Распутиным государственной власти будет продолжаться – неравномерно, но верно, – до самого конца 1916 года, до убийства Распутина в ночь на 17/30 декабря.
Елисавете Феодоровне пришлось оправдываться перед Николаем II по поводу новоселовской книги, и это дало ей случай написать о своих отношениях с Новоселовым (4 февраля 1912 года) и о том, почему она больше не может кого-либо (то есть, прежде всего, Новоселова) отговаривать от обсуждения Распутина в печати:
…всю историю с книжкой [Новоселова] тебе неверно изложили… Впервые я узнала об этой книжке, когда неожиданно встретила автора на следующий день после ее конфискации, и он рассказал мне обо всем. Я вижусь с ним два-три раза в год; он автор многих интересных духовных брошюр и пылкий труженик на благо нашей Церкви, против тех сомнительных личностей, кто своей жизнью и учением приносит вред, – вот почему он и написал об этом. Вероятно, зная, что я интересуюсь этими вопросами, он возымел намерение послать мне книжку; но, когда спросил меня, хочу ли я этого, я отказалась. Я поступила так, предвидя именно те резоны, что ты привел в своем письме. Первый раз два года назад я прочла здесь в газетах о…[Елисавета избегает упоминать имя Распутина]. Я была в ужасе – боялась, если узнают, что ты принимал этого человека, на тебя будет брошена черная тень, и когда услышала, что у статьи будет продолжение, то конфиденциально просила автора [очевидно, Новоселова] не печатать его. Теперь в Петербурге все вышло наружу… и стало достоянием свободной прессы; я не могу больше препятствовать людям писать, о чем им хочется. Сейчас везде и всюду пытаются выяснить, кто это и почему об обычном человеке запрещено писать в газетах – ведь, если он пожелает защитить свою честь, он может это сделать с помощью закона и Церкви.
В уме у многих православных людей возникла аналогия с ересью жидовствующих при дворе Ивана III в 1490-е годы. Ересь Распутина, в отличие от ереси, скажем, Л.Н. Толстого, сопровождалась такими практиками – «мистическим распутством», – которые по византийскому праву подлежали бы смертной казни, и тут даже нестяжатели Нила Сорского поддержали бы такой приговор для нераскаянных лидеров ереси. Благодаря в особенности выступлениям Новоселова, а не просто газетной шумихе, тема Распутина стала обсуждаться в таких православных кругах, где могли говорить «со властию» – с настоящей духовной властью старцев-подвижников, а не с той более низкой властью, которую имеют в Церкви архиереи. Одним из таких подвижников, к которому ежегодно ездила Елисавета Феодоровна, был архимандрит Гавриил Зырянов (1844–1915), живший в Елеазаровом монастыре под Псковом. Он переписывался с сестрами Марфо-Мариинской обители и регулярно в нее приезжал.
Агиограф старца Гавриила, епископ Варнава (Беляев) рассказывает от своего имени следующий случай (к сожалению, без точной даты):
Прихожу к Алексию-затворнику [Зосимовой пустыни] , тот в заметном волнении: “Представьте себе, что отец Гавриил [Зырянов] Великой княгине сказал. Она спрашивала его про Распутина ” . – “И что же он сказал?!” – “Убить его – что паука: сорок грехов простится…” “Но какое же мое положение?” – продолжает старец, к которому ездила вся Гатчина, все графини и княгини и весь набожный двор. Великая княгиня спрашивает меня: “А Вы, батюшка, как думаете? Ведь Вы понимаете, что это значит? Понимаете?” Я молчу, даю старцу высказаться до конца. “Я ей отвечаю: нет, я не могу благословить… Что Вы, да разве это можно… Нет, не могу ”.
Старец Алексий не взял на себя ответственность, но старец Гавриил взял. Сохранилось письмо Елисаветы Феодоровны к Феликсу Юсупову – без даты и явно существенно более раннее, чем декабрь 1916-го. Однако по содержанию письма видно, что речь шла о подготовке какой-то насильственной акции против Распутина.
Дорогое дитя, дорогой маленький Феликс! Спасибо за письмо, Господь да благословит тебя и да ведет, ведь в твоих руках возможность сотворить беспредельное благо, благо не только для нескольких человек, а для целой страны. Но помни, дитя мое, что, сражаясь с силами диавола, надо все делать с молитвой. Чтобы Архангел Михаил сохранил тебя от всякого зла, посылаю тебе образок из Киева, из храма Архистратига Михаила и святой Варвары, да защитят они тебя от всякой напасти … [следует инструкция о том, как молиться Архистратигу Михаилу.]
Это письмо в целом построено на иносказаниях, но ясно, что там речь о Распутине, который «погубит» императрицу. Обращение к архангелу Михаилу, традиционному покровителю военных, не оставляет никаких сомнений в том, что готовится предприятие военного, а не чисто духовного характера, хотя и направленное против «сил диавола». Несомненно, что Елисавета чувствовала в какой-то мере личную ответственность за убийство Распутина, когда оно совершилось, да и не могло быть иначе – Феликс был ее духовным воспитанником, который уже тогда и потом всю жизнь почитал ее во святых. Косвенно об этом говорят две ее знаменитые телеграммы (соучастнику убийства великому князю Дмитрию Павловичу и матери Феликса) от 18 декабря: в обеих убийство названо «патриотическим актом». 29 декабря она пишет Николаю II, пытаясь примирить его и с новой реальностью, и с убийцами:
… поехала в Саров и Дивеево, десять дней молилась за вас, за твою армию, страну, министров, за болящих душой и телом, и имя этого несчастного [Распутина] было в помяннике, чтобы Бог просветил его и… Возвращаюсь и узнаю, что Феликс убил его, мой маленький Феликс, кого я знала ребенком, кто всю жизнь боялся убить живое существо и не хотел становиться военным, чтобы не пролить крови. Я представила, через что он должен был переступить, чтобы совершить этот поступок, и как он, движимый патриотизмом, решился избавить своего государя и страну от источника бед.
Новоселов, вероятно, думал ближе к тому, что запишет в дневнике Лев Тихомиров 20 января 1917 года: Распутин убран не царским повелением, а поэтому «…убийство только закрепило страшный факт – в чьих руках может быть Россия… Я часто ломаю голову над вопросом, чем можно спасти монархию? И право – не вижу средств. Самое главное в том, что Государь не может, конечно, переродиться и изменить своего характера… Он может только вечно колебаться и переходить от плана к плану. Ну а при этом… можно только рухнуть…»
Распутинская эпопея совершенно уронила в глазах единомышленников Новоселова авторитет как духовной, так и светской власти. Для духовной власти это было плохо, хотя у нее и раньше было не много авторитета. Но к ней подступило и нечто худшее – угроза потери православной веры как таковой.
Афонский погром
В Российской империи настоящее, то есть аскетическое и молитвенное, монашество долгое время находилось в упадке, а потом, с начала XIX века, довольно быстро возрождалось, но при этом оставалось полностью изолированным от остального общества. Отдельные личности даже из высшего света туда проникали, иногда делали что-либо выдающееся – как уже упоминавшийся Игнатий (Брянчанинов) или возродитель русского монашества на Афоне в 1830-е годы отец Аникита (князь Ширинский-Шихматов), когда-то блестящий поэт-шишковец, а посмертно прототип старца Зосимы для светской части его биографии (упоминается в черновиках Достоевского). Но, став монахами, эти люди совершенно выпадали из поля зрения образованного общества. До самого конца XIX века для русского общества монашество было загробным миром, о котором знали еще меньше, чем о посмертном существовании душ. «Братья Карамазовы» Достоевского только дополнительно экранировали от общества подлинное монашество, хотя сильно подогрели интерес к теме. Ситуацию переломил Леонтьев своей публицистикой 1880-х годов. В то время он уже фактически был монахом, но при этом его монашеское послушание (буквально так: данное духовником старцем Амвросием) состояло в публицистике для светских людей. Если в монастырях бывали монашеские послушания для работы со светскими паломниками, то не было принципиальных препятствий к тому, чтобы создать такое же монашеское послушание для работы с миром в целом.
На рубеже XIX и ХХ веков в монашество уже массово идут образованные люди, по воспитанию не имеющие ничего общего с крестьянским и поповским сословиями. Они увлечены примерами святых, их мозги не промыты (или не промыты вполне) в семинариях-академиях, они готовы слушаться авторитетов духовных, но не привыкли воспринимать некритически обыкновенное церковное начальство. Тут, может быть, надо пояснить, что в церковном праве и вообще в церковном предании воспринимать церковное начальство критически – это не право, а обязанность всех верующих, так как иначе Церковь как целое не сможет сохранить веру. Но когда каноническое церковное управление заменилось государственно-бюрократическим, то и привычки поповского сословия отошли от канонических норм…
Все же до поры до времени сохранялся прежний порядок в том, что у монашества было свое православие со своими книжками и со своими религиозными обычаями, а у светского общества с архиереями, академиями и семинариями – свое, с Макарием Булгаковым вместо Максима Исповедника и с морализмом вместо аскетизма. Все понимали, что соприкосновение одного с другим могло вызвать взрыв, и поэтому не находилось охотников курить на бензоколонке.
В такой внешне безмятежной обстановке – и, разумеется, с одобрения духовной цензуры – в 1910 году вышло уже второе издание книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа» (первое выходило в 1907, но быстро разошлось) – автобиографический и насыщенный описанием красот природы трогательный рассказ монаха из простецов о том, как он обучался Иисусовой молитве, с приложением кратких соображений о причине особого значения этой молитвы, сосредоточенной на внимательном повторении имени Иисус («Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»). Соображения эти сводились к тому, что в этом имени присутствует Бог и, в каком-то смысле, само это имя является Богом. Тут тоже не было ничего особенного или нового. Для любителей аскетической литературы выражения типа «имя Божие есть Бог» были давно уже привычны из сочинений любимого пастыря, отца Иоанна Кронштадтского (скончавшегося в 1908 году), чей авторитет был неоспорим для всех православных, включая царскую семью, хотя духовный его дневник «Моя жизнь во Христе» читали только люди с аскетическими интересами.
У второго издания «На горах Кавказа» была одна особенность: оно было предпринято по совету старца Германа из Зосимовой пустыни на деньги Елисаветы Феодоровны (нужно ли спрашивать, какое отношение к этой книге могло быть у Новоселова?). Издание широко распространялось. Сама Елисавета дарила его оптовыми партиями – как, например, старцу Варсонофию Оптинскому, который потом раздаривал ее своим многочисленным духовным чадам. После этого права на издание выкупил православный медиа-холдинг – Киево-Печерская лавра – ив 1911 году завалил книжный рынок третьим изданием.
Несмотря на огромный теперь уже рыночный успех, книга не нарушала привычного равновесия между православием аскетическим и «семинарским». Они как были, так и оставались в параллельных мирах. Казалось, нет такого человека, который ткнул бы в эти миры железкой, чтобы устроить короткое замыкание. Но вдруг такой человек нашелся: им стал один из главных архиереев империи Антоний (Храповицкий), в то время архиепископ Волынский (в недавнем прошлом – ректор Московской духовной академии; в не очень далеком будущем, с 1921 года – глава эмигрантской Русской Зарубежной Церкви).
Многим хорошим знакомым Антония его агрессивность в деле имяславцев казалась иррациональной. Она разъяснится только после революции, когда (впервые в 1917 году) Антоний опубликует свои собственные оригинальные богословские воззрения (статья «Догмат искупления»), которые впоследствии создадут большой соблазн в Зарубежной Церкви. У Антония была собственная альтернатива семинарской «схоластике», и поэтому монашеское богословие не вызывало его симпатий. Принятие же этого богословия образованными людьми стало и вовсе ножом в сердце.
Антоний был ровесником Новоселова (р. 1863), но вся его жизнь прошла в очень успешном карьерном росте по духовной линии – при подчеркнутом, но подчеркнуто умеренном фрондировании по отношению к церковному официозу. В 1912 году, будучи членом Синода, он опубликовал статью о неканоничности этого органа и необходимости вернуться к патриаршеству. Было несложно догадаться, кого он рассматривал в качестве кандидата в патриархи (ив 1917 году догадка подтвердилась на соборе, когда первым по количеству набранных голосов кандидатом в патриархи стал именно он). Монашеское богословие, набравшее слишком большую популярность среди образованных верующих, начинало всерьез угрожать его планам.
Если очень кратко, то до вмешательства Новоселова события развивались так. Подспудно спор начался в 1909 году, когда среди афонских иноков стала распространяться рукописная и резко критическая рецензия на первое издание «На горах Кавказа», написанная молодым иеромонахом Хрисанфом – выпускником Московской духовной академии. Во втором издании «На горах Кавказа» автор ответил на критику Хрисанфа, и теперь, после третьего издания, его книга вместе с ответом оказалась массово растиражированной. На Афоне книга, в основном, одобрялась, а рецензия находила мало сторонников. Иларион явно выигрывал у Хрисанфа. Тогда в 1912 году рецензию Хрисанфа публикует профильный журнал «Русский инок» – его в обязательном порядке выписывали русские монастыри, даже на Афоне. За публикацией стоял Антоний (Храповицкий), будучи по должности начальником издававшей журнал Почаевской лавры. Он даже сопроводил ее одобрительной заметкой от своего имени. Главная претензия рецензента была богословская, относительно понимания имени Божия. Для Хрисанфа это были просто слова, и он обвинил схимонаха Илариона в невежестве и ереси. Рецензия вызвала новую волну споров, особенно резких на Афоне, где как раз тогда, в 1912 году, именно русские (наиболее многочисленные) монахи заблокировали присоединение Афона к Греции, настояв на сохранении международного статуса монашеской республики. В дело вмешались греческие церковные власти, обвинившие монахов-имяславцев в ереси. Русское правительство, с подачи Синода, их поддержало, послав на Афон войска. Более 600 монахов, отказавшихся согласиться с имяборческим вероисповеданием Синода, было вывезено на русском военном корабле в Россию. Значение русского монашества на Афоне было подорвано, и Афон уже в 1913 году присоединился к Греции. В России же теперь все только начиналось. В 1913 году Синод выпустил Послание против имяславия, которое читали по всем монастырям. Текст был составлен архиепископом Сергием (Страгородским) – членом Синода и учеником Антония (Храповицкого). Постановлением Синода имяславцы отлучались от Церкви. Но никто, конечно, не думал сдаваться.
Задним числом нам видно, что, в преддверии 1917 года, имяславцы были нужнее в России, чем на Афоне. Со времен раскола XVII века в России не бывало подобной сплоченной массы убежденных верующих людей, да еще и в монашеском статусе и с высоким иммунитетом к государственным репрессиям. Если даже советская власть не сумеет с ними справиться, то куда уж было дореволюционным синодалам…
Пути имяславцев
Имяславцев в Москве встречал Новоселов: он издал в серии «Издания “Религиозно-философской библиотеки”» (это серия-спутник к основной серии) книгу их главного богослова, иеросхимонаха Антония (Булатовича) «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус» (1913). Анонимное сочувственное предисловие к книге написал Флоренский.
С помощью Новоселова и Елисаветы Феодоровны имяславцы переходят в контрнаступление и берут частичный реванш. Николай II только сейчас вникает в ситуацию лично и получает консенсус авторитетных для него советников в пользу имяславия. С одной стороны, это Елисавета Феодоровна, с другой стороны – императрица и Распутин, который увидел тут шанс вмешаться в дела синодальных архиереев и тем самым расширить собственное влияние. Царь в Царском Селе дает аудиенцию четырем монахам-имяславцам, которые передают ему личное послание Антония Булатовича; для синодальных архиереев это совершенно недостижимая честь. Синоду «выкручивают руки», но его никто не жалеет, так как это орган неканоничный и неавторитетный. Царь требует от Синода отмены осуждения имяславцев, и уже в 1914 году Синод делает вид, что подчиняется. При этом на самом деле принимаются, но оставляются в секрете до лучших времен такие постановления, которые потом позволят сказать, что решения 1913 года оставлены в силе. Тем не менее монахов-имяславцев допускают к причастию и, если они в священном сане, к сослужению.
С началом войны многие иеромонахи-имяславцы уходят священниками на фронт. Сам Антоний (Булатович), в прошлом гусар и исследователь Африки, получает еще один Георгиевский крест за то, что, будучи вооружен только крестом (священники на войне не имели права носить оружие), поднял полк в атаку.
На официальный запрос Синода о его мнении старец Герман Зосимовский в начале 1914 года ответил: «Молитва Иисусова есть дело сокровенное, а потому возникшие разногласия следовало бы покрыть любовью». В противоположность этому, Варсонофий Оптинский, когда вышло синодальное Послание 1913 года, стал писать своим духовным чадам с просьбой вернуть подаренную им книгу «На горах Кавказа», так как она «оказалась» неправильной. Такое поведение главного на тот момент Оптинского старца шокировало Елисавету Феодоровну, но, пожалуй, оно обнаружило правильность интуиции многих современников и ее в том числе: место Оптиной пустыни еще в 1900-е годы заняла Зосимова пустынь.
Колокольня Зосимовой пустыни. Фото А. Савина
Человек, привыкший к Иисусовой молитве, мог не понимать догматики, но он не мог отрешиться от своего собственного опыта познания имени Божия. А старец Варсонофий – несомненно, имевший подобный опыт, – выходит, отрешился. Какая сила могла заставить его это сделать? Светским аналогом этой ситуации является та проблема, которой был посвящен «Николай Палкин», но в отношении аскетического опыта все это было глубже и страшнее.
По вопросу об имяславии разделились и члены новоселовского кружка. Послание Синода понравилось только одному из них, но из числа учредителей и близких друзей Новоселова с давних времен – Федору Дмитриевичу Самарину (родному брату антираспутинского обер-прокурора Синода А.Д. Самарина и родному племяннику ученика Хомякова Ю.Ф. Самарина). Тот даже сказал Новоселову, что после публикации Булатовича при «Религиозно-философской библиотеке» кружок распадается. Новоселову пришлось в ответ занять формальную позицию: «Религиозно-философская библиотека» – его личное дело и кружку не подчиняется.
Почти сразу после выхода «Апологии» в глухую оппозицию имяславцам перейдет П.А. Флоренский: в личной переписке с Антонием (Булатовичем) он убедится, что его собственные идеи об особой силе, присущей словам (как мы помним, оккультного происхождения), вызывают у имяславцев отторжение, а ссылки имяславцев на византийских исихастов и учение святого Григория Паламы (XIV век) ему не близки. Письмо Флоренского другу и также члену новоселовского кружка И.П. Щербову от 13 мая 1913 года показывает чувства человека, ощутившего, что его втянули в чужую игру, – причем он выражает досаду не только в адрес Антония (Булатовича), но и Новоселова: «Признаться, в душе я много виню имяславцев, и даже М. А[лександрови]ча [Новоселова]. Когда летом [1912 г.] он вознамерился вступиться в этот спор, я ему решительно сказал, что при современном позитивизме и это дело будет заведомо проигранным». Далее он развивает, на примере имяславия, свое понимание имяславия как эзотерического учения – вполне в духе господствовавшей моды на оккультные тайные знания, но в явном противоречии с церковным преданием: «Мне невыносимо больно, что Имяславие, – древняя священная тайна церкви, – вынесено на торжище и брошено в руки тех, кому не должно касаться его и кои, по всему складу своему, не могут сего постигнуть». – В этом и подобных рассуждениях Флоренский явно путает православную Церковь с какой-нибудь гностической. И тогда становится понятным странное для православного человека, но зато типичное для гностиков (а также многих других нехристиан) отношение к исповедничеству за веру: «Я так устал и от дел и от дрязг из-за Имени, что, кажется, готов согласиться на что угодно, лишь бы оставили меня в покое, – т. е. согласиться внешне, что, вероятно, только и требуется». В традиционном христианстве такое «внешнее» согласие с еретиками всегда считалось отпадением от Церкви. Иногда мучители сами предлагали исповедникам оставаться при своей вере, но согласиться с ними лишь внешне, – а исповедники (как, например, дорогие сердцу Новоселова и охотно приводившиеся им в пример Максим Исповедник или Феодор Студит, IX век) все-таки не соглашались и терпели мучения. Это письмо Щербову хорошо объясняет и то, почему Флоренский останется с сергианами, хотя лучшие его друзья, как Новоселов и Феодор Андреев, пойдут с исповедниками: его эзотерической вере не могло угрожать и сергианство, как не угрожало ей имяборчество.
Имяславие Антония (Булатовича) повлияет на Флоренского амбивалентно: в части догматики оно будет им отвергнуто. Впоследствии идеи Флоренского об имяславии будут развивать С.Н. Булгаков и А.Ф. Лосев, каждый по-своему; Лосев будет стремиться выразить в формах имяславия некий синтез наследия Флоренского и учения Григория Паламы. Все это будет очень далеко от Антония (Булатовича), который предпочитал Паламу без Флоренского.Что делать с патриархом
Ситуация с имяславцами особо не менялась до начала Поместного собора 1917 года. На соборе вопрос об имяславии был поставлен на обсуждение. Начала заседать специальная соборная комиссия, на которой прозвучали голоса «против» и «за». Позиция имяборцев была теперь усилена аргументом, что имяславие было проявлением в Церкви гнета царизма. Но комиссия не успела подготовить свой доклад собору, и вопрос остался нерешенным. После разгона собора, осенью 1918 года имяборцы взяли реванш явочным порядком. Имяславцев опять запретили в священнослужении и отлучили от причастия. Вскоре за этим последовало новое постановление Синода – только теперь уже не дореволюционного и неканоничного, а каноничного (избранного собором) и под председательством патриарха Тихона. В постановлении необходимость рассмотреть вопрос об имяславии на соборе когда-нибудь в будущем была продекларирована, но и только. В остальном возвращалось в силу постановление 1913 года, причем были обнародованы и секретные документы 1914 года, которые сохраняли в силе все обвинения против имяславцев. Имяславцы, в свою очередь, вернулись к положению 1913 года, заявив о разрыве церковного общения с патриархом Тихоном и всем тихоновским епископатом (при этом они остались без епископов в своей среде).
Впрочем, даже и вполне каноничные церковные власти, да хоть бы и целый собор не смогли бы переубедить Новоселова одним лишь авторитетом. Вопреки распространенному среди православных и тогда, и сейчас заблуждению, соборы, даже вселенские, не являются в православии непогрешимыми коллективными аналогами Римских пап. Все внешние средства для выражения церковного учения, в принципе, погрешимы. Зато «…вселенскость, непогрешимость, соборность имеются везде, в каждом подлинном, тождественном с церковною верою свидетельстве, даваемом по участию в Святой Церкви кем бы то ни было: Собором, великим или малым, или отдельным лицом, хотя бы даже юродивым или ребенком. И отсюда вытекает церковный тезис полной, абсолютной отрешенности соборного начала от каких бы то ни было формально-юридических правил его проявления. Дух свидетельствует о Себе в Христовой Церкви когда хочет, где хочет и как хочет, потому что не мы является мерою для Духа, а Дух является мерою для нас» (Новоселов, 11-е письмо к друзьям, 29 февраля 1924).
Прещения на имяславцев Новоселов воспринял как эпитафию бесславно завершившемуся поместному собору. Это и стало непосредственным поводом к его уже цитировавшемуся «письму к друзьям номер ноль». Он вспоминает там ощущения весны 1918 года, – патриаршей службы в первое воскресенье Великого поста, когда совершается чин Торжества Православия и провозглашаются анафематизмы. В том году патриарх анафематствовал «разоряющих церкви Божии» и тому подобных кощунников, под которыми все понимали большевиков:
И какой бутафорией является в наши дни “ Торжество Православия ” , это помпезное провозглашение единства исповедуемой будто бы нами веры “Апостольской, отеческой, кафолической, яже всю вселенную утверди [т. е. «на которой стоит весь обитаемый мир»]”! Когда я присутствовал на этом величественном церковном празднике в текущем году и слушал громогласную анафему патриаршего архидиакона, мне казалось, что всею силою она обрушивается не на отсутствующих еретиков и большевиков, а на присутствующих иерарховимяборцев. И я с полной серьезностью отношу к ним же страшное пророчество преп. Серафима, изреченное им сто лет тому назад: “Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их…” Не пришел ли уже этот предсказанный Преподобным гнев Божий на нашу иерархию, а вместе с нею на всю нашу Русскую Церковь за “уклонение от чистоты православия”!? Не за хулу ли на страшное Имя Божие иерархия наша несет тяжелые удары, начиная с первых дней революции? Не эта ли хула является причиной того бессилия, того как бы параличного состояния, в котором находятся наши правящие иерархи, сами сознающиеся в этой параличности, хотя и не сознающие, кажется, причины ее? Словесное стадо разбредается и разбегается в разные стороны…, а кормчие Церкви, словно богаделенские старички, только поглядывают из окон своей богадельни на словесных овец, которым вместо единой, строгой, вековечной, живой и животворящей Истины Православия предлагаются многообразные суррогаты гуманистической морали, мелодраматической проповеди, богослужебной лжеэстетики, а в последнее время “социалистическое христианство”. Я сказал: “поглядывают”? Нет, не только поглядывают, но и принимают иногда прямое или косвенное участие в культивировании этих суррогатов. А если так, то зачем им богодейственное, непобедимое и страшное Имя Божие, которое нужно и близко, и дорого и опытно понятно лишь тем, для кого христианство есть «великая тайна» претворения ветхого человека в новую тварь, обожение человека через боговселение, подаваемое чудотворящим Именем Иисусовым, таинственно вселяющимся в сердце человеческое?
Впрочем, Новоселов не стал вместе с афонцами отделяться от патриарха. Понимая, что патриарх всего лишь поддался влиянию, он справедливо увидел возможность надавить на патриарха с другой стороны. Процесс занял около двух лет, но завершился успешно. Правда, за это время бандиты убили Антония (Булатовича), жившего в бедной келье рядом с имением своей матери на Украине (6 декабря 1919). Логику Новоселова тут можно понять из его (совместного сФ. Андреевым) документа 1928 года «Беседа двух друзей», который был создан в начале сергианского раскола. Тогда Новоселов надеялся, что целью разрыва с Сергием должно быть скорее уврачевание церковных ран, аналогично расколу 1918–1920 годов между Тихоном и имяславцами.
Действия отделившихся от митрополита Сергия епископов и клириков и неотделившихся можно образно представить в следующем виде. Первые, т. е. отделившиеся, как хирурги, сделали легкую операцию на теле больного, надеясь, что они своим сочинением предупредят ампутацию заболевшего члена. Вторые же, т. е. неотделившиеся, как любвеобильные родственники, своею любовью и преданностью утешают больного, представляя ему не так болезненно произведенную операцию. Те и другие имеют одинаковые намерения излечить тяжелобольного, хотя и действуют различно.
Это оказалось совершенно неверно в случае Сергия, но именно так получилось в случае Тихона. В 1920 году по поручению патриарха с имяславцами провели переговоры, и в итоге к Рождеству 1921 года (по новому стилю) церковное общение было восстановлено, хотя изданный по этому поводу синодальный документ (его текст дошел до нас только через цитаты и пересказ в Рождественском послании патриарха Тихона 1921 года) был двусмысленным: он допускал трактовки как в пользу, так и против имяславия, но, в том и другом случае, ценой противоречия одной части документа другой. Такие документы в дипломатии называют «рамочными соглашениями», и они принимаются для того, чтобы потом обрести свой реальный смысл в борьбе. В любом случае, сам факт принятия этого документа во исправление решений 1918 года содержал в себе уже и его истолкование в пользу имяславия.
Лидером афонцев тогда уже был архимандрит Давид (Мухранов), служивший в Москве. Весной 1921 года патриарх Тихон с ним демонстративно сослужит, а он в начале 1920-х годов читает при храмах лекции по имяславию. Среди его духовных чад собирается много молодежи, в том числе, научной – как, например, супруги Лосевы, которым предстоит стать близкими сотрудниками Новоселова по нелегальной работе. Труды А.Ф. Лосева 1920-х годов почти все так или иначе связаны с темой имяславия.
Некоторые имяславцы не оставляли надежд получить от патриарха Тихона и от сменившего его местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра (Полянского) какую-нибудь бумагу с однозначным решением в пользу имяславия. Об этом вспоминает В.Н. Щелкачев, тогдашний аспирант известного математика и не менее известного имяславца профессора Д.Ф. Егорова. Он явно путает детали, но, видимо, какие-то визиты профессорских делегаций к Тихону и Петру имели место. Тихон ответил в том смысле, что «…имяславие великое дело, но сейчас не время заниматься осуждением синодальных решений».
Дедушка
Помимо борьбы за имяславие, Новоселов в 1918–1922 годах занимается тем же, что и все церковные активисты: попытки защитить церкви, попытки наладить церковное образование на дому, попытки (с 1922 года) противостоять обновленческому расколу – группе духовенства, отошедшего от патриарха Тихона и создавшего собственные церковные организации под революционными лозунгами. Они получили признание правительства (где обновленчество считалось проектом Троцкого), а затем и Константинопольского патриарха. Очень многие клирики и, в частности, два будущих советских патриарха Сергий (Страгородский) и его преемник Алексий I (Симанский), быстро отпали в обновленчество. Они вернутся с покаянием к Тихону лишь тогда, когда всем будет ясно, что власти разочаровались в эффективности обновленческого проекта.
Все заметные противники обновленческого раскола около 1923 года шли в тюрьму, получая небольшие сроки. Пришли и за Новоселовым, но чудом не застали дома. Обыск ничего не дал. Новоселов вспомнил молодость и поступил так, как мог поступить тогда: перешел на нелегальное положение. 58-летнего старика, каким мог казаться Новоселов, особо разыскивать никто не стал. Дело 1923 года быстро закрыли за отсутствием улик. Потеряться в тогдашнем Советском Союзе было не так уж сложно, если тебя не разыскивали уж очень специально. Соблюдать подобающую осторожность Новоселов умел. Он часто менял места жительства – впрочем, довольно свободно появляясь даже на квартирах церковных активистов, где могли быть стукачи. Но Бог как-то хранил. Круг личного общения ему все же пришлось ограничить. Теперь вместо квартиры, куда к нему могли приходить гости, у него появились «письма к друзьям». Он их писал в разных условиях, иногда сильно превозмогая себя в болезнях. Это был совершенно особый и выдающийся подвиг, оцененный как друзьями, так и впоследствии ГПУ. Нелегальное положение дало Новоселову не просто несколько дополнительных лет свободы, но возможность влиять на главные процессы церковной жизни, которые без него просто не смогли бы пойти.
«Письма к друзьям» касались текущих проблем своего времени (1922–1927). Почти все они так или иначе были связаны с распространением обновленчества (в том числе, колебаниями патриарха Тихона в 1923–1924 годах, после освобождения из тюрьмы). Но еще более своевременными они стали для ближайшего будущего, когда новое обновленчество – сергианство – было создано внутри тихоновской церкви. Непосредственно сергианским расколом вызвано только последнее из «писем к друзьям», 20-е (31 декабря 1927 ст. ст.), но оно не о сиюминутных проблемах, а о бытии Церкви на земле – о том, как получается, что она все-таки достоит до Второго Пришествия, и как нам от нее не отпасть. С развитием сергианского раскола Новоселову придется изменить род литературной и всякой другой деятельности.