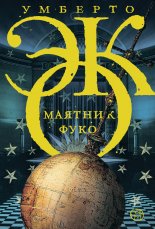Посмотри в глаза чудовищ Успенский Михаил

Часть первая
1
В этом нет ничего нового, ибо вообще ничего нового нет.
Николай Рерих
Конец света, назначенный, как известно, знаменитым конотопским прорицателем безумным арабом Аль-Хазредом на седьмое января, не состоялся.
«А может, и состоялся, подумал Николай Степанович, глядя на заснеженную и промороженную до неподвижности тайгу. Что, если по всей земле стоят сейчас такие же холода, стены утонувшего в зарослях краснокаменного храма в верховьях реки Луалабы покрыты мерцающим инеем, ставшие стеклянными лианы крошатся со звоном под тяжестью снега и осыпаются на гранитной твердости торфяник, необозримые бегемотьи стада превратились в россыпи заиндевевших валунов, и башня Беньовского на Мадагаскаре неразличима на фоне внезапно побелевших гор.»
– Вот так, значит, прямо и пойдешь? – вкрадчиво поинтересовался один из пилотов-вертолетчиков, пожилой, мордастый, наглый, выживавший в свое время по охотничьим заимкам прежнего беспредельного владыку беспредельного края.
Владыка любил, отохотившись и разогнав прочую челядь, выпить с пилотом и пожаловаться ему на раннюю импотенцию.
– Так и пойду.
Любому городскому простофиле, не то что этим летучим волкам, ясно было бы: не таежник стоит перед ними, а некто беглый, которого если и будет кто искать, так не те, кого он хотел бы увидеть тут, вдали от цивилизации. Сапоги на Николае Степановиче хоть и зимние, но испанские, анорак хоть и меховой, но шведский, лыжи хоть и австрийские, но беговые, узкие, так что он и сейчас стоял в снегу по колено. Один только армейский израильский рюкзак заслуживал уважения, но что рюкзак?..
– Все равно ведь закоченеешь.
– А это уже только мое дело.
– Так ты лучше нам денежки-то все оставь. Целее будут, – и в голосе воздушного волка прозвучала нотка нежности.
– Неужели тысячи долларов Северо-Американских Соединенных Штатов вам мало? – искренне удивился Николай Степанович.
– Это когда же их переименовали? – в свою очередь удивился другой пилот и даже опустил ствол карабина.
– Ты мне кончай Муму пороть, – сказал первый. – Щас вот положим тебя и полетим. А так – не положим. Понял? Ну?
– Итак, вы мне предоставляете полную свободу выбора, – кивнул Николай Степанович. – Хорошо. Пятачок я вам накину. На бедность.
– Ты эта, – шагнул к нему первый, вздымая снег – и вдруг замер.
– Отойди, Васильич, я его лучше из винта грохну, – внезапно севшим голосом сказал второй. Карабин в его руках заплясал.
– Вас ист «грохну»? – спросил Николай Степанович.
– Ист бин шиссен, – неправильно, но доходчиво объяснил второй.
– Как интересно, – сказал Николай Степанович, приглашающе улыбнувшись. И второй улыбнулся льстиво и беззащитно.
«А неплохой карабин,» – подумал Николай Степанович. – «Грех его таким оставлять.»
Он чуть выше поднял ладонь. На ней, точно прилипший, лежал медный советский пятак. Образца тысяча девятьсот шестьдесят первого года, но незаметно для стороннего глаза исправленный и дополненный. Оба пилота воззрились на пятак, как на внезапную поллитру с похмелья, и больше от него глаз не отрывали.
– Карабинчик попрошу, – бросил небрежно Николай Степанович, стряхивая с ног лыжи и поднимаясь в тесную кабину Ми-2.
– Извольте, ваше благородие, – подобострастно вымолвил второй. – Патрончики по счету принимать будете али как?
Второй преобразился. Вместо нормального аэрохама возник денщичок по пятому, как бы не боле, годку службы у полкового барбоса-интенданта. Первый сохранял прежний вид, но вести себя по-своему тоже уже не мог.
– В свете принятых решений, – сказал он неопределенно – и вдруг заткнулся, как бы подавившись привычными словами.
Николай Степанович подышал на пятак, приложил к лобовому стеклу кабины – пятак прилип.
– Летите, голуби, – сказал Николай Степанович, спрыгнув в снег. Пилоты, отталкивая друг друга, полезли в кабину.
Через минуту похожая на черноморского бычка машина, подняв тучу морозного снега, скрылась за вершинами елей. Николай Степанович вздохнул. Не то чтобы ему было жалко пилотов. Машину – жалко, это да. Впрочем, вполне может быть, что и долетят, подумал он, но о пассажире своем забудут навсегда.
Он откопал заметенные лыжи, попрыгал, примеряясь к рюкзаку, поводил открытой ладонью перед собой, определяя направление – и тяжело пошел, загребая рыхлый кристаллический морозный снег. Остывающее солнце начинало бессильно клониться к синим щетинистым сопкам.
До зимовейки было с полкилометра, но сквозь густой заснеженный ельник он пробивался около часа. Хуже приходилось разве что тогда, в северном Конго, да и то – из-за вони.
Воняло одинаково что от болот, что от людей, что от негров. Откопав дверь, он на четвереньках забрался в тесное стылое нутро зимовейки. Топить крошечную соляровую печурку и греться было некогда, да и без печки ему было по-настоящему жарко. Он лишь переменил щегольские сапоги на слежавшиеся собачьи унты и выволок из-под топчана широкие лыжи, подбитые камусом. Потом подумал и, свернув, приторочил сверху к рюкзаку видавший многие виды рыжий романовский полушубок. Завтра кто-нибудь из внуков или правнуков Парамона Прокопьича отнесет все обратно.
Николай Степанович живо представил, как обрадуется Прокопьич городским дозволенным верою гостинцам: грецким орехам, свежим дрожжам, кусковому колотому сахару, цукатам, патронам, капсюлям, пороху «сокол», картечи, а особенно новенькому, буквально с неба снятому, карабину «рысь». Лыжи шли легко, да и вела к Предтеченке узкая, чужому взгляду незаметная, просека, где все пеньки были давно повыкорчеваны.
Через час размашистой ходьбы он почувствовал запах дыма – однако не тот живой, желанный, хлебный – а уже холодный, с примесью большой беды. Но к тому, что он увидел, приготовиться было невозможно.
Не было на свете больше красивой и тихой старообрядческой деревеньки Предтеченки о двенадцати дворах с обширными огородами, многочисленными надворными постройками, банями, садиками и палисадниками, общественным лабазом – и молельным домом, срубленным из железной красноватой лиственницы. Вместо всего этого лежало грязное пятно копоти, из которого неистребимо, как в войну, торчали печные трубы; местами багровели тронутые пеплом уголья, да тянулись в белое небо неподвижные синеватые столбы дыма и пара.
Вот он и кончился, едва лишь начавшись, его ледяной крестовый поход.
– Ладно, – сказал он и стал спускаться к пепелищу. Он чувствовал, знал – потому что видел однажды подобное – что впереди нет ни единого живого существа. И что здесь побывала не городская банда охотничков, которым надоело униженно выклянчивать по одной собольей шкурке и медвежью желчь по пенициллиновому пузырьку, и они решили взять все разом, – и не чекисты (или как они там нынче называются?), пронюхавшие, разведовавшие, наконец, про существование неведомой и невидимой миру со времен Петра-Анчихриста таинной деревеньки; нет, это был след другой силы: потому что ни бандиты, ни чекисты при всей своей глубинной людоедской сущности не оставляют на жертвах следов громадных зубов и когтей, не откусывают детям головы, не выедают у коров и лошадей кишки и не разметывают, как взбесившийся слон, избы по бревнышку.
Уже на исходе дня, вымотанный до смерти, перепачканный сажей и кровью, Николай Степанович забрался в единственную уцелевшую баньку на подворье братьев Филимоновых; банька эта стояла чуть в стороне, у чистого ручья, и потому уцелела, не замеченная. Николай Степанович присел у каменки, достал нож, поднял с пола холодное полено и стал не спеша щепать лучину. Он знал, что до весны ему отсюда не выбраться, что без ключаря ключ в развалинах (даже если он там и остался) найти невозможно, и что тот посторонний, который сюда придет, придет с ясной и конкретной целью.
Карабин здесь не помощник.
Были у народа карабины, были и ружья.
Только сейчас он почувствовал холод. А ночью будет под пятьдесят. Или даже за пятьдесят.
Все, что здесь осталось от людей, я похороню весной, подумал он. А потом вернусь в город и похороню своих. Если выживу.
А я, к сожалению, выживу.
Завтра пепел остынет, и придут волки. Вон, уже слышно вдали. Хорошо, что успел снести людей в лабаз.
Не знаю староверских молитв, да не обидятся, наверное, если от чистого сердца. Ведь не кормил же меня Прокопьич из отдельной посуды, как по их уставу древлеотеческому положено.
Было так тихо, что еле слышное поскуливание за плотно притворенной дверью прозвучало для Николая Степановича архангельской трубой. А потом дверь приоткрылась, и в последнем сумеречном свете этого бесконечного дня возникло нечто белое.
– Ну, входи, – сказал Николай Степанович и с нервической усмешкой добавил, – Да побыстрей: холоду напустишь.
В ответ раздался совершенно невозможный звук: звонко подпрыгнули и упали в коробке спички.
Он молча протянул руку и взял коробок из пасти собаки.
– Греться, говоришь, будем? – спросил он. Собака замахала хвостом, как сигнальщик флагом.
Каменка накалилась скоро, и даже вода забурлила в котле – ее там было немного, на самом дне.
– Чайком бы тебя напоил, да налить не во что. В ковшик разве? Будешь кипяточек?
Собака помотала большой головой. Она пристроилась к боку каменки и уже, похоже, отогрелась.
– А я попью, – сказал Николай Степанович. – Не водку же пить, хотя можно было бы теперь и водку, никого не обидишь.
Он вынул из рюкзака большую алюминиевую кружку, оплетенную берестой – память об одном философе с Соловков – бросил в нее пять пакетиков чая «липтон», здоровенный кусок сахару, залил кипятком – и спустя несколько минут в черный настой опустил аэрофлотовскую упаковку сливочного масла. Получилось почти по-тибетски.
– Ну, вот, – сказал он и вытер пот со лба. – А теперь рассказывай, что тут было. – Собака жалобно посмотрела на него. Палево-белая, в черных «очках» вокруг глаз, она походила скорее на панду или лемура, чем на здешних забывших родство лаек. – Откуда такая взялась?.. Извини, брат кобель, не разглядел. Сейчас свечку затеплим, лучше будет.
Тем временем брат кобель выполз на середину предбанника и – Николай Степанович никогда не видел такого – пес привстал, медленно огляделся и уставился на что-то невидимое, но приближающееся. Потом он попятился, коротко рявкнул – и вдруг , как от удара, опрокинулся на спину и откатился к самой стене. Из-под стены он пополз, не по-собачьи извиваясь всем телом и выпрямив хвост поленом. Потом как мог широко раскрыл пасть и зарычал низко, утробно. Потом было что-то вроде ловли злой кошкой воображаемых мышей. Поймав добычу, пес становился на задние лапы, а передние тащил к пасти. И, наконец, словно насытившись сполна и наигравшись, снова по-змеиному уполз к стене. Там он и остался, замерев.
– Понятно, – Николай Степанович заварил вторую кружку. – Значит, зверь, вышедший из моря. В смысле, из реки. И пожре праведных. Имя свое ты мне, брат, сказать не сможешь? Или как-нибудь попробуешь?
Пес вернулся к каменке и покачал головой.
– Нельзя, понимаю. Но звать-то тебя как-то нужно?
Вместо ответа удивительный пес метнулся к двери, проскользнул в щель и аккуратным толчком задних лап плотно затворил баню. Николай Степанович вдруг нелогично подумал, что еще не все потеряно, потому что таких собак на самом деле не бывает. И – неожиданно спокойно задремал, привалившись к стене и даже не подвинув к себе поближе карабин.
Но ему приснились Аня и Степка, и он проснулся со стоном.
Пес сидел на прежнем месте, будто и не уходил никуда. Перед ним на полу лежал тускло поблескивающий осьмиконечный крест.
– А вот этого точно быть не может, – сказал Николай Степанович вслух. О том, где ключ схоронен, знал только сам Прокопьич да старший внук его, Егор. Обоих он видел – смог узнать – сегодня там, в молельном доме.
Пес тявкнул: может.
– А раз может, – сказал Николай Степанович, – то тогда давай-ка займемся, брат, делом. Кто знает, что нам завтра предстоит…
Он натаскал из поленницы дров, забил котел снегом, слазил наверх за веником (много наготовили братья Филимоновы веников, до Троицы хватило бы), с остервенением вымылся чисто и горячо, а потом надел свежее – из гостинцев – белье, как когда-то перед наступлением. Влез в согревшийся полушубок, сел с ногами на лавку и, чтобы успокоиться и занять руки, стал крест-накрест надрезать пули.
Пес дремал.
Ночью ничего не произошло.
В восемь утра репетер его серебряного «лонжина» звякнул. В свои лучшие золотые тридцатые годы «лонжин» играл начало увертюры из «Вильгельма Телля», но со временем кулачок сносился, а нынешние часовых дел мастера умели лишь менять батарейки в гонконгской штамповке.
– Доброе утро, – сказал Николай Степанович потянувшемуся псу.
Перекусили, выпили чаю. Тьма снаружи медленно рассеивалась.
– Пора.
Воздух от мороза стал студенистым, не вполне прозрачным. Слипались ресницы. Брови, опущенные уши песцовой ушанки, натянутый на подбородок вязаный шарф мгновенно поросли куржаком. Лыжи долго не хотели скользить…
К реке можно было пройти по околице, но Николай Степанович намеренно сделал крюк. Встав перед молельным домом, в котором люди искали спасения от зверя крестом и молитвой, он обнажил голову, опустился на колени и перекрестился.
– Простите, православные, – тихо сказал он. – Не могу вас похоронить, а вот рассчитаться за вас – рассчитаюсь.
Никто не ответил. За ночь снег засыпал черноту, и следы, и все, что здесь жило и сгорело.
До острова было метров сто – если лететь на крыльях. Лед за островом был черный, выглаженный ветром, цветом подстать исполинской скале-быку на том берегу, а здесь, под высоким берегом – белый, заснеженный. И ровно под взвозом громоздились безобразные торосы, и яснее ясного было, откуда они такие взялись.
– Прямой нам дороги нет, – сказал Николай Степанович. – А с флангов обрывы. Такая диспозиция. И артиллерия в тылу застряла, по обыкновению. Что, господин гусар, делать будем?
Пес всмотрелся в лед, в остров, глухо тявкнул.
– На остров-то ему, думаю, хода не будет, – объяснил Николай Степанович. – Как твое мнение? А вот на льду бы нам не задержаться.
Не ответив, пес медленно, нюхая воздух и прислушиваясь, начал спускаться.
– Осторожней, гусар! – шепнул Николай Степанович вслед. Сам он повесил карабин на шею, распахнул полушубок и начал высвистывать ветер. Пар изо рта повисал перед лицом неподвижным облаком.
Получилось не сразу. Сначала ветер потянул в лицо, разорвал туман, обжег щеки. Потом зашумело поверху. Иней посыпался с елей. И, наконец, застонало, завыло, загудело сзади – по-настоящему. Когда-то любой чухонец мог такое.
Подхваченный вихрем, Николай Степанович слетел по взвозу на самый берег, обежал, пригибаясь, торосы справа – и поставил падающему с обрыва ветру распахнутые полы полушубка. Слева, звонко лая и подпрыгивая, танцевал на льду пес. Взвизгнул под лыжами высохший от стужи снег. Не стой на месте, Гусар! Хорошо идем! Лед задрожал. Пес метнулся вперед, потом вбок. Николая Степановича несло ветром. Все, что не было прикрыто унтами и полушубком, мгновенно закоченело. Позади раздался громкий треск, но оглядываться дураков не было. Пес заходился лаем. Трещины, как от попавшей в стекло пули, разбежались там, где он был секунду назад. Половину прошли, подумал Николай Степанович. До острова было еще немыслимо далеко. За спиной с шумом перевернулась льдина – и раскололась. Пес несся теперь быстрее гепарда, а за ним лед выгибался горбом и ломался, ломался.
Они с Гусаром выскочили на берег одновременно, взглянули друг на друга и на всякий случай отбежали подальше от протоки. Потом посмотрели назад и повалились на снег.
Вход в рум, понятно, замело, но камень-замок оставался на виду – так уж он был устроен. Весь этот внешне обычный остров был устроен особо, но понять особость не то что простому человеку, но и непростому – было невозможно.
Равно как и особость румов. Равно как и…
Николай Степанович негнущимися пальцами извлек из-за пазухи крест. Мало кто из нынешних мог увидеть и понять, что нижняя косая перекладина креста наклонена не по канону. Парамон Прокопьич никогда не брал ключ голой рукой, всегда через чистую тряпицу, которую потом непременно бросал в пылающую печь.
Крест утонул в гнезде, высеченном на камне. Потекла долгая минута ожидания. Гусар нервно переминался с лапы на лапу, но не уходил – хотя и знал наверняка, что коли дверь не признает его за своего, то быть ему теплым белесым пеплом: Николай Степанович решил не рисковать и подхватил пса на руки. Пес был тяжелый, как годовалый бычок.
– Однако, не голодал ты, брат.
Дверь просела. Снег посыпался на ступени. Заклубился, вырываясь наружу, пар.
«Вот теперь можно и лыжи снять.» – с нервным смешком подумал Николай Степанович, вспомнив старый, времен финской войны, анекдот.
Похоже было на то, что в руме недавно жили. Хотя: румы – это такое место, где время как бы и не идет. По крайней мере, видимых изменений не происходит. И неизвестный постоялец мог жить здесь и двадцать, и тридцать лет назад. Когда же я сам-то был тут последний раз?..
В пятьдесят шестом? Да, пожалуй, в пятьдесят шестом.
Потом, наведываясь регулярно в Предтеченку, он не испытывал ни малейшего желания спускаться в тайные подземелья. Подвалов башни Беньовского ему хватило навсегда – не говоря о погребальной камере Аттилы. Но сейчас другого разумного выхода не оставалось. Уют в руме, конечно, чисто спартанский, простору примерно как в подводной лодке «Пантера», но даже самый завзятый клаустрофоб не почувствовал бы себя здесь заживо погребенным – таким уж умением обладали неведомые древние строители. Просто Николая Степановича с давних пор (и не без оснований) тревожили вентиляционные решетки.
Первым делом, даже не скинув полушубок, он достал из рундука аптечку.
Открыл цифровой замок. Потом в нетерпении вывернул ящик на крышку стола.
Здесь было все, кроме того, главного. За чем он шел.
На всякий случай он перебрал все пузырьки и ампулы, читая сигнатуры. Потом еще раз. Потом еще.
Ясно. Тот, кто побывал здесь до него, приходил за этим же. Но он не имел никакого права трогать неприкосновенный запас: оставил бы хоть несколько гранул!.. Николай Степанович в отчаянии замахнулся кулаком на стеклянное бесполезное воинство: и опустил руку.
Гусар ткнулся головой в колени, буркнул что-то неразборчивое. Николай Степанович бессильно отошел от стола и провалился в кресло.
– Все бесполезно, брат Гусар, – сказал он негромко. – Одна отрада – что я тоже теперь рано или поздно умру.
2
Когда рассеется дым, увидишь внизу детей и животных.
Василий Аксенов
Все началось совершенно невинно дней десять назад – как раз накануне Нового года.
– Коля, – Аннушка как-то непривычно смущенно посмотрела на мужа, – я должна сказать тебе одну вещь.
– У нас будет любовник? – поднял бровь Николай Степанович.
– Нет, но что-то вроде. В общем, я пригласила Лидочку.
– На Новый год?
– На Новый. – жена виновато развела руками. – Ну, пойми: я возвращаюсь в учительскую, пакет забыла, а она сидит и ревет. Понимаешь? Я и…
– Сострадание разносит заразу страдания, – сказал Николай Степанович.
– Это ты заразу разносишь, – обиделась Аннушка. – Всем настроение портишь. А если бы Степку так же вот!
– Ну и что? Представь себе, через двадцать лет приезжает молодой американский миллиардер и звезда Голивуда, в котором счастливая мать без труда узнает.
– Ай, да ну тебя!
Впрочем, новогодний вечер всерьез испорчен не был. Степке отдали в полное безраздельное (благо, никто и не претендовал) распоряжение новенькую «Сегу», чтобы не лез к взрослым. Лидочка, дама крупноватая, обесцвеченная, легко краснеющая от легкого вина, держалась тихо и робко. Зато пришел сам Гаврилов с банджо и новой пассией, рыжей и восторженной. Пассия чем-то неуловимо смахивала на Олю Арбенину, какой она была на том памятном вечере в Тенишевском училище, и Николаю Степановичу поначалу было нелегко придать своему взгляду обычную рассеянность.
Стол накрыли в зале, который Николай Степанович именовал «африканской комнатой». На стенах развешены были жуткие ритуальные маски, курительные трубки и специальные магические приспособления колдунов оно-оно, потускневшие чеканные украшения бедуинских красавиц, передняя лапа чудовищного крокодила (настоящий, без дураков, трофей Николая Степановича; хотелось бы, конечно, отхватить у ящера чего-нибудь еще, побольше, но дорога предстояла дальняя, а тащить на себе), головы антилоп, масайские ассегай и щит; в серванте стояли пестрые гадательные барабаны, медный светильник и какая-то странной формы и самого зловещего вида дрянь – по горячему уверению хозяина, засушенная голова жестокого белого плантатора (сам-то он знал, что такие головы на амхарских рынках продают дюжинами на медный пятачок, благо, чего другого, а тыкв в Африке пока еще хватает); сенегальский ковер, помнивший копыта верблюдов Абд-эль-Азиза, устилал пол; с террариума Николай Степанович снял расшитое покрывало только после долгих и настойчивых просьб гостей – и сразу набросил его обратно: в конце концов, люди пришли поесть.
– Вот это, оно, там такое и живет? – с ужасом спросил Гаврилов.
– Живет, – подтвердил хозяин.
– А как называется?
– Не знает никто. Негры говорят: «хамамба-ас-хамамба». Что в переводе на простой язык означает «самоглот». Это я так перевел. Он же «проглот конголезский».
– А специалисты что говорят? – не унимался Гаврилов.
– А они в него не верят!
Аппетита обитатель террариума никому не испортил, только рыжая смотрела теперь на Николая Степановича восторженно. Уязвленный Гаврилов начал петь, и пел хорошо. Но все равно прошло некоторое время, и разговор вернулся к Африке.
– А как вас выпускали, Николай Степанович? – спросила прозаическая Лидочка. – Тогда же никого не выпускали, а вы так и вообще беспартийный.
– Ну, беспартийный – это еще не безногий, – сказал хозяин. – По линии Академии Наук я ездил.
– И для разведки кой-чего добывал? – подколол Гаврилов.
– Русскую военную разведку я уважал всю жизнь, – Николай Степанович пожал плечами. – Так что не вижу оснований. Это вам не чека.
– Да что можно разведывать в Африке? – хмыкнул Гаврилов. – Боевым слонам хоботы да бивни считать?
– Помилуйте, милостивый государь, а Лумумбу-то из-за чего, по-вашему, пришлось устранить? – Николай Степанович обвел глазами слушателей и принялся рассказывать совершенно потрясающую историю, в которой похождения неимоверного гэрэушника майора Коломийца и дочери местного вождя чернокожей красавицы Ахули нечувствительно переплетались с сюжетом романа Майн-Рида «Охотники на жирафов». А потом, вдохновленный собственным рассказом, он перешел к описанию древнего храма Омумбуромбонго, священного дерева, из которого вышли когда-то все животные, птицы, рыбы, люди, пауки и боги. Храму этому, по самым скромным оценкам, было не меньше тридцати тысяч лет, поэтому серьезные ученые им не занимались – да и не добраться до него серьезным ученым, привыкшим к легкой жизни, к проводникам и носильщикам.
– А кто такой Лумумба? – спросила рыжая где-то в середине рассказа, в ответ на что Гаврилов тут же изобразил песню своего детства: «Убили, гады, Патриса Лумумбу, а Чомба в кабаках танцует румбу!..» Тут же пришлось объяснять, кто такой Чомба. Потом Аннушка показала всем, что такое настоящая румба.
– Аполитичная пошла молодежь, – сказал Гаврилов, подтягивая струны. – Как блестяще мы разбирались в политическом положении в Бельгийском Конго, в скобках – Леопольдвиль! Сколько митингов провели в защиту, а Лумумбу, зараза, так и не уберегли. Это потому что ты своих шаманов еще к рукам не прибрал, сказал Николай Степанович. Вот в сорок втором: – и он рассказал удивительную историю о том, как в сорок втором, на скорую руку присоединив к СССР Туву, согнали шаманов в один большой лагерь и заставили камлать хором, результатом чего и явился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Шаманов потом, ясное дело, не по-хозяйски вывели в расход. А моих, северных, еще в тридцать шестом кончили, вздохнул Гаврилов.
– Да что вы все об этом! – упрекнула Аннушка. Надоели ваши расстрелы, лагеря.
– Не всем надоели, – возразил Гаврилов. – В тех старых лагерях только лампочки вкрутить.
Стало как-то неуютно, и пришлось выпить.
– А правда, что вы гадать по-настоящему умеете? – тихо спросила Лидочка.
– Правда, – так же тихо ответил Николай Степанович.
– А вы не могли бы?..
– Не сегодня, – отрезал он. – Выпивши – нельзя.
– Так я приду?
– Завтра, – разрешил он. – Второго. К вечеру.
Тут вышел Степка, заявил, что уже утро, он проснулся и намерен веселиться. И все стали веселиться.
Лидочка пришла второго после обеда.
– Ты сама это затеяла, – тихо сказал Николай Степанович Аннушке и велел им со Степкой на время удалиться – скажем, сходить на городскую елку, где умельцы выстроили необыкновенной красоты ледяной сказочный дворец. Сам же он переоделся во все черное, повязал голову платком и взял в руки гадательные барабанчики. Барабанчики, на самом-то деле, были самые обыкновенные, хоть и обтянутые человеческой кожей. Ему просто нужно было чем-то занять руки, потому что руки в этом деле мешают больше всего.
– Фотокарточку принесли?
Лидочка дрожащими пальцами протянула цветной кодаковский снимок пятилетней примерно девочки с голубым бантом и в голубых трусиках. Девочка стояла на куче песка. Позади была какая-то вода и лес.
– Теперь сидите тихо…
Минут через десять всяческих вводных процедур Николай Степанович ушел.
Глаза его прищурились, лицо обмякло. Пальцы выбивали из барабанчиков неторопливую мягкую дробь.
– Крым, – сказал он.
– Нет, на даче, – поправила Лидочка.
– Я говорю, что сейчас она в Крыму, – пробормотал Николай Степанович. – Ялта?
Нет… Севастополь? Евпатория? Да, пожалуй: Точно, Евпатория. Пионерский лагерь: когда-то был лагерь. Проволока: ах, как я не люблю проволоку: Ей там неплохо: пока. Дети. Другие. Много. Несколько. Чего-то боятся.
Двухэтажный дом. Решетки и темные шторы, никогда не бывает света. Туда забирают. Старуха гречанка. С усами, похожа на мамашу Макса. Так, что-то еще. Кочегарка? Откуда взялась…
– Какого Макса?
– Волошина. Да не перебивайте же, трудно. Уф-ф!.. – Николай Степанович отбросил барабанчики, они покатились, побрякивая, как игральные кости. – В общем, все ясно. Она жива, пока здорова, живет в Крыму в бывшем пионерлагере имени Олега Кошевого. Сейчас там цыгане, похоже, организовали производство профессиональных нищих. Калек. Понимаете? Нужно торопиться.
Милиция у них, думаю, куплена, да и не так дорого стоит купить хохлятскую милицию.
У Лидочки от страха отнялся язык.
– У вас есть мужчина, друг, спутник? Отец, брат?
Она помотала головой.
– Так. А отец девочки?
Она только рукой махнула.
– Интересно живете, господа… Значит, будем делать по-другому. Вы завтра же летите в Москву. Деньги вздор, деньги будут, об этом не думайте… и с билетами по нынешней дороговизне осложнений возникнуть не должно. Я вам дам один московский адрес. Зовут этого человека Коминт. Иванович. Цыпко. В цирке его знают как Альберто Донателло. Передадите ему письмо, он все устроит. На возраст его не обращайте внимания – человек чрезвычайно надежный. Но – слушайтесь его, как Господа Бога. Скажет: землю рыть – ройте, и как можно глубже. Ну да он и сам все хорошо объяснит. Он хорошо объясняет. Доходчиво…
Дело это как раз по нему. В общем, господам евпаторийским цыганам я не завидую, равно как и милиционерам, если они к этому делу прикручены. Да не плачьте, Лидочка, бывают в жизни вещи пострашнее. Все будет хорошо.
Но получилось все очень нехорошо. Почему-то – неожиданно и без особых поводов – заблажило ехать в аэропорт и Аннушке со Степкой. «Нива» долго не заводилась, дорога обледенела, встречные водители и даже гаишники были сплошь пьяные. Судьба как бы ненавязчиво намекала на нежелательность всей затеи.
В тамбуре аэровокзала сидела на куче тряпья и сама на кучу же тряпья похожая старая цыганка. Или таджичка («С понтом беженка»– проворчал Степка). Увидев четверых, она вдруг вскочила молодо и поднесла к губам раскрытую ладонь.
Аннушка в испуге отшатнулась.
– А вот этого не надо, – сказал Николай Степанович. – Погадать я тебе и сам погадаю.
– Сам ты искать меня после будешь, золотой, – без всякого акцента и без выражения сказала ведьма, садясь. – Ан – поздно будет искать.
– Какая противная бабка, – фыркнула Лидочка. – Не к добру такую встретить.
– Никогда сами не верьте в приметы, – сказал Николай Степанович. – Предоставьте это сведущим людям.
– Правильно их Гитлер гонял, – неожиданно сказал Степка. – Евреев зря, а цыган за дело.
– Слышу голос твоей классной дамы, – сказал Николай Степанович. – И если я его еще раз услышу…
Самолет улетел вовремя. Когда Тихоновы возвращались к машине, ведьмы в тамбуре уже не было.
Весь день Николай Степанович чувствовал во рту металлический привкус.
А вечером Аннушку и Степку увезла скорая помощь.
Доктор был молод, бородат и встревожен.
– Ничего нового я вам пока сообщить не могу, – сказал он. – Кровотечение продолжается и у мальчика, и у матери. Это похоже на какую-то тропическую болезнь, я о ней слышал. Утром будет профессор Скворушкин…
– До утра они ведь могут и не дожить, – то ли спросил, то ли предупредил Николай Степанович.
– Нет, что вы, – сказал доктор. – Мы делаем все, что требуется, только вот…
– Только вот не помогает почему-то, – подхватил Николай Степанович. -
Кровотечение продолжается.
– Д-да. Я думаю, что можно подключить…
– Слушайте меня внимательно, – сказал Николай Степанович. – У меня группа крови четвертая резус-отрицательная. У сына тоже. Вы должны сделать прямое переливание. Ясно? Это поможет ему продержаться минимум неделю. Супруге перельете плазму. Центрифуга, надеюсь, в вашем холерном бараке есть?
– Вы врач? – попытался поставить его на место доктор.
– Я не намерен вдаваться в объяснения, – высокомерно ответил Николай Степанович и поднял руку ладонью вперед. – Итак…
Доктор мигнул.
– Да, конечно… – забормотал он. – Пойду распоряжусь, а вы пока…
– И никаких записей, – прилетело доктору в спину.
Суровая сестра с лицом черным и длинным облачила Николая Степановича в зеленый хирургический костюм, закутала ему голову марлей, проводила туда, где пахло йодом и пережженными простынями. Его заставили лечь на жесткий холодный стол. В круглом отражателе над собой он видел маленького и страшного себя. Через минуту на каталке привезли бледного до синевы Степку.
Из носа его торчали закровеневшие тампоны.
– Папочка… – прогундосил Степка и заплакал.
– Прекратите, кадет, – велел Николай Степанович. – Здесь вам не альманах «Сопли в сиропе».
– Доктор сказал, – наклонилась к нему сестра, – что забирать шестьсот миллилитров. Вы сдавали когда-нибудь кровь?
– Делайте, как он велел. Я сдавал, и помногу. После этого возьмете еще восемьсот на плазму.
– Что?!
– Именно так. Работайте, мадам.
Игла вошла в вену. По прозрачной трубке ринулся черный столбик крови.
Сто… двести… четыреста…