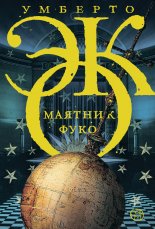Посмотри в глаза чудовищ Успенский Михаил

– А Барон?
– Барон поет – что ему. Поет Барон. «Ай да кон авэла…»
– Гвоздь в отключке? – с сомнением спросил Тигран.
– Так он же на старые дрожжи льет! – закричал лейтенант. – Он на старые дрожжи! Знаешь, как они вчера гудели!
– Сколько охраны? – деловито спросил Левка.
– Трое у Дато и столько же у Гвоздя. Полагается поровну. Давайте, парни, покажите татарве, хохлам да цыганам, кто в Крыму хозяин! Мы же люди официальные, нам нельзя…
Этого Николай Степанович не вынес. «Тот?» – прошелестел он Коминту, и Коминт пожатием руки подтвердил: тот.
– Ну, если уж вы официальные, – сказал он, подходя сзади к лже-менту поганому и накладывая длань на погон, – то я – сама Матильда Кшесинская.
Все вскочили, но Коминт негромко сказал:
– Не вздумайте стрельбу устраивать, козлы. Услышат.
– Да мы с тобой и вручную… – начал кто-то, но Гусар сбил говорившего с ног и встал ему на плечи.
– Спокойно, господа, – сказал Николай Степанович. – Из ваших разговоров я понял, что пришли мы сюда с одной целью. Заодно хочу вас предупредить, что этот вот субъект отнюдь не лейтенант Сермягин, как он себя называет, а глава службы безопасности УНО-УНСА Константин Иванов, он же Котик Перехват. И в лагере сейчас не пьянка, как вам было солжено, а то, что в их кругах именуют «стрелкой», а в высших – «саммитом». Пьяных там нет, дураков тоже. Боюсь, что все дураки сидят здесь. Константин, потрудитесь осветить обстановку надлежащим образом, – движением руки он развернул голову «безпечнику» так, чтобы тот встретился с ним глазами. Испуг и бессильная злость читались в этих глазах.
И панически-напряженным голосом Константин, подчиняясь чужой воле, начал выкладывать все, как оно есть на самом деле. А на самом деле…
– Нам ведь что нужно? – торопливо говорил Котик. – Нам нужно, чтобы вы там шум устроили, чтобы Дато на Гвоздя и Барона плохо подумал, а те на него, ясно? Чтобы не сговорились они, потому как сговорившиеся они нам не нужны. А так ничего плохого я же вам не хотел…
– Не тронь пушку, – предупредил кого-то Коминт.
– Достаточно? – спросил у Левки Николай Степанович.
– А вам я с какой стати верить буду? – буркнул Левка. – Может, вы тоже.
– Представленных доказательств мало? – поднял бровь Николай Степанович. – Кстати, кто вы, герои?
– Мы – Фронт русского национального освобождения Крыма. А вы кто такие?
– А мы просто разыскиваем ребенка, похищенного цыганами. Девочку держат здесь. Считайте, что мы из частной сыскной конторы.
– Крутая, должно быть, контора, – с уважением проговорил Тигран. – А сейчас этот гётферан правду сказал?
– Все, что мы спросили, он сказал. А если о чем-то забыли – сами виноваты. Впрочем, я тут давно с оптикой лежу. Оптика у меня хитрая. Пока что все сходится.
Про оптику он сказал для отвода глаз. «Оптикой» Николая Степановича был Коминт, весь день незаметно проведший там, на территории бывшего пионерлагеря. С приказом все узнать и ни во что не вмешиваться.
– А катер?
– Дался тебе этот катер… – проворчал Левка.
– Хороший катер. Поэтому интересуюсь.
– На катере тоже охрана, – сказал Котик. – Четверо.
– Котельная, – страшным голосом напомнил Николай Степанович.
– Не знаю. – Котик вдруг содрогнулся мгновенно и скривился набок, как при приступе холецистита. – И знать не хочу. Не мое дело. Сидит там какой-то придурок, не выходит никогда.
– А дети?
– Дети к нам не касаемо. Это у Барона спрашивайте.
– Спросим и у Барона… Значит, сказать тебе больше нечего?
– Нечего, начальник, – обрадовался Котик.
– Ну так прощай, – сказал Николай Степанович, убрал руку с плеча – и тотчас китайский нож влетел провокатору под левую лопатку.
Ополченцы в ужасе отпрянули.
– Ребята! – расцвел Тигран-гранатометчик. – Настоящий командир пришел!
Между числом и словом (Майоренгоф, Рижское взморье, 1923, январь)
Три чайки молча плавали в прозрачном воздухе, описывая странные полузнакомые фигуры. Пляж был невыносимо бел после тихого ночного снегопада, и только две цепочки синеватых следов тянулись рядом, накладываясь и пересекаясь. Люди шли навстречу друг другу, тихие и задумчивые, постояли, обменялись впечатлениями и побрели дальше, каждый по своим несуществующим делам.
Облупившиеся купальни терпеливо настроились ждать лета, заколоченные черным горбылем.
Скучно было в Майоренгофе, скучно и пусто.
Лишь на главной (единственной) улице городка наблюдалось какое-то оживление. Дремали на козлах два извозчика в необъятных собачьих дохах и цилиндрах, шелковых когда-то. Компания совершенно латышских цыган, скромно одетых и разговаривающих хоть и по-своему, но вполголоса, выходила из винного подвальчика. На каждом крылечке сидели кошки, важные, толстые и солидные. Я уже обращал внимание на то, что кошек хозяева-латыши из принципа не кормят, но мышиная охота здесь богатейшая.
Редкие встречные на меня в тщательно скрываемом изумлении и как бы невзначай оглядывались. Все они были белые, голубоватые, зимние, а я – почти черный. При белых выгоревших волосах.
Вход в алюс-бар, как и положено было, запечатали легким заклятием, и я прошел через него, как через краткий порыв встречного ветра. Открывшаяся взору картина меня восхитила.
Войди сюда невзначай посторонний человек, он не удержался бы от восклицания, увидев, как сухонький раввин, одобрительно ворча по-немецки, с азартом обгладывает свиные ножки. Ах, подумал бы он тоже по-немецки, майне либер херрен, как многое изменилось в несчастной Германии без кайзера!..
Напротив «раввина» сидел настоящий рабби Лёв – величавый старец с аккуратной стриженой седой бородкой, в сине-сером двубортном пиджаке и вышитой сорочке, старец, которому больше приличествовало бы бродить по саксонским и вестфальским деревням, слушая птиц и записывая пастушеские песни; носитель же подлинно арийского тайного знания, барон Рудольф фон Зеботтендорф, выказывал обликом все признаки восточноевропейского местечкового происхождения. Тем более, что во имя вящей маскировки он носил накладные пейсы и маленькую шелковую ермолку. Помимо нас троих и хозяина, в пивной никого не было и быть не могло; да и я, признаться, чувствовал себя лишним. Однако при беседах такого уровня по традиции положен был посредник, наблюдатель, третейский судья: А за такового договаривающиеся стороны взаимно согласились признать лишь посланца Мадагаскара.
Наставник Рене решил: пусть это и будет первой моей комиссией.
Я бы, понятно, назывался, комиссаром, если бы это старинное слово не пришлось исключить – по очевидным причинам – из нашего рабочего словаря.
Пришлось вернуться к старому персидскому «диперан».
Наставник сказал, вздыхая: Николай, ты же понимаешь, что и те, и другие занимаются вздором. Но это опасный вздор, и поэтому мы, к сожалению, должны знать все.
– Все чисто, – сказал я по-немецки.
Барон кончил жрать и быстрым движением вытер руки о волосы. Потом он потянул носом и попытался раскурить сигару из высушенных капустных листьев, пропитанных эрзац-никотином. Рабби с истинно еврейским многостраданием готов был перенести и это, но не выдержал я. И, раскрыв серебряный портсигар (мой абиссинский трофей), предложил барону пахитоску, собственноручно мною набитую очень хорошим турецким черным табаком «абдуллай». Барон, естественно, взял две – и одну сберег за ухо.
– В Германии выдают одно куриное яйцо на одного ребенка в месяц, – неожиданно глубоким голосом произнес он. – А плутократы.
– Бросьте, – сказал я, смакуя новообретенный немецкий. – Никогда не поверю, что общество Туле так стеснено в средствах: – мне не следовало этого говорить (равно как и угощать барона пахитоской), но протокол протоколом, а настоящая живая жизнь – это другое.
Барон дососал пахитоску до самого мундштука, а окурок бросил в миску с костями.
– О наших средствах предоставьте судить нам, юноша, – сказал он высокомерно. В глазнице блеснул несуществующий монокль. – Ваша задача, молодой человек, не позволить допустить, чтобы евреи в очередной раз обманули человечество.
– Я ведь могу и прервать переговоры, – сказал я и посмотрел ему в глаза, а сам подумал: будешь курить свою капусту. Похоже, барону пришла в голову эта же самая мысль.
– Я, разумеется, не имел в виду рабби Лёва, – сказал он. – Мы люди одного круга.
Благородство, как известно, выше крови. Но, согласитесь, ведь и рабби Лёва могут использовать в своих целях всяческие нечистоплотные личности наподобие Жаботинского или, не к столу будь сказано, Бен-Гуриона.
– Кто такой Жаботинский? – с интересом спросил рабби Лёв. – Я уже не в первый раз слышу это: Жаботинский, Жаботинский.
– Мы здесь вести переговоры не об этом собрались, – сказал барон. – Дело вот в чем, – он вдруг замолчал и хмуро посмотрел на меня. С большим, думаю, удовольствием отправил бы он меня сейчас отдохнуть на дне местной тинной речушки. Да вот только беда: не мог. – Дело вот в чем. Гезельшафт Туле предлагает Каббале обмен. Честный обмен. Честный и выгодный обмен.
Существуют, как вы знаете, сокровенные руны.
И тут произошла полная неожиданность: в пивную ввалились посетители, коих никакой протокол переговоров не предусматривал и предусматривать не мог.
Было их пятеро, все примерно моих лет и чуть помоложе, кто в штатском, кто в поношенной шинели, явно мои соотечественники и наверняка товарищи по оружию. Через заговоренную дверь они прошли так же легко, как проходили в свое время через большевистские полки и дивизии. Ничто не могло свалить их с ног, кроме пули.
Мало их было. Просто мало. А пуль – эх, слишком много пуль запасено было в арсеналах на победный семнадцатый. Так много, что хватило и на девятнадцатый, и на двадцать первый.
– Сакрыто, – сказал хозяин.
– Открой, – велел кадыкастый, в шинели и пенсне. Бывший дроздовец, наверное.
Рука его, согнутая, чуть дрожала.
– Сакрыто, – повторил хозяин и демонстративно повернулся спиной. – Не шуми.
Или ити сфая софдепия пиво пить.
– Братцы, – затосковал дроздовец громко, – столбового дворянина, чухна белоглазая.
Что будет дальше, я уже почти видел. Хозяину набьют физиономию, и он побежит за полицейским; барона обзовут, к вящей радости рабби, жидовской мордой.
А закончится вот чем: барон применит не сокровенную, но вполне действенную руну «иса», и мои братья-офицеры вдруг перестанут понимать, кто они есть и где находятся, затоскуют как бы предсмертно и бесцельно и неудержимо побредут куда-то, да так и не остановятся до самой смерти в ледяном пространстве.
Допустить такого я не мог.
Я встал. Будь я одет, как они, даже разговор мог бы состояться. Я заказал бы выпивку на всех, и мы проговорили бы до утра: то есть как бы мы, потому что моего отсутствия ребята уже бы не заметили. Переговоры же барона и рабби, Туле и Каббалы, пошли бы своим чередом. Но, к сожалению, был я в английском костюме, при котелке и перчатках, с лаковой тростью – преуспевающий компатриот, крыса, успевшая сбежать не с пустыми лапками, пока они там держались зубами из последних сил – и гибли, гибли один за другим. Пристрелят они меня, как сволочь, как собаку – и правы будут. А потом – обзовут барона жидовской мордой.
– Вам еще рано сюда, господа, – сказал я, подходя. Я был все тот же, только во лбу моем они видели дырочку от пули.
– Иисусе Христе, – прошептал тощий в артиллерийской фуражке и мелко перекрестился. – Мертвяк. Допились. Донюхались.
– Господа, – я постарался смягчить голос до бархатного. – Живые сюда не ходят.
Не принято. Вы разве в дверях ничего не заметили?
– Ника? – вдруг страшно прошептал серолицый, с уланским кантом, офицер. И я узнал моего давнего и недолгого друга, тогда вольноопределяющегося Москаленко; мы провели с ним два поиска в Пруссии, после чего он с простреленным легким отправился в тыл. – Так это правда? Когда же тебя?..
– Не так давно. В двадцать первом, в питерской чека.
– А я вот: видишь, до чего дошли?
– Вижу, Павлуша, вижу. И завидую. Не торопитесь к нам сюда, скучнее места еще не придумано. И если вам не трудно: вот, не откажите принять – у нас они не в ходу, а вам могут пригодиться, – я протянул им пачку: здешние несерьезные, но вполне ходовые латы пополам с английскими фунтами.
Дроздовец посмотрел на меня пристально, как бы примеряясь вложить перст в пулевое отверстие. Потом скомандовал:
– Эскадрон, кру-гом. В рай – шагом марш! – на костистом лице его разлилась смертная бледность.
Деньги он, однако, при этом прихватить не забыл и сам отходил пятясь, не подставляя спину.
Переговоры продолжились.
– Я весь внимание, – сказал рабби Лёв и поправил галстух. Было заметно, что надел он этот предмет в первый раз и очень им гордится.
– Существуют, как вы знаете, сокровенные руны, – повторил барон. – Три из них нам удалось разрешить. При раскопках в Лапландии профессором Штауфенбергом был найден резной моржовый бивень.
– Моржовый что? – не расслышал рабби.
– Моржовый бивень, венчавший шлем воина.
– Это, позвольте, вот такие викинговые шлемы с рожками? – изумился рабби. – Какой же должен быть большой викинг!..
– Землю, как известно обязано быть всем образованным людям, населяли в старину гиганты, – поучающе сказал барон. – Но и для гиганта такой шлем был бы немного великоват. Наши специалисты гарантированно установили, что подлиным владельцем шлема являлся сам бог Локи.
– Что вы говорите? – весело всплеснул руками рабби. – И как же это удалось гарантированно установить?
– Я не намерен спокойно выслушивать ваши неостроумные издевательства, – сказал, дернув щекой, барон.
– Но мне это действительно интересно!
– Наши методы вас не касаются. Справки были наведены в самых компетентных слоях астрала. За точность мы ручаемся.
– Если я вас правильно понял, – сказал рабби, – это ваш товар. Я, правда, не знаю, что мы будем делать с этим товаром, даже если, страшно подумать, купим его.
Что, скажите мне?
– С этим товаром вы сможете, наконец, возродить свое государство, – сказал барон твердо. – Без всяких там Бен-Гурионов.
– В Лапландии? – невинно спросил рабби.
– В Палестине, старый ты дурак! – рявкнул барон. – В Палестине! И чем скорее вы все туда уберетесь.
– Барон, барон, – сказал я. – Извинитесь.
– Да. Рабби Лёв не дурак. Я извиняюсь.
– Дорогой барон, – сказал рабби. – А как вы мыслите реальное применение рун Локи для создания государства бедных евреев?
– Как?! – закричал барон. – Посмотрите, он меня спрашивает, как! Да во-первых, с их помощью были возведены неприступные стены Асгарда! Были разрушены Фивы Стовратные! Этими рунами владели Аттила и Агамемнон! Нагарджуна и Карл Великий! («И где они все теперь?»– негромко и в сторону спросил рабби.)
Он-то их и закрыл, свиная голова с дерьмом вместо мозгов и сраками вместо глаз, по наущению ваших христианских попов!..
– Так уж и моих? – не поверил рабби.
– Да все вы одним мазаны.
– Барон! Второе предупреждение.
– Короче: руны эти дают богатство, славу и воинскую доблесть.
– А фатерланд вы оставляете ни с чем?
– Арийскому племени нет нужды черпать силы в мелких суевериях! – барон нервно протянул руку к моему портсигару, пощелкал пальцами.
– Из-за этих мелких суеверий я был вынужден покинуть Прагу, чего не делал уже, м-м, скажем, так: несколько лет. Вы не поверите, как неприятно старому раввину путешествовать в этих содрогающихся железных.
– Рабби, – сказал барон проникновенно, – вы же меня знаете! Я же никогда не оторву уважаемого всеми человека от ученых занятий по сущим пустякам!
Конечно, мы даем вам эти руны как бы в аренду. В пользование. Разгоните ко всем чертям арабов, обустроитесь, восстановите Храм – тогда и вернете.
– И что вы хотите взамен? – спросил рабби тихо.
– А вы еще не поняли?
– Понял. Но вы все равно скажите, вот молодой человек тоже хочет услышать.
– А он что, тоже не понял?
– Господа, господа, – сказал я. – Все должно быть произнесено вслух. Не я завел это правило.
– Он прав, Рудольф, – сказал рабби.
– Тетраграмматон, – шепотом произнес барон и повторил еще тише, но почему-то еще слышнее: – Тетраграмматон.
От этого шепота не то что у меня по спине – по стенам ко всему привычной пивной побежали мурашки. Латыш-хозяин алюс-бара за стойкой вдруг наклонил голову и замер, будто прислушиваясь к далекому приближающемуся грому.
«Уж не от Райниса ли он?» – подумал я мельком, но прогнал это подозрение: место встречи подбиралось не мной, учеником – и крайне тщательно.
Здесь было чисто.
– Мой ответ: никогда, – сказал рабби.
– Даже в аренду?
– А в аренду тем более.
– И даже на самых выгодных условиях?
– Барон, вот я сижу перед тобой, старый Исав. И ты танцуешь передо мной, старый Иаков. И твоя чечевица давно остыла. Что слава, доблесть, богатство?
Дым. И ты хочешь за дым приобрести солнце? Смешно. Вот и молодой человек посмеется вместе со мной. Ха-ха-ха.
Я и рад был бы от души посмеяться, но не знал толком, над чем. Да и вид барона не располагал к веселому смеху. Так выглядит человек, который опрокинул стопку чистого спирту, а там – вода.
Он долго сидел, обхватив голову руками. Потом выпрямился. Лицо его было белое.
– Ты мне все равно отдашь его, – сказал он, присвистывая бронхами. – Сам придешь. На коленях приползешь. Молить будешь: возьми. Даром возьми. Ты просто не представляешь цену, которую тебе придется заплатить за сегодняшний отказ.
Но, как бы ни шипел барон, а рабби Лёв в свое время на равных говорил с императором Рудольфом Габсбургом, тезкой барона и великим алхимиком.
– Господа, господа, – поспешно вклинился я, – а что это мы пиво-то не пьем?
5
Побеждая, надо уметь остановиться.
Лао Цзы
Операция не могла не удаться, поскольку Николай Степанович был самым старым солдатом на свете.
– Сверим часы. Без четверти три.
– Так точно, – сказал Левка.
– Два сорок два, – сказал Тигран. – Сейчас подведем.
– Гусар, – сказал Коминт.
И точно – вернулся Гусар. Встал боком, порываясь убежать обратно и как бы приглашая идти за собой.
– Ну, все, – сказал Николай Степанович. – В три ровно переходим шоссе. Лев, иди за Гусаром, он дорогу знает. И – слушайся его.
– Постой! – вскинулся Левка. – У них же у самих собак – как собак, тьфу. Дато всюду со своим ротвейлером ходит, даже в сауну, и вообще.
– А вы, значит, и об этом не подумали? Нормально, ребята. Всех вас стоило бы расстрелять перед вашим же строем.
Тигран нервно хихикнул.
– А ты, Саят-Нова, что бы ни происходило, хоть голые девки из-под каждого куста полезут – бежишь на пляж и очень метко стреляешь по катеру. Иначе они из своего «владимира» нас пошинкуют мелко-мелко.
– Понял, командир, – сказал Тигран. – Мне тоже этот катер очень не нравится, не знаю, почему.
– Ну, все, – сказал Николай Степанович. – Патронов не жалеть, пленных не брать.
– И блядей? – с сожалением спросил кто-то.
– Женщин и детей не трогать. Мы не горцы.
– Понял, командир!..
Шоссе переползли тишком ровно в три часа. Коминт вел, Тигран шел вторым, Николай Степанович прикрывал. Еще десять минут ушло на поиск отметины, оставленной Гусаром.
– Здесь, – сказал, наконец, Коминт.
Лаз в зарослях ежевики был совершенно незаметен, и выдавал его лишь резкий мускусный запах. Луна, наливаясь багровым, висела справа – на удачу.
Они протиснулись в узкий лаз. Под забором было подмыто, промоину затягивала железная сетка, отодранная с одного конца. По верху забора висела спираль Бруно и светились глазки охранных устройств. А здесь – всего только крапива, зимой не имеющая силы.
Стрелки сошлись чуть пониже трех, когда маленький отряд пробрался сквозь акацию и занял исходную позицию у подножия разросшейся шелковицы. Луна теперь была впереди, очень низко, и на фоне серебрящегося неба резко отпечатаны были силуэты корпусов, тарелка спутниковой антенны на крыше столовой и тонкая труба далекой котельной.
– Этот корпус? – прошептал Николай Степанович, указывая Коминту на ближайший к ним.
– Этот.
– Ну, с Богом: – он перекрестил друга, тот кивнул – и растворился в темноте.
Потянулось томительно время. Минута. Две минуты. Три.
– Что ж ты, Гусар. – и в этот момент грянуло!
Это происходило довольно далеко, и все же – такого воя и рычания дикой собачьей битвы ему слышать не приходилось. Будто не десяток собак носилось по бывшему (впрочем, почему бывшему?) лагерю – и вдруг сошлись каждая против всех, – а сотни, тысячи: Тигран напрягся и задрожал.
– Тише, воин, – Николай Степанович дотронулся до него. – Дай им втянуться.
– Мой выстрел первый.
– Конечно. Поэтому и говорю: дай им втянуться.
Крики людей, слабые хлопки в небо – было ничто.
Прошла еще минута.
– Давай.
Тиграну нужно было пробежать метров пятьдесят до бетонной решетки, символически отделяющей лагерь от пляжа, но Николаю Степановичу показалось, что гранатометчик просто исчез здесь и тут же появился там.
Положил аккуратно трубу в развилку бетонных планок, постоял, ловя цель – спина его была натянута, как струнка, потом расслабилась.
Выстрел был оглушительный.
А попадание – ослепительным. Огненное полушарие взошло над морем, высветив и надолго зафиксировав пирамидальные тополя, отблески в темных окнах, зеркально-черные машины.
Несколько хлестких очередей ударили позади, а потом зарычал пулемет, и ничего не стало слышно.
– Ну, вперед, – сказал сам себе Николай Степанович и быстро пошел, почти побежал, к темневшей вдали котельной.
…Живые лежали справа, а мертвые слева. Мертвых было значительно больше.
Бляди жались к стене и даже не всхлипывали: понимали. Николай Степанович пересчитал Левкино воинство: одного не хватало. Всего только одного.
– Я Вовика у шоссейки положил, – сказал, подходя, разгоряченный Левка. – С пулеметиком. Если ментура в городе загоношится…
Лицо Левки было по низу обмотано серым в клеточку шарфом. Николаю Степанович удалось убедить русское воинство, что прятать лицо от внутреннего врага не позор, а прозорливость.
– Хорошо сработано, парни, – сказал Николай Степанович. – Всякое дело следует начинать с победы. В двух словах: как?
– А здорово! Гусар, наверное, сучкой прикинулся, все псы за ним помчались, а потом грызться начали, а охрана их растаскивать давай. водой, то-се.
Бдительность ослабили. Ну, тут и мы – помогли. Разняли, больше не грызутся!
– Мой старикашка-ниндзя еще не появился?
– Здесь я, Степаныч, – сказал из дверей Коминт. – Мне люди нужны, детишек нести. Они не все ходить могут.
– Возьми блядей. Лев, выделите двух своих ребят – на всякий пожарный. А я пока взгляну на наших аманатов… Вы знаете, кто такие аманаты, Лев?
– Я кандидат исторических наук! – обиделся Левка.
– А чем же занимаетесь помимо сражений?
– Да так… депутатствую.
Николай Степанович посмотрел на него с уважением.
– Крепкий депутат нынче пошел. Куда там булыгинской Думе… У меня тоже сын был историк. И тоже Лев.
– Был?
– Да. Умер недавно.
– Своей смертью?
– Да уж не чужой.
– Что-то молодые часто помирать стали. Эх, времечко.
Николай Степанович встал над лежащими мордой в ковер аманатами. Носком сапога заставил крайнего в ряду перевернуться. Это был одесско-восточного вида молодой человек с тонкими усиками и щедрыми бланшами по всей физиономии.
– Дато, – с гордостью подсказал из-за спины Тигран.
– Имя меня интересует менее всего, – сказал Николай Степанович.