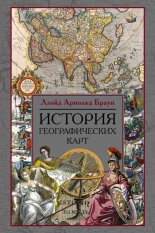Сценарий счастья Сигал Эрик

Но по большей части я пребывал в состоянии растерянности. Я не знал, что думать о Сильвии, обо всем мире, о себе самом.
Моя агония носила затяжной характер. Тем более что не было такого журнала или газеты, где не печатались бы фотографии их медового месяца. И это продолжалось довольно долго.
— Мэтью, — ласково произнес Чаз, — забудь о ней. Считай, что ее больше нет. Тебе надо смириться с тем, что ты вообще можешь никогда не узнать, что на самом деле произошло. Надо радоваться, что ты жив и поправишься.
«Это не благо, — подумал я. — Это наказание».
Мне оставалось три дня до выписки. Я сидел у распахнутой двери на террасу, делая вид, что читаю и дышу воздухом. Неожиданно вошла медсестра и объявила, что ко мне посетитель. Это была молодая женщина, назвавшаяся Сарой Конрад, подругой подруги.
Она оказалась хорошенькой женщиной с блестящими, коротко стриженными волосами каштанового цвета, ласковыми глазами и тихим голосом. Выговор у нее был как у образованной англичанки, по нему я сразу понял, кто она такая. И догадался, зачем она пришла. Я попросил сестру оставить нас наедине. Она, как мне показалось, с долей смущения посмотрела на меня и спросила:
— Как вы себя чувствуете?
— В зависимости от того, кого это интересует, — с вызовом отвечал я. — Это она вас послала?
Сара кивнула.
— Вы были на свадьбе?
— Была.
— Зачем она это сделала?
Девушка развела руками:
— Не знаю. Думаю, она и сама толком не знает. Наверное, это было давно решено.
Было такое впечатление, что она тщательно взвешивает каждое слово, прежде чем его произнести.
— Но ведь это же было до Парижа! До Африки!
Сначала моя посетительница не ответила. Сидела молча на краешке стула, как прилежная ученица, положив сжатые кулаки на колени и пряча от меня глаза. В конце концов она достала из сумочки конверт. Затем встала, протянула мне письмо и молча направилась к выходу.
— Подождите! — прокричал я. И извиняющимся тоном добавил: — Пожалуйста.
Сара опять села и стала нервно смотреть, как я вскрываю письмо.
«Мой самый дорогой человек!
Я обязана тебе жизнью и обязана объясниться. Я всегда буду благодарна судьбе за то, что мне выпало хоть недолгое время провести с таким замечательным человеком, как ты. Жаль только, что все закончилось так, а не иначе.
А пока могу лишь сказать, что поступила так, как считала нужным. Для нас обоих.
Пожалуйста, прости меня. Уверена, ты найдешь свое счастье. Которого ты, несомненно, заслуживаешь. До конца дней буду бережно хранить в памяти драгоценные мгновения, которые мы провели вместе.
Твоя Сильвия».
Я вдруг понял, что до этого момента во мне еще теплилась какая-то надежда. Остатки иллюзий Сильвия разрушила собственноручно. Убитым голосом я обратился к Саре:
— Скажите честно, как они ее заставили?
— Могу сказать, что пистолет к виску не приставляли, — едва слышно ответила она. Потом покраснела, по-видимому, устыдившись своей метафоры.
Я наивно надеялся, что, если как следует на нее нажать, можно вытянуть из нее правду.
Сара это уловила и, несмотря на мои настойчивые расспросы, стояла насмерть. Хранила верность своей подруге. Наконец она поднялась.
— Приятно было познакомиться, — смущенно произнесла она. — Я рада, что вы поправитесь. Если вам что-нибудь будет нужно…
Девушка осеклась на полуслове. Было видно, что она чуть не отступила от утвержденного сценария.
— Вы не могли бы передать ей кое-что в ответ?
Она беспомощно развела руками.
— И это все? — воскликнул я, обращаясь скорее к себе, чем к ней. — Мы встречаемся, влюбляемся, а потом она просто исчезает, даже не попрощавшись?
— Мэтью, мне очень жаль, — вздохнула Сара. — Но сейчас больно не вам одному.
Она медленно двинулась к выходу. Я. крикнул ей вслед:
— Что вы хотите этим сказать? Что все это значит?
Она остановилась и повернулась ко мне. Я с изумлением увидел, что у нее в глазах стоят слезы.
— А знаете, Мэтью, она была права. Все, что она о вас говорила, — все правда.
И ушла. Оставив меня наедине с последними словами Сильвии.
Когда меня наконец признали окрепшим настолько, чтобы выписать из клиники, профессор Таммус самолично строго-настрого наказал мне не нервничать и избегать любых стрессовых ситуаций. В обычной для себя высокопарной манере он объявил, что древние были правы: за два тысячелетия не придумано лучшего лекарства, чем то, про которое говорил еще Гиппократ: время.
— Мэтью еще не вполне здоров, — наставлял он моих родных. — Он быстро утомляется и нуждается в восстановлении сил — и моральных, и физических.
Мы с Чазом проводили маму на самолет. Она обняла меня на прощание и с обеспокоенным видом пошла на посадку. Мы убедили ее, что она нужна Малкольму. Эллен, на пятом месяце беременности, была у своих родителей, так что само собой выходило, что Чаз должен был составить мне компанию.
Спустя два часа мы уже сидели в поезде, мчащемся через всю страну.
— Куда ты меня везешь? — в раздражении спросил я. Должен сказать, брат у меня просто святой. Он спокойно терпел все мои выходки. Я почему-то все время и всем был недоволен. — В Швейцарии две вещи имеются в избытке — это часы и горы. Какого черта тащиться в такую даль, чтобы поглазеть на очередной лесистый склон?
— Во-первых, мы едем по очень живописным местам, — терпеливо объяснял брат. — Во-вторых, то место, куда мы направляемся, это практически «крыша мира», откуда видно все вплоть до Маттергорна. И в-третьих, там совершенно нечем заняться, как только ходить, гулять, расслабляться и любоваться снегом.
— Еще слишком рано, — проворчал я. — Никакого снега там не будет.
— Снег на леднике лежит всегда, — торжествующим тоном объявил Чаз. — Уверен, ты там отоспишься и наберешь вес. А главное, сможешь найти человека, которого давно ищешь.
— Да? Кого же это?
— Себя, идиот!
Мы вышли в Сионе, пешком прошли два квартала до фуникулера, который шел круто вверх и через двадцать минут доставил нас в городишко Кранс-Монтана целой милей выше.
Случайно или так оно и задумывалось, но «Отель дю Парк» в начале века служил туберкулезным санаторием. В его коридорах все еще витала атмосфера выздоровления. Отсюда открывался величественный вид на Маттергорн.
Вопреки расхожему утверждению, что из-за разреженного высокогорного воздуха первые ночи человек не спит, едва мы добрались до номера, как я, как был в одежде, рухнул на кровать и провалился в сон. Последнее, что я помню, — это как Чаз стаскивает с меня ботинки.
— Вот так, братишка, вот так… — приговаривал он. — Отдохни. Это волшебные горы. Ты поправишься, это я тебе обещаю.
Наверное, при виде могучего заснеженного пика, сверкающего на ярком летнем солнце, пошатнулся бы пессимизм даже в самом закоренелом мизантропе. Именно такая панорама открывалась с террасы, на которой мы завтракали. Хлеб нам доставляли из пекарни через дорогу. Масло — от коровы с соседней фермы, а сыр — из близлежащей деревни.
Мы, как два школьника, стащили по лишней булочке, чтобы употребить в качестве ленча на открытом воздухе, который мы планировали устроить себе на леднике, еще на милю выше.
Выйдя из вагончика канатной дороги на высоте трех тысяч метров, я почувствовал, что мне не хватает воздуха, настолько он был разрежен.
Перед нами расстилалась обширная долина, покрытая снегом.
Чаз со свойственной ему добросовестностью настоящего гида привлек мое внимание к самым симпатичным лыжницам в очень откровенных купальниках.
— И что? — с кислой миной проворчал я. — Ты уже женат, а мне плевать. Давай лучше поедим!
Чаз рассмеялся.
— В чем дело? — не понял я.
— Еще только десять часов! Но твой хороший аппетит меня только радует.
Целую неделю мы бродили по исполненным покоя лесам, по берегам кристально чистых озер над игрушечными городками и деревнями, и я постепенно набирал силу. Душевные раны, казалось, начинали затягиваться. По крайней мере, болели они меньше.
Я предложил взять напрокат лыжи.
— Но профессор Таммус не разрешил тебе напрягаться!
— Брось, этот ледник ровный, как сковородка. Где и кататься, как не здесь?
Поначалу колени у меня подгибались, но к середине дня я почувствовал, что стою на лыжах увереннее и даже могу прилично кататься. Это было радостное ощущение. Я видел, что и Чаз доволен.
Несколько дней спустя, проходя по центральной площади в поисках, где поесть, я вдруг заметил вывешенный на дверях церкви плакат. Это было объявление о предстоящем концерте легендарного Владимира Горовица. Кране, расположенный на полпути между Женевой и Миланом, всегда привлекал космополитичную публику.
После обеда посреди ослепительно белого святилища соорудили помост, украшением которого стал величественный, безупречно отполированный рояль черного дерева.
Чем ближе был концерт, тем больше я волновался. Я так долго не слышал живого исполнения! По сути дела, за все эти месяцы я по большей части «слышал» только ту музыку, что звучала у меня в голове, когда я «играл» на своей безмолвной клавиатуре.
В четыре часа небольшой храм заполнился до отказа. На сцену вышел Горовиц, худой и сутулый. В лице у него было что-то птичье. Он заметно волновался.
Но ровно до того момента, как сел за инструмент. Он еще не коснулся» клавиш, а от него уже исходила поразительная уверенность.
Это был незабываемый концерт! Никогда не слышал, чтобы музыку исполняли так деликатно и в то же время с таким чувством. На какой-то миг я даже пожалел, что не пошел в профессиональные музыканты.
Разнообразие его программы свидетельствовало о том, что он не страшится ни одного музыкального стиля и ни одного композитора. Его трактовка была необычна, а виртуозность исполнения, причем с неизменным чувством, потрясала. Было такое ощущение, что он в каком-то смысле желает продемонстрировать, на какую виртуозность способны пальцы музыканта без ущерба для выразительности. При высочайшем темпе это был не спринтер, а подлинный музыкант.
Аллегретто из моцартовской сонаты было исполнено в быстром темпе. Скерцо Шопена — еще быстрее. И уж совсем неотразимым был финал — этюд ля-мажор Морица Московски, малоизвестного прусского композитора. После этой пьесы продолжительностью всего полторы минуты и солист, и вся аудитория с трудом перевели дыхание.
А выход Горовица на «бис» и вовсе стал большим сюрпризом и чрезвычайно меня порадовал. Это была его собственная аранжировка «Звездно-полосатого флага» Джона Филиппа Соузы, исполненная в таком темпе и с таким блеском, что, когда в финальной части он подражал партии флейты пикколо, возникало ощущение, что у него не две руки, а три. Когда великий пианист закончил, я первым вскочил на ноги и захлопал, преисполненный одновременно патриотизма и восхищения талантом этого гениального музыканта.
Атмосфера церкви преобразила пришедшую на концерт публику в своеобразную паству. Многие невольно испытали желание подойти и пожать руку маэстро — по его лицу было видно, что он и сам не очень привык к такому горячему приему. Дожидаясь своей очереди, я взирал на клавиши величественного «Стейнвея» с вожделением мужчины, впервые после многих месяцев заточения на необитаемом острове увидевшего сладострастную женщину.
Чаз поневоле перехватил мой взгляд и шепнул:
— Когда он уйдет, останься поиграть.
Наконец Горовиц избавился от восхищенных поклонников, и в мгновение ока зал опустел. Остались только мы с Чазом и рояль.
— Неужели они его не запрут на ночь?
— Это же деревня, — ответил брат. — Здесь ни одна дверь не запирается. Ну же, не стесняйся. А мне пока надо открыток купить. Встретимся в отеле.
Искушение было велико. Я долго сидел на табурете, не осмеливаясь прикоснуться к клавишам. Сначала я не знал, что играть.
Потом стал гадать, что я вообще могу сыграть.
Медленно, с нарастающим ужасом, я понял: ничего. Абсолютно ничего.
В этот момент мне стало ясно: утрату Сильвии я, скорее всего, смогу пережить. Но музыки в моей жизни уже не будет никогда.
Ни в руках. Ни в голове. Ни в сердце.
14
Пробираясь сквозь толпу оживленных туристов, бурно обсуждающих предстоящий ужин, — я чувствовал себя человеком-невидимкой.
Я решил никому не говорить о внезапно постигшей меня внутренней немоте. Не нагружать никого своими проблемами.
В отеле, за столом, я изо всех сил старался поддерживать с братом оживленную беседу, отлично понимая, что рано или поздно мучительный вопрос из уст Чаза прозвучит. Позднее, когда мы мирно сидели на крыльце, он поинтересовался:
— Ну, как?
— Что именно?
— Твое воссоединение с инструментом.
Я сделал неопределенный жест — дескать, так себе.
Он был невозмутим.
— Не спеши. Все вернется.
Откуда он знает? Как же…
…После нескольких дней безмолвных раздумий я принял решение. Надо перестать скорбеть. Надо перестать причинять боль своим близким. Не будь их, я бы, наверное, давно бросился с какой-нибудь живописной скалы. Но Эллен готовилась сделать меня дядей. И пора было перестать прятаться в этом придуманном мире, где красота ландшафта заставляет усомниться в его подлинности.
Чазу удалось убедить меня в справедливости девиза Скотта Фицджеральда (позаимствованного у Джорджа Герберта): лучший способ отомстить — это жить полной жизнью.
— В твоем случае, — добавил он тоном зрелого мужа (следствие выпавшей ему нелегкой братской доли), — можно начать с того, чтобы просто жить.
Я изобразил улыбку. Эту простую мимическую реакцию, столь необходимую для общения с другими людьми, мне теперь придется осваивать заново.
Вечером я приступил к воплощению своего решения. Брат недоуменно смотрел, как я кидаю в чемодан вещи.
— Ты что, шутишь? — спросил он. — Надеюсь, ты не собираешься всерьез возвращаться в Африку?
Так-так… Вижу, тебе еще не поздно кое-чему поучиться у старшего брата, Чаз. Это называется «верность долгу». Я подписал контракт на два года и своими глазами видел, как я там нужен. И теперь я возвращаюсь туда, где смогу приносить пользу.
Он видел, что меня не разубедить, и принялся помогать мне в сборах к поездке в африканскую глушь. Денег у нас было предостаточно, поскольку все расходы на мое лечение были покрыты «Медсин Интернасьональ». Кроме того, пока я был в клинике, мне продолжали начислять зарплату. Я накупил всем подарков, включая бутылку джина (правда, стандартного объема) для Мориса.
Чаз заволновался только тогда, когда мы уже сидели в зале ожидания и диктор объявил посадку на мой рейс. Надо признать, на всем протяжении выпавшего на его долю душевного испытания он держался молодцом. После того как я побывал на волосок от смерти, мы с ним сблизились еще больше. Этого обстоятельства Чаз словно не замечал, пока не настал момент прощания.
Я похлопал его по плечу.
— Чаз, не волнуйся. Я вернусь в целости и сохранности, обещаю тебе!
— Ты и в тот раз это говорил, — криво усмехнулся он.
— Но ведь вернулся? Разве нет? Поцелуй от меня Эллен.
Мы обнялись, и я, не оборачиваясь, пошел на посадку.
…Не успели мы оторваться от земли, как я вспомнил, что забыл купить подарок для Франсуа. К счастью, в Каире была пересадка, и я смог исправить эту непростительную оплошность. Я купил ему гипсовую статуэтку сфинкса за двадцать пять долларов. Единственный ее недостаток заключался в том, что ее нельзя было ни пить, ни курить. Зато она воплощала неоспоримую мудрость.
Как и обещал, обрадовавшись, что я лечу назад, Франсуа собственной персоной приехал встречать меня в Асмэру и теперь ждал на летном поле.
Я сделал несколько шагов по трапу, и у меня перехватило дыхание. Это не была поездка в неизвестное, как в тот раз. Напротив, я возвращался в хорошо знакомую ситуацию.
Франсуа сердечно обнял меня.
Несмотря на все мои возражения, он подхватил и понес мой багаж к машине. Но самым великодушным его жестом был отказ от курения на всем протяжении пути — в знак почтения к обретенной в Швейцарии чистоте моих легких.
По дороге он ввел меня в курс дела — рассказал о кадровых изменениях и обо всех, даже самых незначительных, происшествиях, имевших место в мое отсутствие.
И очень умело ни разу не упомянул о Сильвии.
Как стало ясно чуть позже, она уехала раз и навсегда. Другие члены группы тоже вычеркнули ее имя из своего лексикона.
— Нам тебя не хватало, — признался Франсуа без обычного своего сарказма. — Ты уехал — и я понял, насколько ты был ценным работником. Ну да ладно, — он хлопнул меня по плечу. — Теперь ты снова с нами, и мы, можно сказать, опять в полном составе. Мне удалось заполучить австралийца, которого я поначалу отверг.
— Ну, и как он? — поинтересовался я.
— Как врач — превосходный. Как человек — никудышный. Судя по всему, подтверждается расхожее мнение о том, что в Австралии скромность не в почете. Он отнюдь не столь неотразим, как мнит о себе, но к моменту его приезда Дениз была в таком душевном кризисе, что немедленно убедила себя, будто господь послал ей его в ответ на ее молитвы. Если бы не она, его самолюбие увяло бы без соответствующей подпитки. Вообще-то наличие общего объекта для неприязни очень сплачивает коллектив.
Как обычно, наблюдения Франсуа оказались весьма меткими.
Все меня ждали и не ложились. На стол было выставлено пиво «Сент-Джордж» местного производства, а какая-то добрая душа не пожалела даже последней бутылки виски из дьюти-фри.
Один за другим мои товарищи подходили и обнимали меня. Все, кроме здоровяка, который лишь протянул мне волосатую лапищу и с характерным австралийским выговором назвал свое имя.
— Даг Мейтланд-младший, — объявил он. (Как будто я знал Дага Мейтланда-старшего!) — Жаль, что меня здесь не было, когда тебя подстрелили, старик, — скромно произнес он. — Я бы тебя мигом заштопал.
— А вы нейрохирург? — удивился я.
— Нет, ортопед. Но в черепушке я хорошо разбираюсь, а насколько я слышал, ранение было не очень серьезное. В любом случае, рад тебя видеть в наших рядах, старик.
Секундочку, подумал я. Это же я должен так говорить! Или он уже считает, что был здесь в первом составе? Да, долго же Франсуа копался в своем резервном списке!
Как хорошо было снова увидеть своих! Даже неразговорчивая Марта от души меня расцеловала. Не говоря уже об Аиде, которую особенно тронули привезенные ей в подарок духи.
Однако я умудрился прилететь за несколько тысяч миль и ни разу не вспомнить о том, что меня ждет в конце пути.
Пока меня не было, Франсуа не стал никого переселять.
Мне выдали фонарик, и Жиль помог мне отнести багаж в домик номер одиннадцать. У дверей он попрощался, и внутрь я вошел один. В доме было душно, но, наверное, так было всегда, только раньше я этого не замечал. Я тогда не обращал внимания на климатические нюансы.
Я осветил фонариком постель. Она была аккуратно застелена светлой простыней, в ногах лежало сложенное одеяло. Каких-то три месяца назад мы были здесь вместе, любили друг друга, а теперь я один. И такое впечатление, будто Сильвии здесь вообще никогда не было. Я подошел к шкафу, который когда-то умельцы соорудили для нас на скорую руку. Открыл ящики с правой стороны. Моя одежда лежала точно там, где я ее оставил. Открыл другую сторону. Ее вещи тоже были на месте. Не было только запаха, смеха, голоса, самого человека.
Неужели я смогу здесь спать?
Ответ был ясен: только если очень постараться.
За время моего отсутствия отношения между некоторыми членами группы переменились. Было такое впечатление, что наш австралийский друг присоединился к нам, преследуя такие же грандиозные цели, как размер его башмаков. Он почти сразу же стал требовать выделить одиннадцатое бунгало для него и Дениз. («Какого черта! — возмущался он. — Пропадает же жилье! Никто из них не вернется».)
На что Франсуа отвечал: «Когда меня в этом убедят, я подумаю о том, чтобы предоставить этот домик кому-то еще».
Когда Даг Мейтланд-младший приехал, его разместили вместе с беднягой Жилем. Самое мягкое определение для этой ситуации — столкновение цивилизаций. В моменты страсти они с Дениз словно нарочно выбирали самое неподходящее время, чтобы попросить Жиля удалиться. Или, как выражался Даг, «пойти поискать какую-нибудь редкую птичку».
Я сразу вызвался въехать в свое старое жилище, но Франсуа был как кремень.
— Это ничему его не научит, этого австралийца. Но если тебе так не терпится выручить Жиля, было бы великодушно с твоей стороны пригласить его к себе в одиннадцатый.
— Конечно, — ответил я. — Не хотел бы я доставлять удовольствие этому неандертальцу.
В результате победу праздновали обе стороны. Что, как доверительно сообщил мне Франсуа, есть один из секретов умелого руководства.
Естественно, шкаф надо было убрать, чтобы поставить на его место кровать для Жиля. Это позволило Франсуа употребить вещи Сильвии на пользу дела. То есть раздать тем, кто в них нуждался.
Мне не потребовалось много времени, чтобы вновь войти в нашу рутину. Больные были другие, а хвори — те же самые. И по-прежнему было очень много бессмысленных страданий.
У нас продолжали гибнуть больные, которых в обычных обстоятельствах мы вылечили бы без промедления и отправили домой, где они прожили бы еще много-много лет.
Однажды вечером, перед тем как мы сели ужинать, Франсуа отвел меня в сторонку и заметил:
— Между прочим, Мэт, завтра вторник.
— Рад это слышать. Тем более что сегодня понедельник. Я бы удивился, если бы было иначе.
— Прекрати, Мэтью, ты же знаешь, что мы с Морисом делаем по вторникам.
— Да, это точно. — Я вдруг вспомнил. — День катаракты, да?
— Вот именно. И я хотел бы видеть тебя в операционной.
— С каких это пор вам требуется помощь в деле, которым вы занимались уже, наверное, тысячу раз?
— Вот с каких, — ответил он и выставил вперед руки. Я увидел, как у него распухли костяшки пальцев. То ли это появилось у него недавно, то ли я раньше просто не замечал. Зрелище было весьма красноречивое.
— А в чем проблема? — спросил я, оставляя за ним право не выкладывать всего, если он не хочет.
— Смелей, Мэтью, ставь свой диагноз. Похоже на ревматоидный артрит, так ведь? Он и есть.
— Черт, жалость какая!
Не расстраивайся. У меня было время свыкнуться с этим. К счастью, мне по душе преподавание, и я жду не дождусь, когда вновь увижу огни Парижа. А тем временем и здесь подоспело решение проблемы.
— То есть?
Он посмотрел на меня в упор и улыбнулся.
— Я говорю о тебе, мой дорогой. С завтрашнего дня начинаю готовить из тебя смену. Будешь вместо меня оперировать катаракту.
— Дагу это не понравится, — заметил я.
— А мне не нравится сам Даг, так что мы квиты. Это несложная операция, и в традициях нашей организации привлекать к ее проведению нехирургов. Только к одной офтальмологической процедуре. Не волнуйся, тебя не заставят пересаживать хрусталик или делать еще что-нибудь подобное.
Я не знал, что и сказать. Помимо всего прочего, я понимал, насколько нелегким было это решение для такого человека, как Франсуа.
— Мэтью, ты что так погрустнел? — с укором спросил он.
— Знаю, ты удивишься, но ты мне симпатичен.
— Спасибо, только не вздумай кому-нибудь еще об этом говорить, я не хочу испортить себе имидж.
— Черт, да как же мы без тебя будем управляться? — сказал я.
— Думаю, прекрасно управитесь. Из тебя получится первоклассный руководитель.
В тот вечер я вернулся в свое бунгало, обуреваемый противоречивыми мыслями. Еще вчера я жалел себя. Сегодня у меня появилась более существенная тема для раздумий: я стал жалеть Франсуа.
«Катаракта является самой распространенной причиной слепоты и требует самого пристального внимания со стороны медиков… Ее широкое распространение в развивающихся странах, по-видимому, связано с высоким уровнем солнечной радиации…»
Мне не спалось. Я добрел до опустевшей столовой, подогрел себе кружку вчерашнего омерзительного кофе и принялся читать материал по моей новой хирургической специальности.
В таких местах, как Эритрея, это заболевание распространено по меньшей мере в двадцать раз чаще, чем в Европе или Америке. Вот почему любая группа медиков, выезжающая в эту глушь, непременно имеет в своем составе если не дипломированного хирурга-офтальмолога, то хотя бы специалиста, способного оперировать катаракту.
На другой день к Франсуа вернулся его былой сарказм. От вчерашней жалости к себе не осталось и следа. Уверен, он понимал, что я отныне смотрю на него другими глазами. Не просто как на врача, а как на руководителя. И только начав мысленно представлять себя в этой роли, я стал понимать, насколько это действительно трудная и сложная миссия.
Что касается операции, то он оказался прав. Вся процедура заняла от силы тридцать минут и проводилась под местной анестезией. Надрезы производились бесхитростно, хотя и аккуратно. Ассистируя Франсуа, я начал понимать, почему он решил подыскать себе замену, и за это еще больше его зауважал.
В следующий вторник я уже собственноручно вернул зрение пятерым больным. Это был один из самых волнующих моментов в моей жизни. Какой-то старик впервые увидел своих внуков. Женщина смогла посмотреть на своего взрослого сына, которого в последний раз видела еще мальчиком. Подумать только, ведь Франсуа переживал это каждую неделю! Я не мог отделаться от мысли, насколько теперь ему будет не хватать этих операций.
Едва он официально доверил мне оперировать катаракту в полном объеме, как по группе поползли слухи. Мое положение в коллективе стало довольно двусмысленным — уже не батрак, но еще и не босс.
Единственный человек, с которым мы по-прежнему не испытывали затруднений в общении, был Жиль. Он, как жаворонок (если можно так сказать), радовался, что мы с ним снова соседи.
Поскольку мое продвижение по служебной лестнице уже было вопросом решенным, мне была выдана керосиновая лампа, чтобы я мог работать по ночам. Что вызвало новую волну зависти. (Я не сомневался, что уже на следующее утро Даг потребует такую же себе.) И конечно, освещение было на руку и Жилю тоже: он мог допоздна читать про своих птиц.
Однажды вечером, собираясь просмотреть кое-какие отчеты, я взглянул на увлеченного своей орнитологией Жиля, и мне вдруг показалось, что он как-то изменился. Не сразу я сделал поразительное открытие: в отличие от всех остальных, рассматривавших свое пребывание на этом утлом плоту жизни посреди африканской пустыни как тяжкий, но необходимый этап, Жиль здесь словно обрел второе дыхание.
— Ну-ка, признайся, неужто дело только в том, что ты освободился от этого тупоголового австралопитека?
— Ты это о чем, Мэтью?
— С тобой что-то произошло за время моего отсутствия?
— Ну… — запнулся он, — я брал небольшой отпуск. Летал в Кению.
— А-а. У тебя там друзья?
— Вообще-то да. Там есть люди, работавшие еще с моими родителями.
— А что это была за работа?
— Мои отец и мать были врачи-миссионеры. Оба умерли много лет назад, я был еще ребенком. Но я уже тогда больше жил у тети с дядей во Франции и виделся с родителями, только когда они приезжали в отпуск. Я никак не мог понять, почему они не берут меня с собой. А теперь, когда я наконец повидался с их старыми друзьями, мне рассказали, как переживала мама, оставляя меня на попечение родни. А я-то все эти годы и не подозревал, как она по мне скучает.
Он отложил книгу и снял очки.
— Они погибли во время восстания May May в пятидесятых годах, и я с тех пор ожесточился. Но ровно до того момента, как приехал сюда. Теперь я делаю то дело, которому они посвятили жизнь, и мне понятно, во имя чего они ее отдали. Я побывал в школе, названной в их честь. Отнес цветы на их могилы. — Он немного помолчал, потом вздохнул и негромко сказал: — Вообще-то, я думаю, когда я тут закончу, поеду в Кению и продолжу их дело.
Я был растроган, что Жиль поделился со мной самым сокровенным. Теперь и он, в свою очередь, решился задать мне вопрос:
— Мэтью, можно тебя спросить? Я все время об этом думаю.
— О чем?
— О твоем маленьком пианино.
Так. Рано или поздно эта тема должна была возникнуть.
— Так что о моем пианино?
— Я больше не вижу, чтобы ты играл. Ты бросил? Почему? Извини, если я лезу не в свое дело, — смущенно добавил он.
— Ничего страшного, — соврал я. — Просто у меня нет на это времени.