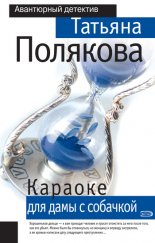Ричард Длинные Руки – сеньор Орловский Гай
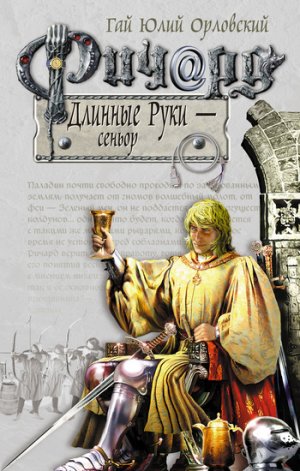
– Сэр Ричард, это у вас молитва или заклинание?
Я покосился на него с подозрением:
– Что-то я не вижу у вас рвения сразиться. Даже меч на месте.
– Так Божья ж тварь, – сказал Сигизмунд с недоумением.
– Дракон? – переспросил я.
– Он же орешник ел, – объяснил мне Сигизмунд, как придурку. – Чего ж нападать?
– А, травоядный…
– Орешник, – повторил Сигизмунд, и я наконец вспомнил, что орешник для нечисти то же самое, что осиновый кол в грудь вампира. – Раз листья орешника жрет, значит, Божья тварь! С нечистью и рядом не сидела.
– Хорошо, хорошо, – пообещал я. – Обязательно поправку в классификацию внесу. Карлу Линнею такие прыжки в сторону и не снились.
Поляны становились шире, разрослись на широкое поле, по обе стороны лес, что расширяющимися клиньями уходит в стороны. Сигизмунд ликующе вскрикнул, вознес хвалу Господу: впереди прекрасная дорога, широкая и абсолютно ровная, как бильярдный стол! По обе стороны грамотно проложены кюветы для отвода воды, даже камни по краям, чтобы дождевые ручьи не размыли.
Сигизмунд торопливо пустил коня на дорогу, копыта торжествующе и хвастливо зацокали, а я остановился, всмотрелся в край. Дороги так не заканчивают. Ее как будто срезало, но не бритвой, а чьи-то руки взяли и разломили, вон свежий… ну, это зависит от материала, край разлома с неровными выступами. Вся дорога в эту сторону, на север, как будто со всем плато рухнула в пропасть… но ведь не рухнула же, уровень почвы тот же…
Я присмотрелся еще, мороз прокатился волной по коже. Как будто чьи-то гигантские руки аккуратно состыковали два куска континента. На той стороне, где эта чудесная дорога, по краям растут совсем другие травы, цветет незнакомый мне кустарник. Здесь же, откуда мы выехали, сосновый и березовый лес, осина, дубы, клены, знакомый кустарник, вон Сигизмунд различил орешник, а я скажу, что это орешник, если увижу на нем орехи, но на той стороне как будто другой мир… Нет, ничего инопланетного, но как бы удивился князь Невский, когда вот так же выехал бы из родного леса и увидел растущие поля с кукурузой, помидорами, картошкой, которые еще предстоит обнаружить и привезти с неведомого континента из-за океана?
Но спина захолодела еще и потому, что те растения так и растут там, не переходя незримой черты, а эти, привычные, здесь, хотя понятно, что уже на следующий год после этого странного катаклизма ветер занес бы семена на другую сторону, или занесли бы птицы в кишечниках, животные на шерсти в виде репьяхов, перебрались бы подземными корнями, как малина…
Сигизмунд погарцевал от края к краю, останавливаясь перед кюветами, прокричал:
– Великолепная дорога, не правда ли?
– Правда, – ответил я. Сердце сжало тоской. – Еще как правда…
Дорога в самом деле великолепная, словно бы главный инженер МКАДа с отрядом высококлассных строителей и первоклассной техникой выполнял заказ римского сената. Покрытие из тщательно уложенных, подогнанных одна к другой и сцепленных краями керамических плит, имитация под грубый гранит. Края не просто подогнаны, а сомкнулись, слились, как сливаются два куска льда или куски пластилина. Покрытие идеально ровное, а под ним явно неразрушимый слой подложки, ибо за столетия вода уже подмыла бы, невзирая на кюветы, есть же и подземные родники, даже целые реки, что иногда выпускают вверх мощные ручьи.
Долгое время мы ехали по этой странно прекрасной дороге, абсолютно без выбоин или промоин, через каждую милю верстовой столб, обычно из массивной гранитной глыбы, на лицевой стороне герб и незнакомые вензеля, даже Сигизмунд ничего прочесть не мог.
Подковы все так же звонко стучали по каменным плитам. Сигизмунд все оглядывался по сторонам, начал хмуриться, по такой широкой и ухоженной дороге должны купеческие караваны ходить взад-вперед, здесь вообще должно быть тесно, однако за весь день никого не встретили, лишь дважды видели вдали полуразрушенные строения.
Я съехал на обочину, моему Вихрю все равно где идти, снял амулет и, зажав в ладони, лег животом на конскую шею. Сигизмунд посматривал с недоумением, не видел, что у меня в руке, а я свесил руку как можно ниже. Ехал некоторое время, ничего не случилось, велел Вихрю перепрыгнуть кювет. Не миновали и сотни шагов в стороне от дороги, как быстро-быстро вздулась земля, словно на поверхность выбирался скоростной крот, в воздухе блеснуло. Я не успел подхватить, монета упала наземь. Ворча, я слез, подобрал, снова в седло, но когда еще через пару шагов еще одна точно так же выпрыгнула, кувыркаясь, как при игре в орлянку, я снова поймать не сумел, слишком низко, то, ворча, повесил амулет на шею и задумался, стоит ли слезать.
Сигизмунд понял правильно, вмиг оказался рядом. Соскочил, подхватил и подал в одно движение.
– Сэр Ричард, это же целое состояние!..
В голосе молодого рыцаря был упрек, я его понимал, но когда достается вот так легко, а золота нам нужно только на прокорм да разве что на перековку подков, то в самом деле бывает лень нагнуться.
– С какой силой человек притягивает золото, – сказал я мудро, – с такой же отталкивает людев.
Сигизмунд возразил:
– А мой отец говорил, что деньги как дети, какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.
– Золото – это праздник, что всегда с другими, а наш праздник в другом… Если вон там устроить привал с ночлегом, как думаешь?
– Да, – согласился Сигизмунд, – это будет праздник!
Остановились в сторонке от дороги, выбрав густую рощу. На этом настоял уже Сигизмунд, высказав резонное предположение, что по такой дороге по ночам могут носиться орды демонов, это явно их дорога, руки христианские такое построить не в силах.
Кони мирно паслись в кустах, далеко не уходили. Костер Сигизмунд благоразумно расположил за толстым деревом, да еще в широкой выемке между корнями. Со стороны дороги тишь, Сигизмунд напрасно прислушивался весь вечер, даже время от времени переставал жевать, вперял глаза в тьму, но, увы, тишина, разве что над головами что-то скреблось, ухало, вздыхало жалостливо и даже жалобно. Пару раз в костер с веток посыпались чешуйки коры. Однажды, правда, блеснула и кремниевая чешуйка, что меня насторожило, но не настолько, чтобы всю ночь сидеть с мечом в руке, не смыкая глаз.
Сигизмунд, перенервничав, заснул первым, внезапно. Сидел, помешивал прутиком в углях, пальцы разжались, прутик выпал, а он сам откинулся спиной к дереву и застыл, мирно посапывая.
Далеко из глубин темного леса донесся едва слышный звук струн, так мне показалось. Я подтянул ножны с мечом ближе, наполовину обнажил, кто это в потемках играет такое, что Сигизмунд отрубился, как бревно. На меня музыка так не действует, я наслушался всякой, у меня долби с объемным звуком, а здесь что-то тренькает, как чукча на кобызе…
Звуки становились яснее, ближе. Я чувствовал, как сведенное в тугой ком тело распускает отряд мышц, еще не командой «вольно», но уже близкой к ней, угрозы в этом треньканье нет, я довольно чувствительный зверь, еще бы не стать чувствительным, каждый день десятки раз перебегая улицу, где нет разметки, но даже и на зеленый свет бежишь и смотришь по сторонам, ведь какой-то на колесах может не успеть затормозить, другой сорвется с места на желтый, все нужно рассчитать, а когда этим занимаешься с детства, то расчеты опускаются в подкорку, все выполняется на инстинкте, и уже заранее знаешь, откуда веет опасностью, а откуда ожидать пока не стоит… Это не значит, что чувство безопасности не подводит, всегда есть и неучтенные факторы, новые инстинкты человека асфальта только складываются, но, во всяком случае, мои рефлексы намного лучше, чем у этих бесхитростных детей нового Средневековья.
Слушал, слушал, наконец убрал пальцы с рукояти меча. В темноте появилось свечение, будто там возник полупрозрачный призрак, свет приближался, ширился, наконец я рассмотрел за деревьями освещенную настоящим лунным светом полянку, свет ярок настолько, что глаз воспринимал цвета. На зеленом пригорке со старинной лирой в руках молодая девушка в белом платье до пят, длинные белокурые волосы украшены дивными цветами нежных оттенков, за спиной большие белые крылья изысканной строгой формы, я рассмотрел крупные длинные перья.
Снова тронула струны, в моей груди разлилась нежность и тоска, настолько ласков и робок звук, деликатен, над нею тут же закружились не то большие полупрозрачные бабочки, не то птички, сотканные из лунного света, потом мне почудилось, что это крохотные человечки с крыльями. Дальше, шагах в пяти, небольшое озеро, выплыли два белых лебедя и остановились у берега, слушают, время от времени трогая друг друга красными носами.
Откуда озеро, я не понимал, днем же не было, а красивая мелодия лилась сквозь ночь, струилась тихо и нежно. Девушка перебирала струны тонкими, удивительно красивыми «музыкальными» пальцами. Покосилась в мою сторону, я уже стою возле дерева и пялюсь на нее, но не испугалась, даже не удивилась, что я не отрубился, как другой, улыбка тронула ее полные нежные губы.
Я стоял и смотрел на эту лиру, что есть прабабушка арфы, а сама арфа – это рояль без штанов и вообще без одежды, все знакомо, но сердце щемило, даже не думал, что и вот такая простенькая музыка, без всяких синтезаторов и компьютерной обработки может тронуть, исторгнуть если не слезы, я не такой, но все же задеть, заставить ощутить то, чего я не ощущал и не собирался.
Оглянулся, между деревьями видно поляну, Сигизмунд спит, прислонившись к дереву. Белокурые волосы в свете костра поблескивают алым, так и кажется, что по ним струится кровь.
Вздохнув, я вернулся в багровый круг света. Костер уже догорает, я ногой придвинул охапку толстых сучьев, лег на расстеленный плащ.
Глава 4
Рядом весело потрескивало, лицо лизали теплые волны, но в спину противно дуло. Запах жареного мяса щекотал ноздри, по трубам заползал вовнутрь и там врубал какие-то рецепторы или рычаги, включающие спазмы в желудке.
Я сглотнул слюну и кое-как поднял тяжелые веки. Сигизмунд, бодрый и выспавшийся, разогревал на углях мясо. По земле двигаются ажурные тени, ствол дерева уже коричневый, что значит, солнце поднимается над лесом.
Заметив мое шевеление, молодой рыцарь сказал противным голосом ранней пташки:
– Кто рано встает, тому Бог дает!
– Кто рано встает, – буркнул я, – тому ночью не… гм… нечем было заняться.
Он насторожился, глаза бросили быстрый взгляд по обширной поляне, не видно ли трупов гоблинов, сраженных великанов, драконов, разбитых щитов и сломанных мечей.
– Скажите, сэр Ричард, только честно…
Я прервал:
– Знаю, что когда обращаются с просьбой «Скажи мне, только честно…», с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, придется много врать. Сиг, на фиг тебе это?
Он помялся, кивнул, сказал со вздохом:
– Просто вы сами, сэр Ричард, как-то сказали, что я для вас не только вассал, но и друг…
– Понимаю, друг – это человек, который знает о тебе все, но при этом все еще не считает тебя сволочью! Но кое-что лучше оставить за кадром… У тебя мясо не подгорело?
Мы ели сыр и мясо, неловкость быстро испарялась, далеко за деревьями просвечивает удивительная дорога, с неба падают прямые солнечные лучи, очень яркие, словно бьют лазерные прожекторы.
– В жизни всегда есть место подвигу, – сказал я с набитым ртом. – Надо только быть подальше от этого…
Сигизмунд слушал меня внимательно, в глазах ни капли сомнения, что я изреку мудрость, и я, крякнув, поправился:
– …надо быть поближе к этому месту.
Черный Вихрь подбежал на свист и замер, не конь, а статуя. Я нарочито взапрыгнул с разбега, но коняга даже не шелохнулся, словно копытами впаян в каменную плиту, как жертвы Аль Капоне в тазик с цементом. Сигизмунд легко и красиво взобрался в седло, утреннее солнце бодро блестит на доспехах, на вскинутом к небу рыцарском копье.
– В дорогу, сэр Ричард?
– Да, – ответил я. – И слава тебя найдет!
Копыта снова застучали весело и звонко на странном покрытии. Сигизмунд подивился искусству, с которым строители отполировали гранит, а я подумал о странной прихоти этих чудаков, что замаскировали керамические плиты под серый невзрачный гранит. Могли бы и разрисовать дивными цветами, узорами… Или вынуждены были таиться?
В полумиле медленно проплыл на высоком холме массивный и величественный замок. Над ним кружила стая угольно-черных на фоне голубого неба ворон. В полной тишине слышалось их злобно-торжествующее карканье. Ясно, замок пуст, давно пуст, такого засилья ворон никто бы не потерпел. У каждого феодала есть ловчие соколы, а для соколов нет любимей дела, чем бить обнаглевших ворон, заставлять летать у самой земли.
Под солнцем блеснули искры, я привычно подумал, что солнечные зайчики пляшут на чьих-то доспехах, обычно выдают приближающегося врага, но затем взгляд вычленил вдали крыши домов, обнесенные высокой стеной. До городка несколько миль, я посмотрел на солнце, еще высоко, можно проехать мимо, ибо чем дальше к югу, тем более вызывающе смотрится яркое одеяние рыцаря-крестоносца, что на Сигизмунде.
Я заметил, что он неотрывно смотрит в сторону. В двух сотнях метров от дороги невысокий холм, на вершине каменный столб, ничего особенного, грубый, вытесанный без всякого изящества. Даже без привычных узоров, которые я оптом называю рунами. Но под столбом…
…под столбом прямо на земле сидит девушка. Сигизмунд, яростно вскрикнув, повернул коня, тот очень неохотно сошел с дороги, дальше потрусил гадкой вихляющей рысью. Мой Вихрь, повинуясь движению колена, пошел следом, ему, как вездеходу, все равно, по какой дороге стучать копытами.
Девушка, молодая и сочная, испуганно вскинула голову, потом в ее глазах появилась смутная надежда. Пышная грива пепельных волос, здоровых и волнистых, падает ей на спину. Из одежды на ней только затейливого вида кожаные штанишки, очень короткие, больше похожие на купальник. Рядом с нею крупная цепь, я не сразу врубился, что одним концом цепь прикреплена к массивному каменному столбу, другим – к металлическому ошейнику. Девушка как раз попыталась просунуть пальцы под широкое кольцо, подтащила к подбородку. Крупная грудь тоже приподнялась при этом движении, я определил, что беда постигла эту деревню немалая, не только в России простой народ хитровато старается отделаться подешевле: языческим богам – красной ленточкой на веточке, христианскому – копеечной свечкой, президенту – аплодисментами, что вообще ничего не стоят, но раз уж отдали молодую женщину, да еще такую лакомую, от сердца, так сказать, оторвали, то…
– Дикари! – вскрикнул Сигизмунд. – Сатанисты!
– Вряд ли, – возразил я. – Скорее всего, язычники.
– Да какая разница…
Он соскочил с коня и начал бегать вокруг каменного столба, стучать, колотить, вскрикивать, обращаясь то к Господу, то совсем другим тоном… уже не к Господу. Девушка следила за ним полными надежды глазами. У нее оказалось широкое, очень милое лицо, грубоватое и в то же время красивое той простонародной красотой, как бывают красивы молодые безупречные коровы, овцы, козы.
Я сказал, не слезая с коня:
– Ты не прав.
Он обернулся.
– В чем?
– Услышали бы тебя наши неоязычники… ладно, отыди.
Он не понял, но когда я снял с петли молот, поспешно отпрыгнул, заслонил собой девушку. Молот вылетел из моей ладони с силой, фырканьем, хотя я бросил легонько, видно, застоялся, вернее, зависелся без дела. Сигизмунд наклонился над девушкой, почти навалился, закрывая ее грудью и не только грудью, раздался грохот, треск, столб рассыпался на крупные глыбы.
Сигизмунд снял с гранитного пенька широкое кольцо, похожее на обруч для бочки, только потолще, оглянулся в беспомощности. Я выразительным жестом указал на девушку, потом на седло его коня. Взгляд молодого рыцаря заметался, я сделал вид, что не вижу попыток выкрутиться, и Сигизмунд спросил с некоторой надеждой:
– А что, не подождем чудовище?
– Какое?
– Ну, которому эту прекрасную леди в жертву…
Я пожал плечами.
– Зачем? Может быть, чудовище уже разучилось само добывать пищу. Так бывает, когда выращенных в зоопарке выпускают на волю… Кто знает, вдруг это редкий вымирающий? Впрочем, не так это важно, как то, что для простонародья необходимо… гм… чудовище, налоговая полиция или призыв в армию. Чтоб жизнь медом не казалась, а то совсем обленятся! Обязательно нужен внешний враг, это сплачивает, дает чувство плеча. Так что пусть с этим пришлым лицом кавказской национальности разбираются сами. А то нам еще и достанется, что лишили их… цирка. Кого пиара, кого смысла жизни.
Сигизмунд краснел, бледнел, брови то поднимались в изумлении, то вздрагивали, и смотрел на меня так, будто я произносил заклинания на украинском языке, что, по новейшим данным украинских ученых, – прямой потомок арийско-халдейского, то в беспомощности оглядывался на девушку. Она уже поднялась на ноги, ниже его на голову, но крепенькая, с широкими плечами и могучей грудью, что смотрит прямо, бесстыдно и красиво, небольшие валики на поясе, но талия хороша, к тому же широкие бедра только подчеркивают ее узость. И крепкие спортивные ноги с хорошими мышцами совсем не выглядят коротенькими.
Когда он поднял ее к себе на седло и усадил впереди себя, я поинтересовался:
– Ну что, жениться будешь?
Девушка посмотрела на него с надеждой, прильнула всем телом, стараясь сделать его как можно более нежным и обволакивающим. Сигизмунд покраснел отчаянно, сказал умоляющим голосом:
– Сэр Ричард, как можно!..
– А почему нет? Все рыцари так делают.
Он отчаянно помотал головой.
– То не рыцари. Или не совсем рыцари. То просто мужики в железе. Нельзя так… нельзя извлекать корысть из благородных деяний!
– Нельзя? – спросил я в сомнении.
– Нельзя! – отрезал он сердито. Добавил: – Тем более и деяние не так уж и благородное, просто обычное! Как будто можно было проехать мимо!
Я смолчал, насмешничать над такими чувствами язык не поворачивается. Сигизмунд в самом деле тянет на паладина, но никак не я. Я слишком заражен тотальным безверием и оплевыванием всех и вся. Скажем, непорочная и праведная жизнь, бывшая нормой в Средние века, ставшая редкостью во время молодости моих родителей, в мое время уже подвергается нещадному осмеянию. Если бы выяснилось, что какая-то из моего класса или школы вышла замуж девственницей, ей до конца жизни не отмыться от насмешек, глумливого хохота и указывания пальцами. Так что я свинья, свинья, свинья, а Сигизмунд – сама чистота. И не фиг мне оправдываться, что я вот такой богатый и разносторонний: могу и свиньей быть, и благородным, все это дешевая отмазка. Как преподлейшие фильмы про благородных киллеров, проституток с моралью или домушников, что на ворованное жертвуют сиротке конфетку, как и оправдания сетевых пиратов, что они вовсе не воруют чужое, а живут по принципу «отнять и поделить».
Он ехал впереди, девушка прижималась к нему так, что ее тело расплывалась на нем, как медуза. Ее пальчик время от времени указывал дорогу, мы съехали с шоссе, а городишко, который я предпочел бы объехать, все приближался. Земля поросла привычным бурьяном, все запущено, хотя я бы сказал, что здесь редкостный чернозем, о котором говорят, что вечером воткни оглоблю – к утру вырастет телега.
Показалась красивая каменная арка моста, дивной красоты башенки, узоры и барельефы, конь Сигизмунда уже вступил на каменный пол, я поехал на расстоянии. Странные ощущения переполняли грудь, когда поднимался по дуге через этот стариннейший мост, под которым давным-давно уже нет реки. Мимо потянулись каменистые холмы, чахлая трава и голые кустарники. Мир одновременно и стар, предельно стар, и в то же время юн, как если бы мы ехали по меловому периоду или каннозойской эре, вокруг диплодоки, стегоцефалы и буцефалы с бицефалами, но в то же время видны руины космодромов, откуда в древности стартовали наши предки.
Понятно, что никаких буцефалов или ацефалов не увидим, как и руин древних космодромов, но ощущение древности этих мест оставалось, заползало под шкуру, пробиралось в кости.
Сигизмунд обернулся, крикнул:
– Это город называется Ленгойтом!..
– Да хоть Нью-Липцами, – ответил я. – Ты уже придумал, как провезешь через ворота эту голосистую?
Он остановился, в глазах тревога.
– Голо… простите, как? Ах да…
– Прикрой, – посоветовал я, – хотя бы плащом. Да и сам не будешь так в глаза бросаться своим крестоносительством.
Город огражден деревянным частоколом, коза перескочит, тем более те козы, которых мы только что встретили, поджарые, как бегуны-марафонцы, без капли жира, зато рога как отточенные острия рыцарских копий. Ворота тоже деревянные, на ночь, похоже, запираются, но сейчас распахнуты настежь. Воздух распарывает резкое блеяние овец, целое стадо теснится, мохнатые тушки стараются пропихнуться раньше других, будто в городе не бойня, а молодая трава на халяву.
По обе стороны ворот по трое крепких стражей, немолодые, уверенные, отборные, почти омоновцы. Их цепкие взгляды обшаривали даже овец, ни одна не пронесет в город контрабанду или неучтенную валюту, вслед за овцами медленно двигались две подводы, а следом – трое купцов с навьюченными лошадьми.
Нас заметили и прощупали взглядами еще до того, как приблизились к воротам. Мне, однако, показалось, что моего коня рассматривают даже внимательнее, чем меня, а на меня посматривают так… с каким-то снисхождением, как на калеку. Мы двигались медленно, блеющие овцы наконец втянулись в слишком узкий для них проем, ближайший к нам страж, крупный и вообще поперек себя шире дядя в толстой коже доспеха, сказал властно:
– Остановитесь, гости дорогие! С какой целью, откуда?.. Зачем?
Второй добавил почти весело:
– С какой целью? Правда ли, что шпионы?
Я кивнул, сказал в том же тоне:
– И собираемся совершить вдвоем переворот в городе. Кстати, эта не ваша? Сэр Сигизмунд, покажи.
Сигизмунд откинул край плаща, страж посмотрел, звучно причмокнул:
– Нет, но можете оставить нам.
– Как пошлину? – спросил я.
Сигизмунд воззрился на меня в великом негодовании.
Страж сказал весело:
– Нет, пошлину отдельно.
Я покачал головой.
– Разве по нас не видно, что такие вот олухи, спасающие девиц от дракона… или не дракона, не ездят с мешками, полными золота? Впрочем, пара серебряных монет у меня где-то завалялась. Но самим придется идти по городу с протянутой рукой. Авось кто-то накормит.
Я вытащил две серебряные монеты, страж поймал обе на лету. Старший тут же смахнул с его ладони, словно взлетевших мух, рассмотрел, попробовал на зуб. Я сделал скорбное лицо. Старшой махнул:
– Поезжайте!.. По этой же улице, в самом конце, хороший постоялый двор. Если у вас завалялась еще одна такая же, хорошо накормят и спать уложат.
– Спасибо, – сказал я и добавил вежливо: – Добрые люди.
Они захохотали, словно я отмочил крутейшую шутку юмора, прям прикололся, а мы с Сигизмундом въехали в город. Народ останавливался поглазеть на нас, рыцари везде – штучный товар, я сказал настойчиво:
– Сэр Сигизмунд, если не дадите свободу милой девушке, я вас начну подозревать.
– Сэр Ричард!
– Да-да, – сказал я твердо. – Почему не отпускаете?
– Да она же… не одета!
– Тем более, – сказал я неумолимо. – Эй, чадо! У тебя в городе есть какая-то родня? Ты сама откуда?
Из-под плаща показалось разрумянившееся лицо, глаза блестят, до чего же эти женщины, как и козы, быстро осваиваются в любой обстановке, про себя в качестве жертвы уже забыла, как забыла бы любая коза, уже устроилась жить под рыцарским плащом.
– Я из Горелых Пней, – пискнула она звонким, почти детским голоском. – Это такое село.
– Где оно?
– Мы его проехали, – сообщила она невинным голосом.
Сигизмунд открыл и закрыл рот, я сказал строго:
– Чадо, ты умеешь устраиваться, вижу. Ты бы и у дракона сумела прижиться. Это очень важное качество женщины, признаю. Даже самое важное. А теперь ответствую, как Томлинсон перед святым Петром: здесь в городе родня есть? Хоть какая-то?
Она заколебалась, но я смотрел строго, она сказала тихо:
– Есть, двоюродная тетя… Такая противная.
Я кивнул Сигизмунду:
– Отпусти ребенка. Плащом придется пожертвовать, но ты, надеюсь, не очень жадный?
– Сэр Ричард, – воскликнул он возмущенно. – Как вы можете?
– Не дашь? – спросил я. – Да, плащ больно красивый…
По лицу Сигизмунда видно, что плаща и в самом деле жаль, роскошный плащ, великолепный, чьи-то девичьи ручки вышивали, кто-то мечтал, что будет укрываться и вспоминать ее ясные очи, румяные щечки и милые ямочки.
Девушка осталась посреди улицы, на шее кольцо с цепью, так и пошла, бедная, может, к кузнецу надо бы, но ладно, хватит и того, что плащом обогатилась. Я подмигнул ободряюще, схватил коня Сигизмунда за повод и пустил своего галопом. Дома замелькали по обе стороны, кто-то испуганно вскрикнул, а через несколько минут кони оказались перед распахнутыми воротами постоялого двора.
Сигизмунд пропустил меня первым, я передал поводья слугам, что заверили насчет отборного овса и ключевой воды, я смолчал, что мой конь и камни жрет, а то в самом деле нанесут камней, всем на такое чудо посмотреть захочется, отряхнул на крыльце пыль и толкнул дверь.
Запахи не сшибли с ног, как бывало раньше, здесь даже не запахи, а скорее ароматы, пахло жареным мясом, но хорошо прожаренным, по запаху чувствовалась его нежность, мягкость, в воздухе плыло слабое ощущение изысканных специй. А если и не изысканных, я их все равно не отличу от неизысканных, то хотя бы не грубых.
Я сел за свободный стол, быстро оглядел помещение. Чистое, просторное, большие окна, столы тоже чистые, ни одной собаки под столами. Правда, я ничего против собак не имею, уже сам привык бросать им под стол кости. Даже посетители тоже сравнительно чистые, хотя народ с виду достаточно простой.
Подошел человек в белом фартуке, похожий разом на официанта и на хозяина.
– Обедать?.. Или только пить?
– И пиво тоже, – ответил я. – В смысле, кроме всего, что полагается двум усталым рыцарям с дальней дороги… Сэр Сигизмунд, идите сюда!.. Нам понадобится еще и просторная комната. Кровати, пожалуйста, раздельные.
Он посмотрел на Сигизмунда, тот опустился с другой стороны стола, взгляд оценивающе скользнул по шлему с красным крестом на коленях молодого рыцаря.
– Комнату?.. Да еще просторную?
Я бросил на стол две серебряные монеты.
– Если не поторопишься с едой, начнем грызть стол.
Он взял монеты спокойно, с достоинством, все-таки хозяин, не слуга, осмотрел, на губах появилась скупая улыбка.
– Все будет. У нас хорошо готовят.
– Верю, – ответил я. – Пахнет здорово.
Он ушел, я посматривал на людей, Сигизмунд сидел угрюмый, бросал по сторонам недоверчивые взгляды.
– Нехорошее место, – сообщил он хмуро.
– В чем?
– Нехорошее, – повторил он убежденно. – Нигде не вижу святого распятия! Как можно?
– Возможно, – предположил я, – чтобы не портить аппетит? Все-таки вид распятого на кресте человека, истекающего кровью, как зарезанный баран, напоминает кухню, а за столом о кухне не то что говорить, даже вспоминать неприлично. Не спеши, в комнате увидишь даже свечи и просвирки.
– Пока не увижу Библию, – сказал он так же угрюмо, – я не поверю, что здесь живут достойные люди.
– Сэр Сигизмунд, – ответил я, – нам придется не только идти бок о бок с не самыми достойными людьми на свете, но и делить хлеб. Не гордыня ли в тебе глаголит?
Он испуганно перекрестился, губы задвигались, шепча молитву. Когда принесли две глубокие миски с горячим супом, он все еще молился. Просил избавить от искушения, от соблазнов, укрепить дух и волю. Я торопливо хлебал, с каждым глотком вливалась сила, усталое тело оживало. Потом хорошо приготовленный кусок мяса, есть приправы, да не вонючий чеснок, а благородный перец… Хотя, возможно, чеснок убрали потому, что отпугивает всякую нечисть, а это бесхозяйственно, у нечисти злата больше, чем у невинных душ, которым уготовано место в раю. Правда, я чуточку ближе к чисти, чем к нечисти, но тоже мне очень не хотелось бы, чтобы на меня дышала чесноком вот та красотка, что веселится в компании мужчин в дорожных плащах. Или слышать запах чеснока вон от той женщины, пусть уж лучше будет нечистью…
Она сидела за небольшим столом у окна, свет падал на ее чистое милое лицо. Взгляд больших темных глаз устремлен на нечто там, на улице, явно такое же спокойное, мирное, теплое и ласковое, как она сама. Я подумал, что ее трудно вообразить в соседстве с чем-то не теплым и не ласковым. Водопад черных волос ложится на плечи и спину, волосы блестящие, ровные, вся женщина налита спокойным здоровьем. Такая чеховская душечка, пышненькая даже, в полупрозрачной сорочке лилового цвета, с крупной налитой грудью, что вызвала ассоциации с тонкой пленкой, заполненной горячим густым молоком, розовые девичьи ареолы сосков, вовсе не осиная талия, да на фиг она нужна, так здорово хвататься за сочный живот и кусать за нежненькие валики на боках.
Руки чуть скрещены, свисают свободно, давая возможность полюбоваться их нежностью, чистой кожей, которой не коснулось солнце, я сразу представил эти руки на своей шее, а потом не только на шее, но не застеснялся, посмотрел на нее глазами пользующегося собственника, и она, перехватив мой взгляд, ответила спокойным понимающим мои нужды взглядом и легкой материнской улыбкой.
Сигизмунд тоже посмотрел в ее сторону, вздрогнул, прошептал:
– Ведьма…
– Точно? – спросил я с интересом.
– Вы что, – спросил он возбужденно, – прямо здесь ее рубить будете?
– Нет, – ответил я, – что ты, Сиг… Зачем народ отвлекать от хорошего обеда? Да и клиентуру распугаем хозяину, а у него дело поставлено хорошо, вон как жрешь, словно язычник. Попробую увести куда-нибудь.
Он спросил испуганно:
– Я в самом деле… жру?
– Как язычник? Мне показалось, что ты получаешь удовольствие от еды, а это грешно. Благочестивый человек должен получать радости только светлые, чистые, незамутненные, а какие высшие радости от жратвы, что переварится и поступит в кишечник?
Он с отвращением отодвинул недоеденное мясо, насупился, лоб напрягся, пытаясь наморщиться.
– Пойду посмотрю на коней, – сказал он и поднялся. – Что-то здесь уж очень хорошо все.
Я доел мясо, посматривал на женщину, пытаясь понять, в самом ли деле увести ее куда-нибудь, кто она, возможно, у нее у самой есть место поблизости или даже на этом постоялом дворе, попробовал вино, терпкое, хмельное.
Громко хлопнула дверь, это Сигизмунд вышел, выразив ударом двери по косяку неодобрение высокой культурой обслуживания. Я проследил за ним взглядом, а когда повернул голову обратно, на его месте за столом сидел человек. Я узнал его сразу, а он смотрел на меня через стол с вежливым любопытством, чуть наклонив набок голову. Смуглое лицо, черные волосы, непривычно коротко подрезанные, а когда улыбнулся, два ряда белых и безукоризненных зубов сверкнули, как жемчужины. В этом мире, где белые здоровые зубы редкость, он выглядел преуспевающим бизнесменом, что заботится об улыбке, как доказательстве своего прибыльного бизнеса. Красивые зубы и ровный загар молча говорят, что с этим господином можно иметь дело…
И фигура свежая, подтянутая, без животика, такое же свежее, чисто выбритое лицо без всяких дурацких усов или бороды, скромная и со вкусом подобранная теплая рубашка, вообще одет скромно, но с достоинством, я бы такого не слишком выделил взглядом из толпы на Тверской, в то время как я в этом железе как сбежавшая с карнавала обезьяна.
Глаза только странные, меня взяла оторопь, когда я увидел эти расширенные зрачки… нет, не расширенные, напротив – как булавочные острия, однако в них сгустки мрака, тьмы, чернота, даже не космическая, там все упорядочено, а как бы докосмичность, досозданность, холодок ужаса забрался в мои внутренности.
За соседними столами все так же пили и ели, смачно шлепали по толстому заду единственную служанку, но поднос с пивом в ее руках не вздрагивал, могучий зад похож на тот айсберг, что перетопит все «Титаники», а женщина у окна светло и чисто смотрит во двор.
Он сказал с излишней почтительностью, за которой нетрудно было рассмотреть насмешку, да он ее и не скрывал, тонкий расчет, когда не скрывают, это уже не насмешка, а дружеское подтрунивание:
– Сэр Ричард, поздравляю вас!.. да и себя, кстати.
Я поинтересовался с подозрением:
– Меня – еще могу догадываться, а себя за какие заслуги? Или со мной не связано?
Он воскликнул с энтузиазмом:
– Как же?.. Думаете, просто было задумать такую многоходовую комбинацию, чтобы вам вручили пояс паладина?.. А потом провести так, чтобы комар носа не подточил?.. В этом мире столько случайностей!
Холод охватил меня с головы до ног. Я все еще отказывался верить, но он смотрел уверенно, в глазах победное выражение.
– Хорошо, – сказал я с усилием, – чем же паладин… то есть рыцарь Церкви, так угоден врагу Церкви? Паладины всегда на стороне Добра.
Он покачал головой.
– А вы не знаете? Как все запущено… При чем тут паладины и Церковь? При чем тут вообще Добро и Зло? Дорогой сэр Ричард, паладины вообще не знают Добра и Зла, как им приписывают неграмотные люди, ибо они выше этого…
Я расхохотался.
– Ну, знаете!.. Это уже ни в какие ворота не лезет. Как это может быть выше? Паладины всегда на стороне Добра…
Его глаза насмешливо мерцали. Я запнулся, он сказал голосом школьного учителя:
– Добро и Зло – понятия простолюдинов, а вы уже поднялись из простолюдинов, чему и я поспособствовал, признаюсь, признаюсь!.. Простолюдины – вне зависимости от богатства, знатности и родовитости, оценивают как Добро лишь то, что для них хорошо: дождик в засуху, корова родила двух телят, сосед на день рождения подарил золотой кубок, молния ударила в дом соседа, чья крыша заслоняла солнце вашему огороду… Верно? Верно-верно, по глазам вижу. А Зло – это все, что вредит, верно? Ну там наводнение смыло корову, молния ударила не в соседский дом, а в ваш… Простолюдин будет храбро и честно сражаться с врагом, который нападет на его страну, он понимает, что враг может дойти и до его дома, надо остановить его как можно дальше от своего огорода, но простолюдин никогда по своей воле не пойдет сражаться в чужую страну, чтобы…
…чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, мелькнуло в моей голове. Он прав, нам уже непонятны и смешны Боливар, Че Геварра, Хаттаб, все объясняем в привычных нашей простолюдинности терминах выгоды, интересами олигархов.
– И все равно непонятно, – ответил я чужим голосом, – почему вы решили, что, будучи паладином, обязательно окажусь в вашем лагере?
Он всплеснул руками.
– Как же? Паладины сражаются не за Добро и Зло, верно? Мы уже видим, что это для одних добро, для других зло, как с молнией в дом соседа…
Да ладно, молния, подумал я зло. Среди немецких псов-рыцарей, как мы их называли, были и паладины, но для нас они все – гады, потому что шли не с нами, а против нас. Уж мы точно называли добром разное…
– И что же?
– Паладины, – договорил он, – сражаются храбро и мужественно на стороне Правды!.. На стороне правого дела. Если их родина или их страна оказывается неправой, они с болью в сердце… или без боли, по их мужественным мордам не разберешь, сражаются против. Для них Правда, Истина – дороже таких простеньких понятий простолюдинов, как родина, отчизна, свои, чужие…
Я подумал, потом еще подумал, ответил осторожно: