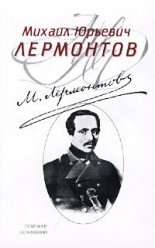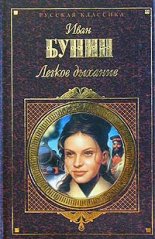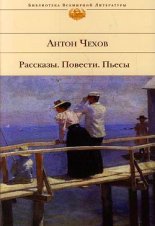Репин Бунин Иван
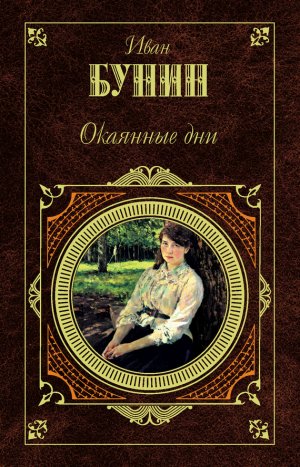
«Позвольте, господин, я сам найду…» Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай!» – «Но, позвольте, господин, это не ваше пальто…» «Как, негодяй? Значит я чужое пальто беру?» – «Так точно, чужое-с». – «Молчать, негодяй, это мое пальто!» – «Да нет же, господин, это не ваше пальто!»
– «Тогда говори сію же минуту, чье»
«Антона Павловича Чехова».
Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» – «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». – «Так, значит, он здесь?» – «Всегда у нас останавливаются…» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали – видели только ваш, номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьяго царства».
Он подтирал со смеху и говорил;
– Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?
– Простите, дорогой, не удержались.
– А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо – закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.
Необыкновенно радовался он однажды, когда я разсказал ему, что наш сельскій дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, (фунта два икры. Этой исторіей он начал свою повесть «В овраге».
Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.
Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:
– Ровно сто сюжетов! Да-с, милодарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?
Иногда он разрушал себе вечернія прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, – за последніе дни много смочил платков кровью,– молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной котораго свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:
– А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!
Я останавливаюсь от изумленія, а он быстро шепчет:
– Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убійстве Бунина
Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»
– Ах, что вы, что вы! – воскликнул он. – Это же чудесно – плохо начать! Поймите же, что, если у начинающаго писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!
И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется уменью приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявленій себя.
По берегам Чернаго моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищеніем сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.
Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа па девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.
Руки у него были большія, сухія, пріятныя. Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.
Помню его молчаніе, покашливание, прикрываніе глаз» думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».
Крымский зимній день, серый, прохладный, сонныя густыя облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгеніи Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожанныя мелкія калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодыя деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку… Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора…
Была ли в его жизни, хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.
«Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то вырождающагося, бывшаго когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь.»
Что думал он о смерти?
Много раз старательно-твердо говорил, что безсмертіе, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме– сущій вздор:
– Это суеверіе. А всякое суеверіе ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что безсмертіе – вздор.
По потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
– Ни в коем случай не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Безсмертіе – факт. Вот погодите, я докажу вам это…
Последнее время часто мечтал вслух:
– Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…
Его «Архіерей» прошел незамеченным – не то что «Вишневый сад» с большими бумажными, цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественнаго театра!
«Через месяц был назначен новый викарный архіерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойнаго, которая живет теперь в глухом уездном городішке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала разсказывать о детях, о внуках, о том, что у нея был сын архіерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят… И ей в самом деле не все. верили…»
Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине іюня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японію, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россія. Четвертаго іюля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркій и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя па пороге кузнецовой избы, – и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу…
Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы заграницу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости…
Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и котораго Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:
– Погребальныя дроги стоймя.
1914 г.
Года полтора назад я публично читал в Париже мои литературныя воспоминанія и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замечательных русских писателей, позволил себе сказать, что не люблю его пьес, что они, по-моему, все очень плохи и что ему не следовало бы писать пьесы из дворянскаго быта, котораго он не знал. Это вызвало во многих негодование против меня, обиды. Е. Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаній два больших фельетона в «Новом Русском Слове». «В Женеве, писала она, и старики, и молодые обиделись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горькаго… Этих писателей любят и сейчас, Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ее нытиками ушла в прошлое…» Вот это было уже подлинное оскорбленіе Чехова – низводить его до бытописателя «старой, унылой Руси». Вот на Е. Д. Кускову следовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским «старикам» не мешало бы помнить, что Горкій называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубостью, «чуланом с тухлой провизіей». Следовало бы обидеться еще и на знаменитую артистку Ермолову. Среди ея опубликованных писем есть между прочим такое письмо к ея другу, ялтинскому доктору Середину: «Вы спрашивайте, отчего мни не нравится повесть Чехова «В овраге»? Но потому, что чеховщина есть для меня символ безпросветной тьмы, всевозможных болезней и печали». Зато Горькаго считала «милой, светлой личностью» и просила Середина: «Вы с Горьким близки, не давайте ему сбиваться с этой светлой нотки, которая так сильно звучит в его произведениях…» Читаешь и глазам своим не веришь! «В овраге» одно из самых прекрасных во всех отношеніях созданій русской литературы, но для Ермоловой это «чеховщина, символ безпросветной тьмы», зато Горькій – «милая светлая личность», у него, написавшего великое множество нарочито грязных злобных, мрачных вещей, «сильно» звучала, оказывается, «светлая нотка»!
1950 г.
ШАЛЯПИН
В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желаніем слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком»,– пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:
– Да за чем же дело стало?
– За тем, – отвечал он, – что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.
– Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.
– Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему…
Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать… А вышел от него в полном восторге:
– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек, вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.
– Спасибо, – сказал я, смеясь.
Он захохотал на всю улицу.
Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров,– та, на которой сняты Андреев, Горькій, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московскій немецкій ресторан «Альпійская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили – ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:
– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба. Скиталец обиделся:
– Почему же это свадьба да еще собачья?
– ответил он своим грубо-наигранным басом.
– Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другіе считают себя.
– А как же это назвать иначе? – сказал я.
– Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россія гибнет, в ней «всякія напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молніи подобен», а что в Москве, в Петербурге? День в ночь праздник, всероссійское событіе за событіем: новый сборник «Знанія», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславскаго и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну…
Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общій смех. Шаляпин закричал:
– Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.
– Да, – подхватил Горькій. – писал, писал – и околел.
– Как, например, я. – сумрачно сказал Андреев. – Околею в первую голову…
Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.
Вей считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революціонное, сатанинское, издевательство над королями:
- Жил был король когда-то.
- При нем блоха жила…
И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем – по всей Россіи прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущенію Шаляпиным не было конца краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешеніи!
– А как же мне было не стать на колени? – говорил он. – Был бенефис императорскаго опернаго хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствіем царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и, стал. И что же мне, тоже павшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклоненія, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!
В Россіи я его видел в последній раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже пріехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашеніе от Горькаго присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горькій должен был держать речь по поводу учрежденія им какой-то «Академіи свободных наук». Не понимаю, не помню, почему, мы с Шаляпиным получили приглашеніе на это во всех смыслах нелепое сборище. Горькій держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:
– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!
Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:
– Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованію. Так и объявите в зале.
Прибежавшій скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:
– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.
И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. За то в конце концов ухитрился сбежать от них.
В іюне 37го года я слушал его в последній раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонскаго. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступленіях, – это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленскаго и даже самого Росси, – войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонацій. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):
– Ну что, как я пел?
– Конечно, превосходно, – ответил я. И пошутил: – Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.
– Спасибо, милый, пожалуйста подпевай,– ответил он со смутной улыбкой. – Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрію. Горы – это, брат, первое дело. А ты на лето куда?
Я опять пошутил:
– Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.
Он опять улыбнулся, но очень разсеянно, Ради чего дал он этот последній концерт? Ради Того, вероятно, что чувствовал себя па исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:
– Безплатно только птички поют.
В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины,– навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненнаго и актерскаго блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющій лев. Такого породистаго величія я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.
Толстой, в первый раз послушав его пеніе, сказал:
– Нет, он поет слишком громко.
Есть еще и до сих пор множество умников, искренно убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинскаго голоса, шаляпинскаго таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, – высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, – ему было тогда лет двадцать пять, – особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырскаго размаха», даннаго ему и от природы и благопріобретеннаго на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему міру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне милліонера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!
– Слава подобна морской воде, – чем больше пьешь, нем больше жаждешь, – шутил Чехов.
Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:
– Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!
Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горькій, Шаляпин поднялись со дна моря народнаго»… Точно ли «со дна»? Родитель, служившій в уездной земской управе, ходившій в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаніях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, – например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво; говорившій ему о пеніи:
– Пой, Федя, – на душе веселей будет! Песня – как птица, выпусти ее, она и летит!
И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, – от пріятельcтва с кузнецом до пріятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанція не малая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношеніях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствій по всему міру и всяческих земных соблазнов.
Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждаго спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и, где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на ты однажды ночью в Большом Московском Трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, проезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московскій француз Сіу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сіу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосаго Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр – и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой изступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:
– Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.
– Не забывай, – сказал я, – что живу я на пятом этаже и не так мал.
– Ничего, милый, – ответил он, – как-нибудь донесу!
И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца – потребовал в номер бутылку «столетняго» бургонскаго за целых сто рублей (которое, оказалось похоже на малиновую воду).
Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно разсказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, – и чаще всего самыми крепкими, – жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокій, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:
– Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!
– Ты умный, Ваня, – ответил он сладким говорком, – только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.
– Надоел ты мне со своей Русью! – сказал я.
– Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?
– За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с. Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, – помни, кто ты и кто они.
– Чем же я от них отличаюсь?
– Тем, что, например, Горькій и Андреев очень способные люди, а все их писанія все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос во всяком случае не «литература».
– Пьяные, Ваня, склонны льстить.
– И то правда, – сказал я, смеясь. – А ты все-таки замолчи и запахнись.
– Ну, ин будь по твоему…
И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.
В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшейся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатаго и радушнаго человека. Там мы читали друг другу свои писанія, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтенія, – хотя терпеть не мог слушать, – иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел – то народныя русскія песни, то французскія шансонетки, то Блоху, то Марсельезу, то Дубинушку – и все так, что у иных «дух захватывало».
Раз, пріехав на «Среду», он тотчас же сказал:
– Братцы, петь хочу!
Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же;
– Петь до смерти, хочется! Возьми лихача и немедля пріезжай. Будем петь всю ночь.
Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был – соединеніе Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в ют вечер довольно справедливо сказал:
– Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.
Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице«Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его пріезда, пригласили Горькаго и еще кое-кого из капрійской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество капрійцев, слушали с горящими глазами, затаив дыханіе… Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:
– Помнишь, как я пел у тебя на Капри? Потом завел граммофон, стал ставить напетыя им в прежніе годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:
– Не плохо пел! Дай Бог так-то всякому!
1938 г.
ГОРЬКІЙ
Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, – странной потому, что чуть не два десятилетія считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единаго личнаго повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодованіе. С теченіем времени чувства эти перегорали, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:
– L'erivain Maxime Gorki est dcd… Alexis Pehkoff connu en littrature sous le nom Gorki, tait n en 1868 Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques…
Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак… Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горькаго точнаго представленія. Кто знает его біографію достоверно? И почему большевики, провозгласившіе его величайшим геніем, издающіе его несметныя писанія милліонами экземпляров, до сих пор не дали его біографій? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько дет міровой славы, совершенно безпримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ея носителя стеченіи не только политических, но и весьма многих других обстоятельств,– например, полной неосведомленности публики в его біографіи. Конечно, талант, но вот до с их пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе»,– песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы заполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народнаго…» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горькій-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69м году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющій большой пароходной конторы; мать – дочь богатаго купца красильщика…» Дальнейшее – никому в точности не ведомо, основано только на автобіографіи Горькаго, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте – учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смураго, человека сказочной силы, грубости и – нежности…» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковскій образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и, я до безумія стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма… Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желаніе учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но «казалось, что оное не принято, вследствіи чего и поступил в крендельное заведете. Работая там, свел знакомство со студентами… А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцію яблоками… В свое время был призван к отбыванію воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенціи совсем не на своем месте и ушел бродить по Югу России…»
В 92м году Горькій напечатал в газете «Кавказ» свой первый разсказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодію плеска набегавшей на берег волны… Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, стараго цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил:
«Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенціи, уже многіе зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими: созданіями горьковскаго пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»… Уже славился Горькій и сатирами – например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», – был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Іегудіил Хламида». Но вот появился «Челкаш»…
Как раз к этой поре и относятся мои первыя сведенія о нем: в Полтаве, куда я тогда пріезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горькій. Фигура удивительно красочная. Ражій детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке…» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущаго рядом с ним, что-то басом гудящаго и все время высоко взмахивающаго руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горькій». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремоваго цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражій, а просто высокій и несколько сутулый, рыжій парень с зеленоватыми, быстрыми и, уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ея мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатленіе. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаніями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был безконечно длинный и безконечно скучный разсказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков,– скучный прежде всего по своему однообразію гиперболичности, – все эти богачи были совершенно былинные исполины, – а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горькій все говорил и говорил…
Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружескаго сближенія, с его стороны несколько даже сентиментальнаго, с каким-то застенчивым восхищеніем мною:
– Вы же последній писатель от дворянства, той культуры, которая дала міру Пушкина и Толстого!
В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горькій позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенькаго цвета и сказал с этими гримасами:
– Это, понимаете, я на кофточку ей купил… этой самой женщине… Подарок везу…
Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шумливо-ломающійся, скромный до самоуниженія, говорящій уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае – с одинаковым удовольствіем, одинаково неустанно, – впоследствіи я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне; входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторыя другія его черты, который я неизменно видел впоследствіи много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, – на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбія, честолюбія, от восторга публики перед ним, разсказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, – когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожаніи культуры и литературы, разговор о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствіи, начал он говорить еще тогда, в Ялте:
– Понимаете, вы же настоящій писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокаго художественнаго искусства русской литературы. Наш брат, писатель для новаго читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, -только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!
Несомненно, была и тут игра, было и то самоуниженіе, которое паче гордости. Но была и искренность – можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?
Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши, и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, – пусть простят мне это слово, – воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, – я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большія, ласковыя, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, пріятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросшій волосами, закинутыми назад и! довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны – кожа лба и; брови все лезли вверх к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежнаго цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, – то, что потом так сказалось у его сына Максима, котораго я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостнаго визга доводил скачкой по комнате.
Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей Россіи. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенція сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революціонности, мало того, что Горькій так отвечал этой революціонности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горькій уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горькаго тотчас делалось всероссійским событіем. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращеніи с людьми. У него был снят теперь целый дом в Ніжнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «3наніе»… Он уже писал для художественнаго театра, артистке Книппер делал на своих книгах такіе, например, посвященія:
– Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!
Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманіем, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающаго с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, – выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, – громко изрекал иногда для общаго пользованія какую-нибудь сентенцію или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличіем поднимая вверх брови к складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли па своих лицах меняющіяся выраженія его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращеніе к нему его имя:
– Совершенно верно, Алексей… Нет, ты не прав, Алексей… Видишь ли Алексей… Дело в том, Алексей…
Все молодое уже исчезло в нем – с ним это случилось очень быстро, – цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, – его уже называли унтером, – на лице появилось много морщин, во взгляде – что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежній, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.
На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, – сама Ермолова и уже старая в ту пору! – подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китоваго уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нея слезы на глаза выступили:
– Вот, Максим Алексеевич… Алексей Максимович… Вот я… вам…
Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.
– Я хотела выразить вам. Алексей Максимович…
Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Іова»:
– «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»
А что если бы его «отпустили»?
Ходил он теперь всегда в темной блузе подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которыя вправлял черныя штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочіе «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.
Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, – были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знаніе», участвовал в «Сборниках Знанія». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочія; – больше всего из-за марки «Знанія», – тоже не плохо. «Знание» сильно повысило писательскіе гонорары. Мы получали в «Сборниках Знанія» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он – 1000 рублей: большія деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекціонерство; начал собирать редкія древнія монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслажденіем (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в Россіи сколько угодно).
Я всегда дивился – как это его на все хватает: изо дня в день на людях, – то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, – говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов – и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убежденіе, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!
Всегда говорили о его редком знаніи Россіи. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу Россіи». Когда я его узнал, он уже нигде, не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге… В 1905 году, после московскаго декабрьскаго возстанія, эмигрировал через Финляндію за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, – до 1914 года. Тут, вернувшись в Россію, он крепко осел в Петербурге… Дальнейшее известно.
Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. (В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее пріятен мне.
В начале апреля 1917 года мы разстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собраніе в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академіи свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то…» Собраніе очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствія. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанскаго… Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал…
Вскоре после захвата власти большевиками он пріехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношенія с ним навсегда кончеными.
1936 г.
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО
Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».
В пакете – пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка разсказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской соціалистической газеты «Дни» – статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рожденія, в скоротечной чахотке..
Это был удивительный человек.
Алданов назвал его человеком «совершенно удивительной доброты и душевнаго благородства». Но он был удивителен и. многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравшій для своей литературной деятельности столь скромное имя, -Петр Александров, – в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургскій. Он был из рода, считающагося одним из самых древних в Европе, – последній из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, – был правнук Императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).
Крайнее удивленіе вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в пріемной, было множество народу и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокій и на редкость худой, длинный, похожій на военнаго и штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывшій генерал…» Я мельком взглянул на него, на мгновеніе испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопределеннаго цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военнаго англійскаго образца… Меня удивил его рост, его худоба, – какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное, – его череп, совсем голый, маленькій, породистый до явных признаков вырожденія, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже красно-желтаго цвета и выцветшіе глаза, скорбные, тихіе и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:
– Его Высочество просит позволенія представиться вам.
Я подумал, что он шутит: где же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволенія представиться!
– Какое высочество?
– Принц Петр Александрович Ольденбургскій. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.
– Но как же это – «просит позволенія представиться»?
– Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный…
А затем я узнал, что он пишет разсказы из народнаго быта в духе. толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он пріехал ко мне и привез ту самую книжечку, на счет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографіи Земгора: три маленьких разсказа под общим заглавіем «Сон». Алданов, упоминая об этих разсказах, говорит:
«Средневековыя хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских… Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью… А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал разсказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желаніе вступить в Народно-Соціалистическую партію! Разные были в Россіи великіе князья. Были и такіе, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойнаго Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургскій не нацеплял на себя этой ленточки.
Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года» – день убійства императора Александра II, – связывала его с Николаем II – и едва ли кто другой так безкорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже «переубедить» царя и, не доверяя своей силе убежденія, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представленіе об образе мысли и о душевном облике Ольденбургскаго. В нем не было ничего от «краснаго принца», от обязательного дли каждой династіи Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно пріоберести в его положеніи…»
Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике». Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революціи и страстно отдающихся Христу. Его заветам братской любви между людьми, – «единственнаго спасенія міра во всех его страданіях», – писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:
– Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаніями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок… Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное…
Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такіе строки:
– «Конец сентября. Погожій день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтаго жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшія облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзыя собаки, белый кобель и красная; сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженнаго оцепененія…»
– «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. «Ату его, ату его!» – что есть силы кричу я, скача за собаками белый кобель достает его, сшибает на зеленя…»
«еду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояніе, но напрасно… Зачем не слышу я Ея звонкаго смеха, не вижу Ея больших добрых глаз, Ея ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»
– «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы… Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы: – Семен, а Семен, несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. – Из сарая выходит маленькій плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.
– Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечерком посидеть, побеседовать? – робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. – Что ж, зайду, спасибо, – отвечает он просто, теребя второченнаго русака…»
– «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево – флигельке, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочій. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы… Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю…»
3ная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:
– Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, – то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда то… то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей… с Ольгой Александровной…
Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминаніи о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просившій кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвшій при посторонних Николая II – Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомаго, где большинство гостей были старые революціонеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какіе вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!»). Ответить на этот вопрос, – что за человек был он, – я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны»…
Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторыя строки из них:
– … Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде… По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-дэ-Люз… Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатаго еще летом разсказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике… Очень соскучился по парижским знакомым… Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем добраго отношенія ко мне… (1921 г.)
– … Спасибо Тебе, большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно… Пріезжайте в наши края, тут и теплее и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансіончике в предместье Сэн-Жан-дэ-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и пріятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитаго китолова, патріархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома… (1921 г.)
… Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует… Настроеніе у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что то не пишется, не нахожу слов для выраженія мысли, изображенія картины… (1922 г.)
… Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты дли меня сделал… Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко… Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой разсказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свиданія с Тобой в Парижі… (1922 г.)
В сущности я знал его мало: встречал не часто, – мы все жили в разных местах, – до эмиграціи даже не видал никогда, сведеній о его прежней жизни, в Россіи, имею немного:
До войны он, в чине генерала-майора, командовал стрелками императорской фамиліи… в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губерніи, где мужики – тоже довольно странная исторія – предлагали ему кандидатуру в Учредительное Собраніе… потом, с наступленіем террора, бежал во Францію и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из Россіи и неотлучно находившемуся при: нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)… Неизвестен мне полностью и его характер, – Бог выдает, может быть, были; в нем кроме» тех черт, которыя знал я, и другія какія-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращеніи с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремленіе ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость…
Сперва он жил под Парижем, – и тут мы встречались чаще всего, – потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумленію, вторично женился: встречаю его как то в нашем консульстве (это было еще до признанія Франціей большевиков, тогда, когда Посольство на улице Гренелль еще оставалось в нашем эмигрантском распоряженіи) и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте… Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы…» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после, того и прожил он. Через год, пріехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас удивленно вскакивает, спешит навстречу:
– Боже, как я рад! Вот не чаял!
– А ты зачем и почему здесь?
Он махнул рукой и заплакал:
– Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом…
Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санаторіи. Но не помогла и санаторія: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался – в бедности, в полном одиночестве…
Той зимой он в последній раз посетил меня. Попросил письмом позволенія пріехать. «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свиданіе по очень важному для меня делу…» И вскоре, как то вечером, пріехал – едва живой, задыхающейся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостовереніе, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти…
– Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значеніе мое удостовереніе?
– Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!
Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.
Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая Россіи, успокоенія в родной земле.