Путешественник Тэффи Надежда
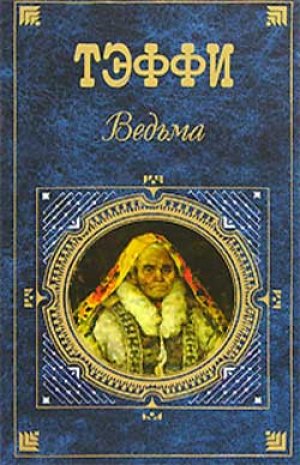
Я мог бы шутливо заметить, что Хуанхэ, должно быть, еще и самая высокая река на земле. Я часто рассказывал об этом впоследствии, но мне редко верили: почти на всем своем протяжении Хуанхэ находится выше окружающих ее земель.
«Как такое может быть? – возражали мне. – Река ведь зависит от земли. И если уровень воды в реке повысится, она просто разольется по прилегающим к ней землям».
Но Желтая река не разливалась, не считая гибельных паводков. Года ми, веками и поколениями крестьяне – хань, жившие вдоль реки, – возводили земляную плотину, чтобы укрепить берега. Однако из-за того, что Хуанхэ несет такое большое количество ила, а он постоянно откладывается на дне реки, сама поверхность дна тоже постоянно поднимается. Поэтому многие поколения местных крестьян, на протяжении веков и целых эпох, вынуждены были продолжать строительство дамбы. И в результате расположенная между этими искусственными берегами Желтая река, образно говоря, находится выше четырехэтажного здания.
– Но, даже такие большие, эти плотины сделаны всего лишь из земли, – пояснил отец. – Помнится, мы были здесь в один очень дождливый год и видели, как Хуанхэ стала такой многоводной и бурной, что уничтожила эти берега.
– Река подперла берега и перелилась? – удивился я. – Наверное, это было что-то.
Дядя Маттео сказал:
– Представь себе, что вода затопила всю Венецию и материковую часть Венето, которые находятся ниже уровня лагуны. Да уж, это было воистину великое наводнение. Деревни и города, оказавшиеся под водой, исчезли. Ушли под воду целые провинции.
– Так случается не каждый год, хвала Господу, – сказал отец. – Однако достаточно часто для того, чтобы у Желтой реки появилось другое название – Кара Сыновей Хань.
Несмотря на это, пока река спокойна, хань пользуются ею с большой выгодой. Повсюду вдоль берегов Хуанхэ я видел самые большие в мире колеса: деревянные и тростниковые водяные мельницы, такой высоты, как если бы поставить друг на друга двадцать человек. Вдоль всей окружности колеса на спицах крепилось множество бадей и лопастей, которые река наполняла водой, поднимала и переливала в оросительные каналы.
В одном месте я заметил у берега лодку, у которой с каждой стороны имелись огромные колеса с вращающимися лопастями. Поначалу я подумал, что это очередное изобретение хань – двигатель, чтобы освободить гребцов от работы. Однако, присмотревшись повнимательней, я снова разочаровался в хваленых изобретениях хань, потому что понял, что это судно просто стояло на якоре у берега, а лопасти колес вращало течение реки. Сами же колеса вращали валы и спицы внутри лодки, чтобы жернова мололи из зерна муку. Таким образом, это оказалось не что иное, как водяная мельница, новинкой было лишь то, что она не стояла на месте, а ее можно было передвинуть вверх и вниз по течению, в любое место, где созрел урожай зерна, которое требовалось перемолоть в муку.
Поскольку движение на Желтой реке было интенсивней, чем по Шелковому пути, нам попадалось неисчислимое количество различных видов судов. Когда народу хань приходится перевозить грузы на большие расстояния, они предпочитают делать это по воде, а не по суше. На мой взгляд, весьма благоразумно, однако монголы всячески насмехаются над хань за то, что те пренебрегают лошадьми. Однако лошадь, как и любое другое верховое животное, проходя какое-нибудь расстояние, съедает больше зерна, чем может нести, так что путешествие на лодке обходится гораздо дешевле. Поэтому неудивительно, что хань поклоняются своим рекам; то, что мы, жители Запада, называем Млечным Путем, они уважительно именуют Небесной Рекой.
На Желтой реке было множество плоскодонок, которые назывались san-pan. Обычно на каждой лодке плавала целая семья, для которой она была одновременно домом, средством передвижения и средством зарабатывать на жизнь. Мужчины или гребли, или тащили лодку на веревке вверх по течению, попеременно разгружая и снова нагружая ее. Женщины же занимались постоянной готовкой и стиркой белья. На этих плоскодонках также играло бесчисленное количество маленьких мальчиков и девочек, на которых не было ничего, кроме выдолбленных тыкв, привязанных к поясу; это делалось для того, чтобы малыши не утонули, когда упадут за борт, а это с ними происходило постоянно.
Здесь было и множество других судов, побольше, которые управлялись парусами. Когда я спросил наших сопровождающих, как они называются, монголы равнодушно произнесли что-то вроде «джонка». Правильное слово я узнал от хань – «чуань», но оно означает всего лишь судно вообще. Я так и не смог выучить тридцать восемь названий тридцати восьми различных видов речных и морских джонок.
В любом случае самая маленькая из них была величиной с небольшое фламандское рыболовное судно, хотя со стороны казалась такой же нелепой и неуклюжей, как плывущий по реке огромный деревянный башмак. Постепенно я догадался, что если у нас на Западе суда создают по образцу рыбы, чтобы сообщить им скорость, то моделью для джонки служила утка, поскольку создатели хотели придать своему творению устойчивость. Я не раз наблюдал, как джонка спокойно проплывает по Желтой реке над самыми бурными водоворотами с белыми «барашками». Возможно, потому, что джонка была медленной и прочной, ей для управления нужен был только один руль, а не два, как нашим судам; он располагался на корме посередине корабля и требовал всего одного рулевого. Паруса у джонки тоже странные: «пузо» паруса не надувается на ветру, оно обнесено рейками через определенные интервалы, поэтому паруса выглядят как перепончатые крылья летучей мыши. Когда необходимо уменьшить парус, то хань не опускают стеньгу, как на наших судах, а складывают перекладину за перекладиной, словно закрывают решетку жалюзи.
Из всех судов, которые я видел на этой реке, наибольшее впечатление на меня произвел весельный скиф, который назывался hu-pan. Он был до нелепости асимметричным, его борта образовывали дугу. Ну, положим, венецианскую гондолу тоже делают чуточку выпуклой, принимая во внимание, что весло гондольера всегда располагается справа, однако само судно изогнуто настолько незначительно, что это незаметно. Эти hu-pan были такими же кривыми, как сабля shimshir, которую положили на бок. Опять же это диктовалось практическими соображениями. Hu-pan всегда плавали близко от речного побережья, и поскольку гребцы все время старались держаться изогнутой или выпуклой стороной к изгибу берега, то судно легче огибало извилины реки. Разумеется, при этом гребец должен все время менять положение кормы и носа, потому что река поворачивает то в одну сторону, то в другую, и, таким образом, судно слегка напоминает возбужденно мечущуюся на поверхности воды водомерку.
Видел я в тех краях и еще одну диковинку – уже не на воде, а на суше. Неподалеку от Цзяюйгуаня мы подошли к заброшенным полуразрушенным руинам, которые когда-то были прочным сооружением из камня с двумя крепкими сторожевыми башнями. Сопровождавший нас Уссу пояснил, что в прежние времена это была крепость хань, которая принадлежала какой-то ныне вымершей династии. Крепость эта до сих пор была известна под своим старым названием, Нефритовые Врата, хотя на самом деле она вовсе не служила воротами и, разумеется, не была сделана из нефрита. Крепость являлась составной частью западной оконечности мощной и впечатляюще высокой стены, которая тянулась далеко на северо-восток.
Великую стену, как ее называли чужеземцы, сами хань именовали более красочно – Устами своей земли. В былые времена хань говорили о себе как о людях внутри Уст, имея в виду эту стену, а обо всех остальных народах, живших к северу и западу, как о людях снаружи Уст. Когда какого-нибудь хань, преступника или предателя, приговаривали к ссылке, про него говорили – «он выплюнут из уст». Стену возвели для того, чтобы внутри нее оказались одни только хань, это самое длинное и мощное укрепление, когда-либо построенное человеческими руками. Сколько было этих рук и как долго им пришлось работать, никто сказать не может. Однако для того, чтобы завершить это строительство, наверняка потребовались жизни многих поколений.
Согласно легенде, стена была построена вдоль пути следования любимой белой лошади какого-то императора из династии Цзинь, правителя хань, который начал строительство в далекие времена. Однако я не слишком доверяю этой истории, потому что ни одна лошадь по доброй воле не выберет такой тяжелый путь по горным хребтам, а ведь именно там и располагается большая часть стены. Разумеется, ни мы сами, ни наши лошади не полезли на хребты. И хотя все оставшиеся недели нашего, похоже, бесконечного путешествия по Китаю нам нужно было следовать в том же направлении, в котором тянулась эта, такая же бесконечная стена – мы видели ее почти постоянно, – однако не составило труда найти более легкий путь вдоль подножия холмов.
Великая стена причудливо раскинулась по всей территории Китая: кое-где она не прерывалась от горизонта до горизонта, однако в других местах она включала в себя естественные «бастионы» вроде пиков и скал и объединялась с ними по всей их длине, а затем тянулась дальше. К тому же стена не везде была единственной. Помню, однажды на востоке Китая мы обнаружили целых три параллельно стоящих стены, расстояние между которыми составляло около сотни ли.
Стена также не везде была одного состава. Восточная ее часть была сложена из больших квадратных кусков горной породы, прочно скрепленных между собой строительным раствором, словно здесь ее строили под бдительным присмотром самого императора. Она и по сей день стоит там в целости и сохранности: великая, высокая, мощная. Прочный бастион, достаточно широкий для того, чтобы через него плечом к плечу проехало конное войско. С обеих сторон этой дороги, расположенной на вершине стены, имеются зубчатые бойницы и огромные сторожевые башни, которые возвышаются над ней через равные промежутки. Однако кое-где в западной части стены подданные и рабы императора явно сделали свою работу небрежно, кое-как, словно знали, что он никогда не приедет проверять ее. Стена была построена плохо, из камней и глины, между которыми зияли бреши, а само сооружение не было ни высоким, ни мощным и вследствие этого по прошествии веков обрушилось и в нем образовались проломы.
Тем не менее по своей сути Великая стена – величественное и вызывающее благоговение сооружение, и я не в состоянии описать ее при помощи терминов, понятных жителям Запада. Разрешите, я попробую сделать это иначе. Если каким-нибудь образом стену целиком, от края и до края, перенести вместе со всеми ее многочисленными фрагментами из Китая в Венецию, а оттуда протянуть на северо-запад по всему европейскому континенту, через Альпы, луга, реки, леса и все остальное, прямо до Северного моря, на побережье которого стоит фламандский порт Брюгге, то останется еще такая часть стены, что ее хватит, чтобы снова покрыть столь же огромное расстояние обратно до Венеции, а оттуда дотянуть на запад, до самой границы с Францией.
Принимая во внимание несомненную грандиозность Великой стены, мне показалось странным, почему же отец с дядей, которые видели ее раньше, даже не упомянули мне о ней? Не хотели пробуждать моего интереса раньше времени? Читатели, кстати, могут поинтересоваться, а почему я сам тоже не рассказал о таком чуде в первой своей книге, где подробно описал все путешествия? Признаю, это было с моей стороны упущением, но, честно говоря, я считал, что люди просто откажутся поверить в подобное. Кроме того, я, как ни странно, не считаю эту стену особым достижением хань. Напротив, мне кажется, что им в какой-то мере даже следует стыдиться ее. Сейчас объясню.
Когда мы ехали вдоль Великой стены, я обратился к Уссу и Дондуку: – Вы, монголы, раньше были людьми снаружи Уст, а теперь находитесь внутри них. Вашей армии было трудно пробить брешь в этой преграде?
Дондук презрительно усмехнулся.
– Поскольку стена эта была сделана еще в доисторические времена, всевозможные захватчики давно уже нашли способ преодолеть ее. И мы, монголы, и наши предки на протяжении веков делали это не один раз. И даже ничтожные ференгхи могли бы легко это сделать.
– Но почему? – спросил я. – Неужели воины других армий всегда оказывались сильнее, чем защитники хань?
– Какие защитники, а-а? – бросил Уссу презрительно.
– Ну, например, часовые на парапетах. Они ведь могли увидеть любого врага, который приближался к ним, издалека. И у них наверняка имелись легионы, которые можно было бросить в бой. Разве не так?
– Так.
– Но тогда я не понимаю. Неужели врагам так просто было одержать над хань победу?
– Одержать победу! – одновременно воскликнули оба монгола с невероятным презрением, а затем Уссу пояснил:
– Никто и никогда не побеждал хань. Любому человеку извне, которому хотелось пересечь стену, надо было просто подкупить их часовых при помощи серебра. Вах! Никакие высокие и прочные стены не защитят от человеческой алчности.
Увы, это была правда. Великая стена, на строительство которой потратили бог знает сколько денег, времени, труда, пота, крови и человеческих жизней, всегда была для завоевателей не больше чем простой пограничной линией, случайно нанесенной на карту. Пожалуй, Великая
Китайская стена могла бы считаться самым грандиозным на свете памятником тщетности.
Я убедился в этом, когда несколько недель спустя мы наконец-то подошли к городу, который монголы легко захватили, несмотря на то что его окружали и охраняли невероятно прочные, высокие и мощные стены. Город, что находился за этими стенами, на протяжении веков был известен под разными именами: Яньцзин, Янь, Ючжоу, Шамблэй и многими другими. В разные времена он был столицей многих империй хань: династий Цзинь, Чжоу, Тангутов и, вне всяких сомнений, не только их одних. Но помогла ли ему устоять гигантская стена? Теперь этот город, в который мы въехали, называется Ханбалыком, Городом Хана – название увековечило последнего завоевателя, который пересек Великую стену и покорил эту землю. Я полагаю, он был самым великим из всех: человек, который громко, но справедливо величал себя великим ханом, ханом всех ханов, ханом всех народов, сыном Тулея и братом Мангухана, внуком Чингисхана, самым могущественным из монголов, великим ханом Хубилаем.
Часть восьмая
Ханбалык
Глава 1
К моему удивлению, когда мы вступили в Ханбалык – то есть когда мы уже в сумерках добрались до того места, где пыльная дорога стала широкой, мощеной и чистой улицей, которая вела в город, – наш маленький караван натолкнулся на значительный отряд встречающих.
Сначала мы увидели группу поджидавших нас пехотинцев – все с оружием из тщательно отполированного металла и в блестящих от масла кожаных доспехах. На этот раз монголы не заступили нам дорогу, как дорожный патруль Хайду на окраине Кашгара. С удивительной четкостью они одновременно склонили блестящие пики в салюте, а затем построились вокруг нашего отряда в форме каре и замаршировали вместе с нами по улице, сквозь толпы горожан, которые, оставив свои дела, бросали на нас любопытные взгляды.
Другая группа встречающих оказалась пожилыми, знатными на вид господами – причем не одними только монголами, но также хань, арабами и персами. Все они были одеты в длинные шелковые халаты разнообразных ярких расцветок, каждому прислуживал отдельный слуга, державший над господином балдахин с бахромой на длинном шесте. Старейшины быстрыми шагами двинулись нам навстречу, а слуги засуетились, стараясь удержать над ними балдахины, и при этом все улыбались гостям, приветствовали нас жестами и говорили на разных языках:
– Mendu! Ying-jie! Salaa!
Однако их приветствия были тут же заглушены группой музыкантов, присоединившихся к процессии и издававших совершенно невообразимые визг и лязг при помощи труб и цимбал. Отец с дядей приветливо улыбались, кивали и раскланивались, сидя в седлах; казалось, они ожидали столь экстравагантного приема, однако Ноздря, Уссу и Дондук выглядели такими же удивленными, как и я.
Уссу сказал мне, перекрикивая шум:
– Разумеется, за нашим отрядом следили на протяжении всего пути, так же как и за любым путешественником, и гонцы предупредили власти Ханбалыка о нашем приближении. Никто не войдет в город хана незамеченным.
– Однако, – заметил Дондук несвойственным ему уважительным то ном, – обычно учет тех, кто пришел и ушел, ведет ван. – (Замечу в скобках, что у монголов так называется градоначальник.) – О вас, ференгхи, – для разнообразия он произнес это слово благосклонно, – похоже, знают в ханском дворце, с нетерпением ждут и готовы оказать исключительно радушный прием. Эти старейшины, которые сейчас идут по обеим сторонам отряда, полагаю, придворные самого великого хана.
Я крутил головой направо и налево, страстно желая понять, как же все-таки выглядит город, но тут внезапно стемнело и внимание мое переключилось на кое-что другое. Откуда-то доносился шум, напоминающий раскаты грома, и вспыхивал свет, подобный молнии, причем все происходило не высоко в небе, а в пугающей близости от земли, прямо над головой. Это заставило меня вздрогнуть, а лошадь подо мной шарахнуться в сторону так резко, что я упустил поводья. Однако я сумел укротить животное прежде, чем оно бросилось наутек, и заставил коня заплясать на месте, тогда как ужасный шум разразился снова: некий загадочный гром все гремел и гремел, и каждый раз появлялись вспышки света. Я заметил, что и остальные лошади тоже испугались, и все члены нашего маленького отряда были заняты тем, что пытались их успокоить. Я ожидал, что горожане на улицах разбегутся от страха, однако они не только сохраняли спокойствие, но, похоже, даже наслаждались грохотом и вспышками света в сумраке. Отец, дядя и оба монгола выглядели одинаково безмятежно; мало того, они вдобавок широко улыбались, успокаивая испуганных лошадей. Казалось, что вспышки и грохот привели в недоумение только нас с Ноздрей – мне были видны его глазные яблоки, выкатившиеся наружу: раб ошалело оглядывался по сторонам в поисках источника шума.
Шум раздавался с верхушек изогнутых крыш домов по обеим сторонам улицы. Яркие разноцветные огненные шары, подобные огромным искрам – больше всего они напоминали таинственные пустынные «небесные бусы», – взлетали с крыш и образовывали в небе арки. Они разлетались прямо над нашими головами, издавая оглушительный грохот и образуя целые созвездия из разноцветных брызг, полос и осколков света, а затем устремлялись вниз и гасли еще до того, как достигали мостовой, оставляя хвост резко пахнущего голубоватого дыма. Их взлетало с крыш так много и они взрывались в небе так часто, что вспышки следовали одна за другой, освещая все вокруг, несмотря на то что уже наступили сумерки. Разрывы сопровождались таким грохотом, что встречавший нас оркестр не был слышен. Музыканты устало тащились, равнодушно взирая на клубы синеватого дыма, казалось, что они всего лишь изображают игру на инструментах. Хотя гром заглушал также и выкрики толпы горожан на всем пути нашего следования, по их прыжкам, машущим рукам и шевелящимся ртам было понятно, что они издают одобрительные возгласы при каждом новом взрыве.
Похоже, мое собственное изумление при виде столь загадочного летающего огня не укрылось от монголов. Потому что, когда мы проехали дальше по улице и дым с ураганом искусственных огней остались позади, Уссу снова направил свою лошадь поближе к моей и сказал громко, чтобы его можно было расслышать сквозь шум играющего оркестра:
– Ты раньше никогда не видел такого представления, ференгхи? Эту игрушку изобрели по-детски непосредственные хань. Они называют ее «Huo-shu yin-hua» – «пламенные деревья и сверкающие цветы».
Я покачал головой и заметил:
– Ничего себе игрушка! – И попытался улыбнуться, словно тоже наслаждался этим зрелищем. Затем я продолжил оглядываться по сторонам, чтобы рассмотреть, как все-таки выглядит сказочный город Ханбалык.
Я подробно расскажу об этом позже. А сейчас позвольте мне просто заметить, что город, который, как я полагаю, был сильно разрушен, когда его захватили монголы (а это случилось еще до моего рождения), до сих пор находился в процессе восстановления и основательно изменился. Спустя много лет его все еще достраивали, облагораживали и украшали, чтобы сделать Ханбалык величественным, как подобает столице величайшей в мире империи. Мы довольно долго ехали в сопровождении группы старейшин и музыкантов по широкой улице между фасадами красивых зданий, пока наш путь наконец не закончился перед высокими, обращенными к югу воротами в стене. Она была почти такой же высокой, мощной и впечатляющей, как и лучшие фрагменты Великой стены, которые нам доводилось видеть по дороге.
Мы прошли через ворота и оказались в одном из дворов дворца великого хана. Однако слово «дворец» здесь, пожалуй, не совсем подходящее. Постройка была грандиозной – настоящий город внутри города, – но все же это было одно здание. Двор был полон повозок, телег и тягловых животных, принадлежавших каменотесам, плотникам, позолотчикам и другим мастерам, а также крестьянам и торговцам, поставляющим провизию и все необходимое обитателям города-дворца; еще там были верховые животные, повозки и паланкины с носильщиками других посетителей, приехавших сюда по делам со всех концов.
Из группы придворных, которые сопровождали нас по городу, вышел вперед довольно старый, хрупкого вида хань и заговорил на фарси:
– Я вызову слуг, господа.
При этом он всего лишь тихонько хлопнул своими тонкими слабыми руками, и тут же каким-то образом эта команда незаметно разнеслась по царившей во дворе сумятице и была незамедлительно исполнена. Откуда-то появились шестеро конюхов, и хань велел им позаботиться о наших лошадях, верховых и вьючных, а также поселить Уссу, Дондука и Ноздрю в казармах дворцовой стражи. Затем старик снова почти беззвучно хлопнул в ладоши, и таким же почти волшебным образом появились трое прислужниц.
– Эти служанки позаботятся о вас, господа, – сказал он мне и дяде с отцом. – Вас временно поселят в павильоне для почетных гостей. Утром я приду и отведу вас к великому хану, который страстно жаждет встретиться с вами, и тогда он, несомненно, предоставит вам постоянное жилье.
Три женщины четыре раза склонились перед нами в раболепном пок лоне, который хань называют «ko-tou»: он такой низкий, что, кажется, при этом можно удариться о землю. Затем женщины, смеясь, сделали нам знак рукой и, забавно семеня маленькими птичьими шажочками, повели нас через двор, прокладывая дорогу в толпе. В сумерках мы прошли по удивительному городу-дворцу значительное расстояние – по галереям, крытым аркадам, через другие открытые дворы, по коридорам вниз, по террасам вверх – пока женщины снова не сделали перед нами «ko-tou», остановившись у павильона для гостей. Его фасад был почти бесцветной стеной из прозрачной масляной бумаги, вставленной в деревянные рамы филигранной работы, однако женщины легко открыли ее, раздвинув две панели в стороны, и провели нас внутрь. Наше временное жилище представляло собой три спальни и смежную с ними гостиную, на мой взгляд чрезмерно украшенную и с изящной жаровней, которая уже была зажжена – в ней горел чистый древесный уголь, а не помет животных или дымный уголь «кара». Одна прислужница принялась готовить для нас постели – настоящие, высокие, с грудой перин и подушек, тогда как другая поставила греться воду на жаровню, чтобы мы могли помыться, а третья начала вносить откуда-то с кухни подносы с еще горячей едой.
Мы незамедлительно набросились на еду, чуть ли не разрывая и накалывая ее на проворные палочки-щипцы, потому что были голодны, а еда оказалась просто изумительная: дымящиеся кусочки поросенка в чесночном соусе; маринованная зелень горчицы с бобами; знакомая паста min; каша, очень похожая на нашу венеианскую поленту из каштанов; чай, приправленный миндалем и подслащенный засахаренными красными дикими яблоками, для удобства наколотыми на прутики. Затем мы помылись, каждый в своей комнате, или, вернее будет сказать, нас помыли. Отец и дядя, похоже, восприняли это совершенно равнодушно, словно их обслуживали не молодые женщины, а мойщики-мужчины в хаммаме. Что же касается меня, то, поскольку женщина впервые мыла меня с тех далеких времен, когда это делала тетушка Зулия, я почувствовал одновременно и смущение и возбуждение. Чтобы отвлечься, я внимательно разглядывал служанку, стараясь не думать о том, что она со мной делает. Это была представительница народа хань, молодая, возможно, чуть старше меня, но в то время я еще не знал, как определять возраст этих иноземных созданий. Она была одета гораздо лучше, чем любая служанка на Западе, и была намного покорнее, внимательнее и заботливее.
Сейчас я опишу вам ее внешность: лицо и руки цвета слоновой кости; уложенные в высокую прическу иссиня-черные волосы; едва заметные брови; выделяющиеся веки и глаза, почти неразличимые, потому что их разрез был очень узкий, а женщина все время опускала глаза. Ее губы, красные и влажные, напоминали розовый бутон, носа же как будто не было вовсе. (Я уже начал смиряться с тем, что никогда не увижу в этих землях приятной формы веронского носа.) Служанка слегка выпачкала лицо, когда делала во дворе «ko-tou». Однако маленький изъян может придавать женщине трогательную прелесть. Я немедленно пожелал увидеть, как же выглядит у молоденькой хань все остальное, скрытое под многочисленными слоями парчи – под накидкой, халатом, платьем, кушаком, шнурками и бесконечными оборками.
Пока женщина мыла меня во всех местах, я тешил себя мыслью, что она могла бы услужить мне и иначе. Однако я устоял. Это произошло по нескольким причинам: я не мог говорить на ее языке, а соответствующие жесты она могла счесть обидными, а вовсе не принять их за приглашение. И еще я не знал, насколько свободны или строги в этом отношении местные правила поведения. Таким образом, я решил, что пока лучше проявить благоразумие, и, когда женщина закончила меня мыть и сделала «ko-tou», я позволил ей удалиться. Время было еще раннее, но день выдался очень утомительный. Общая усталость от всего путешествия, радостное возбуждение от того, что мы наконец-то прибыли, и вялость, вызванная мытьем, заставили меня тут же отправиться спать. Мне снилось, что я раздеваю служанку-хань, словно куклу – слой за слоем, – и когда последний покров был снят, она внезапно превратилась в другую игрушку: представление из ослепительных взрывов, которое называется «пламенные деревья и сверкающие цветы».
Утром все те же три женщины принесли подносы с едой, которые поставили нам на колени, когда мы еще лежали в постелях. И пока мы быстро поглощали завтрак, служанки готовили нам горячую воду для утреннего мытья. Я спокойно выдержал всю процедуру, хотя и подумал, что две ванны в день – это уже слишком. Затем появился Ноздря в сопровождении конюхов, которые несли наши вещи. Таким образом, после ванны мы надели самую лучшую одежду, которая у нас была, – экстравагантные персидские наряды: тюрбаны на головы, вышитые жилеты поверх свободных рубах с узкими манжетами, кушаки и широкие шаровары, заправленные в хорошо пошитые сапоги. Все три служанки захихикали и тут же испуганно прикрыли рты ладошками, как обычно делают женщины-хань, когда смеются: они поспешили показать, что хихикают от изумления перед нашей привлекательностью.
Затем появился старик-хань, который распоряжался накануне вечером, – на этот раз он представился: Лин Нган, придворный математик, – и повел нас из павильона. Теперь, при свете дня, я смог лучше осмотреться: мы шли по аркадам, мимо колоннад и беседок из решеток, увитых виноградом, по галереям, расположенным на изогнутых крышах, по террасам, которые выходили на цветущие сады, по высоким аркам мостов, соединявших пруды, поросшие лотосом, и маленькие ручейки, где плавали золотые рыбки. И повсюду мы видели слуг: большинство из них были хань, мужчины и женщины, хотя и богато одетые, но при этом раболепно спешившие с какими-то поручениями. Нам попадалось множество монголов-стражников, одетых в форму; они стояли неподвижно, как статуи, но держали оружие, которое, похоже, были готовы в любой момент пустить в ход. Еще мы встречали тут знатных людей, старейшин или придворных, таких же благородных, пышно одетых и важных, как и наш проводник Лин Нган, с которым они обменивались церемонными кивками. Все переходы на открытом воздухе, которые не обнесли стенами, были запутанными, замысловато вырезанными балюстрадами, украшенными изысканными колоннами, звенящими на ветру колокольчиками и шелковыми кисточками, шелестящими, как лошадиные хвосты. Все огороженные переходы, куда не заглядывало солнце, освещались бледными фонариками из слюды, свет которых был похож на мягкий свет луны; они сияли красивым рассеянным светом, потому что в каждом таком переходе стелился ароматный дымок от горящих курильниц. И все переходы, открытые или закрытые, были украшены предметами искусства: элегантными солнечными часами из мрамора; лакированными ширмами; гонгами в виде львов, коней, драконов и других животных, которых я не мог узнать; огромными урнами из бронзы и вазами из фарфора и нефрита, полными свежих цветов.
Мы снова вышли из тех самых ворот, через которые вошли накануне, и снова двор оказался полон оседланных лошадей, вьючных ослов, верблюдов, телег, повозок, паланкинов и людей. В этой давке я смог разглядеть двух мужчин-хань, которые только что слезли с мулов, и у меня возникло смутное подозрение, что я видел их прежде. Через некоторое время старый Лин Нган наконец подвел нас к выходящим на южную сторону двустворчатым дверям, покрытым гравировкой, позолотой и разноцветным лаком, таким огромным и тяжелым от металлических гвоздей и выпуклого орнамента, словно они предназначались для того, чтобы впускать и выпускать великанов. Махнув слабой рукой в сторону одной из чудовищных ручек в виде дракона, Лин Нган сказал шепотом:
– Это ченг, зал Правосудия, в этот час великий хан отправляет правосудие над истцами, просителями и злодеями. Вы можете войти, пока оно не завершилось, господа Поло, ибо великий хан желает приветствовать вас сразу же, как освободится.
Хрупкий старик без видимого усилия распахнул массивные двери – они, по-видимому, были хитрым образом уравновешены, а петли как следует смазаны – и провел нас внутрь. Закрыв двери, он остался стоять с нами, давая разъяснения по поводу того, что происходит в зале.
Ченг оказался потрясающе большим помещением, почти таким же огромным, как и внутренний двор; его высокий потолок поддерживали позолоченные резные колонны, а стены покрывали панели из красной кожи, однако мебели здесь практически не было. В дальнем конце зала возвышался помост с огромным, похожим на трон креслом, сбоку от него располагались ряды кресел поменьше и не таких роскошных. Эти места занимали сановники, а в тени за помостом стояли и двигались другие фигуры. Между нами и помостом преклонила колени огромная толпа просителей, их было столько, что они занимали все помещение от стены до стены. Большинство просителей были одеты в грубые крестьянские платья, но попадались и люди в богатых нарядах.
Даже с такого расстояния я узнал человека, сидевшего в центре помоста. Я бы узнал его, будь тот даже одет в поношенное платье и находись он в самом центре толпы, среди униженных простолюдинов на полу зала. Чтобы заявить о себе, Хубилай-хан не нуждался ни в высоком троне, ни в золотых вышивках, ни в шелковых одеяниях с меховой отделкой. Властность сквозила в том, как прямо он сидел, словно все еще находился в гуще сражения верхом на боевом коне, в выражении его морщинистого лица и в силе его голоса, хотя говорил он очень мало и тихо. Люди, сидевшие в креслах сбоку, были одеты почти так же богато, но их манера держаться свидетельствовала о том, что они были подчиненными. Наш проводник Лин Нган сдержанно показал на них и тихо зашептал, объясняя нам, кто они:
– Вот это чиновник по имени Суо Ке, что означает «Язык». Эти четверо – помощники-писцы, которые записывают все рассматриваемые дела в свитки. А вон те восемь человек – это министры великого хана, по два представителя четырех знатных родов. Ну а за помостом суетятся посыльные секретарей, которые доставляют документы из архивов ченга, когда в этом возникает нужда.
Чиновник по имени Язык был все время занят: наклонялся с помоста, чтобы расслышать просителя, затем поворачивался, чтобы переговорить с тем или другим министром. Восемь министров тоже постоянно были при деле: советовались с Языком, приказывали секретарям принести им документы, вчитывались в эти документы и свитки, совещались между собой и иногда – с великим ханом. Однако четверо писцов, казалось, лишь изредка соизволяли взяться за дело, чтобы написать хоть что-нибудь в своих бумагах. Я заметил, что это довольно странно: благородные министры ченга работают больше, чем простые секретари.
– Да, – ответил господин Лин Нган. – Писцы не утруждают себя тем, чтобы записывать весь ход разбирательства, они записывают только те слова, которые произносит сам Хубилай-хан. Все остальное – лишь предварительное обсуждение, тогда как слова великого хана подводят итог, вычленяя главное и отменяя несущественное.
В столь просторном помещении, полном людей, могли бы гулять эхо и стоять страшный шум, однако толпа была спокойной и мирной, как прихожане в церкви. Время от времени кто-нибудь подходил к помосту. Проситель говорил только с чиновником, которого называли Языком, и таким тихим и робким шепотом, что мы, находившиеся в конце зала, не могли ничего расслышать. После долгих обсуждений Язык объявлял решение тем, кого это касалось.
Лин Нган сказал:
– На заседаниях ченга только Язык может изредка напрямую обращаться к Хубилай-хану, и тот, в свою очередь, обращается тоже только к нему. Проситель или истец излагают свое дело Языку – который, между прочим, получил такое имя потому, что свободно владеет всеми языками государства. Затем Язык пересказывает это дело одному или двум министрам меньшего ранга. Если этот чиновник посчитает, что предмет спора достаточно важен, он направит дело выше. Посоветовавшись, вышестоящие чиновники предлагают свое решение дела Языку, который сообщает все великому хану. Тот может согласиться, внести некоторые изменения или же полностью отвергнуть решение суда. После этого Язык оглашает окончательное постановление ченга заинтересованным сторонам и всем, кто находится в пределах слышимости, – возместить убытки должен истец, или же их взыскивают с ответчика, или кого-либо подвергают наказанию, иногда дело прекращают, – и на этом – все.
Я подумал, что этот ченг в Ханбалыке совсем не похож на диван в Багдаде, где каждое дело совместно обсуждали, пока не приходили к взаимному согласию шах, его визирь и избранные мусульманские имамы и муфтии. Здесь же, хотя дело сначала и обсуждали министры, но окончательное решение всегда оставалось за Хубилай-ханом, и его приговор уже не обсуждался и не пересматривался. Хочу также заметить, что временами его решения были остроумными и необычными, а иногда просто изумляли своей жестокой изобретательностью.
Так, помню, старик Лин Нган пояснил:
– Крестьянин, который только что предстал перед ченгом с прошением, представляет целый крестьянский округ из провинции Хунань. Он сообщил, что рисовые поля там были полностью уничтожены нашествием саранчи. Земля опустошена, и крестьянские семьи голодают. Посланник просит помощи для своих земляков и спрашивает, что может быть сделано. Смотрите, министры обсудили проблему и обратились к великому хану, а теперь Язык провозгласит решение великого хана.
Язык так и сделал под жалобные вопли просителя. Лин Нган перевел:
– Хубилай-хан говорит так. Поскольку саранча сожрала весь этот рис и он теперь находится внутри нее, она должна быть очень вкусной.
Великий хан дает свое разрешение жителям провинции Хунань есть саранчу. Хубилай-хан сказал свое слово.
– Святые угодники, – пробормотал дядя Маттео, – старый тиран все такой же надменный и дерзкий, каким я его помню.
– Мед в устах и кинжал за поясом, – восхищенно заметил отец. Следующим рассматривалось дело местного нотариуса по имени Ксен Нинг, который занимался регистрацией земельных участков, завещаниями, наследством и тому подобным. Ксен Нинга обвинили в том, что он подделывал регистрационную книгу в корыстных целях. Язык объявил приговор, который ему вынесли, и Лин Нган перевел:
– Хубилай-хан говорит так. Нотариус Ксен Нинг, всю свою жизнь ты жил за счет слов. И теперь ты тоже будешь кормиться ими. Тебя поместят в одиночную камеру, и каждый раз вместо еды тебе будут подавать листки бумаги с написанными на них словами: «мясо», «рис», «чай». Они будут твоей едой и питьем, пока ты сможешь выдержать. Хубилай-хан сказал свое слово.
– Да уж, – заметил отец, – у него язык как ножницы. Следующим и последним в то утро рассматривалось дело женщины, пойманной на измене. Оно считалось бы совсем заурядным, сказал старик Лин Нган, не будь эта женщина сама монголкой и замужем за монголом, занимающим в ханстве важную должность, неким господином Амурсамой. Таким образом, ее преступление считалось гораздо более отвратительным, чем если бы она была простой хань. К сожалению, возмущенный супруг заколол любовника насмерть, когда застал их, пояснил Лин Нган, имея в виду, что злодей умер неоправданно быстро и без мучений, которые он заслужил. И теперь обманутый муж просил ченг наказать неверную жену более справедливо. Полагаю, проситель-рогоносец был надлежащим образом удовлетворен, ибо Лин Нган перевел:
– Хубилай-хан говорит так. Виновная госпожа Амурсама будет отдана Ласкателю…
– Ласкателю? – воскликнул я и рассмеялся. – Думаю, она уже отдавалась одному из них.
– Ласкатель, – сухо пояснил старик, – прозвище придворного палача.
– В Венеции мы называем его более реалистично, Мясником.
– Так случилось, что в языке хань слова, обозначающие физические муки «dong-xing» и половое возбуждение – «dong-qing», как вы только что слышали, звучат похоже.
– Ges, – пробормотал я.
– Я полагаю, – сказал Лин Нган, – что, когда неверная жена будет отдана Ласкателю, сопровождать ее будет обманутый супруг. В присутствии Ласкателя и, если потребуется, с его помощью супруг зубами и ногтями оторвет срамной сфинктер, а затем задушит ее. Хубилай-хан сказал свое слово.
Ни отец, ни дядя не имели склонности комментировать это решение, однако я высказал свое мнение, съязвив со знанием дела:
– Вах! Это же чистой воды представление. Великий хан осведомлен о нашем присутствии и своими оригинальными приговорами просто хочет нас поразить и привести в замешательство. Так же как ильхан Хайду, когда тот харкнул в рот своему стражнику. Помните?
Отец и придворный математик Лин Нган бросили на меня изумленные взгляды, а дядя с досадой проворчал:
– Наглый выскочка! Ты что, и вправду думаешь, что хан всех ханов будет прилагать усилия, чтобы поразить хоть какое-нибудь живое существо? Что он беспокоится о том, чтобы привести в замешательство самых последних, самых незначительных и жалких людишек, прибывших из какой-то незначительной щели на земле, расположенной далеко за пределами его владений?
Я не ответил, но даже взглядом не выразил раскаяния, будучи уверенным, что мое не слишком почтительное мнение со временем подтвердится. Но этого не произошло. Дядя Маттео, разумеется, был прав, а я ошибался. Вскоре я и сам узнал, как неверно и глупо истолковал нрав великого хана.
В это самое время ченг опустел. Просители засуетились, вскочили и, волоча ноги, покинули помещение через двери, в которые мы недавно вошли. То же самое произошло и с теми, кто отправлял правосудие: все, кроме великого хана, исчезли в дверях в конце зала. Когда между Хубилаем и нами не осталось никого, кроме кольца охранников, Лин Нган сказал:
– Великий хан делает знак. Давайте приблизимся.
И, последовав примеру придворного математика, мы трое преклонили колени, делая «ko-tou» в знак уважения перед великим ханом. Но прежде чем мы согнулись в достаточно глубоком поклоне, чтобы коснуться лбом пола, он весело произнес высоким голосом:
– Поднимитесь! станьте! Старые друзья, добро пожаловать обратно в Китай!
В тот раз Хубилай говорил по-монгольски, и никогда после я не слышал, чтобы он говорил на каком-нибудь еще языке; таким образом, мне неизвестно, знал ли он торговый фарси или какие-нибудь другие из многочисленных языков, которыми пользовались в его государстве. Я также никогда не слышал, чтобы кто-нибудь обращался к Хубилаю на каком-нибудь другом языке, кроме его родного монгольского. Великий хан не обнял отца и дядю, как это делают при встрече в Венеции, но хлопнул каждого из них по плечу большой, унизанной кольцами ладонью.
– До чего же славно снова увидеть вас, братья Поло. Как преуспели вы в своем путешествии, а-а? Это один из моих первых священников, а-а? Что-то он слишком молод для умудренного священнослужителя.
– Нет, великий хан, – ответил отец, – это мой сын Марко, который теперь тоже стал опытным путешественником. Он, как и мы, готов служить вам.
– Тогда мы приветствуем и его тоже, – сказал Хубилай, приветливо кивая мне. – Но где же священники, друг Никколо, они следуют за вами, а-а?
Отец и дядя объяснили извиняющимся тоном, но не раболепно, что мы не преуспели в том, чтобы привести требуемую сотню священников-миссионеров – или вообще хоть каких-нибудь священников, – потому что, к несчастью, возвратились домой в очень неподходящее время, когда наступил перерыв в папском правлении и вследствие этого произошло смятение в церковной иерархии. (Они не упомянули о двух малодушных братьях-проповедниках, которые не поехали дальше Леванта.) Пока оба объясняли, я воспользовался возможностью как следует рассмотреть самого могущественного монарха на земле.
Хану всех ханов едва перевалило за шестьдесят – возраст, при котором на Западе его сочли бы древним, но он все еще оставался крепким и выносливым представителем мужской половины человечества. В качестве короны Хубилай носил простой золотой шлем-морион, похожий на перевернутую суповую миску, с отворотами, защищающими затылок и шею. Его волосы, насколько их можно было разглядеть под шлемом, были седыми, но все еще густыми, а усы и борода, подстриженные по моде, которую на Западе предпочитали корабельные плотники, были скорее цвета перца, нежели соли. В глазах Хубилая, довольно круглых для монгола, светился ум. Его лицо, красноватое оттого, что обветрилось, но не от морщин, было словно вырезано из созревшего грецкого ореха. Нос показался мне единственной некрасивой деталью: такой же короткий, как и у всех монголов, он напоминал луковицу и тоже был красным. Одежды великого хана, сделанные из великолепных шелков, богато расшитых орнаментом и узорами, скрывали фигуру плотную, но ни в коем случае не жирную. На ногах у него были сапоги из особой кожи. Позднее я узнал, что они были сделаны из кожи определенной рыбы, которой приписывали свойство уменьшать боль от подагры – единственного недуга, на который, как я слышал, когда-либо жаловался великий хан.
– Ну что же, – сказал он, когда отец с дядей закончили, – возможно, ваша римская церковь и мудро поступает, охраняя свои тайны.
Я все еще продолжал придерживаться мнения, что Хубилай-хан не слишком отличался от простых смертных, полагая, что его поведение на ченге все-таки было игрой на публику. И теперь он как будто снова подтвердил это мнение, ибо стал по-дружески болтать с отцом и дядей, как самый обычный человек, который ведет праздную беседу с приятелями.
– Да, ваша церковь, наверное, права, что не хочет посылать сюда миссионеров. Когда дело доходит до религии, я часто думаю, что лучше уж совсем никакой, чем слишком много. У нас ведь здесь есть христиане-несториане, они вездесущи и громогласны, как метко сказано, словно бубонная чума. Даже моя старая мать, вдовствующая хатун Соркуктани, которая давным-давно приняла эту веру, до сих пор так увлечена ею, что упорно пытается обратить меня и всех язычников, которые ей только встречаются. Мои придворные, доведенные до отчаяния, в последнее время избегают встречаться с ней в коридорах. Такой фанатизм идет во вред вере. Поэтому я полагаю, что ваша Римская церковь может лучше привлекать неофитов, если она предпочитает держаться в стороне от толпы. Такой же путь, да будет вам известно, выбрали и иудеи. Потому-то те немногие язычники, которые приняли иудаизм, очень гордятся своей верой.
– Ох, пожалуйста, великий хан, – с беспокойством произнес отец, – не надо сравнивать истинную веру с еретической несторианской сектой. И уж тем более не следует приравнивать ее к презренному иудаизму. Вините меня и Маттео, если желаете, в том, что мы выбрали неподходящий момент. Но в любое другое время, искренне уверяю вас, Римская церковь горячо открывает свои объятия, чтобы принять всех, кто ищет спасения.
И тут великий хан резко спросил:
– Зачем, а-а?
Тогда я впервые познакомился с этой особенностью характера Хубилая, на которую частенько обращал внимание впоследствии. Когда это отвечало его целям, великий хан мог быть таким же добродушным, многословным и оживленным, как пожилая болтливая женщина. Но когда Хубилай хотел узнать что-нибудь, когда он хотел получить четкий ответ или раздобыть необходимые сведения, он мог внезапно спуститься с облаков на землю и забыть про болтливость – свою собственную или же собеседников – и устремиться, словно сокол на жертву, чтобы ухватить самую суть.
– Зачем? – повторил дядя Маттео, захваченный врасплох. – Вы спрашиваете, зачем христианству нужно спасти человечество?
– Но мы же объясняли это вам, великий хан, еще много лет назад, – сказал отец. – Вера, которая проповедует любовь и которая была основана на иудаизме, вера в Христа Спасителя, есть единственная надежда на вечный мир на земле и на благожелательность людей, на изобилие, на избавление от мук тела, разума и души. А после смерти христианам уготовано спасение, вечное блаженство на Небесах.
Я подумал, что отец изложил аргументы в пользу христианства не хуже заправского священника. Но великий хан лишь печально улыбнулся и вздохнул.
– Я надеялся, что вы приведете с собой ученых мужей, имеющих в запасе убедительные аргументы, добрые братья Поло. И хотя я испытываю к вам добрые чувства и вдобавок уважаю чужие убеждения, но боюсь, что вы – так же, как и моя вдовствующая мать, да и любой другой миссионер из тех, кого я встречал, – выдвигаете всего лишь голословные заявления.
И, прежде чем отец с дядей успели возразить, Хубилай продолжил свои рассуждения:
– Вы, конечно же, помните, как рассказывали мне о вашем Иисусе, который пришел на Землю, чтобы выполнить великую миссию. Это произошло свыше тысячи двухсот лет тому назад, сказали вы. Хорошо, я и сам живу долго и изучал древнюю историю. Веками, похоже, все религии обещали людям мир на всей Земле, щедрость, доброе здравие, братскую любовь и всеобщее счастье – ну и какие-то Небеса в дальнейшем. О будущем я не знаю ничего. Однако исходя из своего собственного опыта могу сказать, что большинство людей на этой Земле, включая и тех, кто постоянно молится и с религиозным рвением отправляет службы во имя истинной веры, остаются бедными, больными, несчастными, не осуществившими свои мечты и испытывают ненависть к другим – уж не говоря о том, что они постоянно ведут войны.
Отец открыл было рот, возможно для того, чтобы заметить, сколь неуместно звучат жалобы монгола на войну, но великий хан продолжил:
– У народа хань есть легенда о птице jing-wei. С начала времен эта птица носила в клюве гальку, чтобы засыпать бездонное Китайское море и превратить его в сушу. Эта птица jing-wei будет стараться сделать это до скончания времен, но тщетно. То же самое относится, я думаю, к верованиям, религиям и богослужению. Вряд ли вы можете отрицать, что ваша христианская церковь играет роль птицы jing-wei вот уже на протяжении двенадцати веков, все это время тщетно, бессмысленно обещая то, чего не сможет дать никогда.
– Но почему никогда, великий хан? – возразил отец. – Когда-нибудь камней будет достаточно, и они заполнят даже Китайское море. Со временем это произойдет.
– Этого не произойдет никогда, друг Никколо, – спокойно ответил великий хан. – Наши мудрые космографы доказали, что земля в основном состоит из моря, а не суши. Просто-напросто не существует достаточного количества камней.
– Факты не могут одержать победу над верой, великий хан.
– Боюсь, что и над непоколебимой глупостью – тоже. Ну да ладно, довольно об этом. Вот что, мы оказали вам высокое доверие, а вы его не оправдали и не привели требуемых священников. Тем не менее у нас существует обычай: никогда не хулить людей знатного происхождения в присутствии других.
И с этими словами Хубилай повернулся к математику, который прислушивался к обмену репликами с выражением вежливой скуки на лице.
– Господин Лин Нган, не будете ли вы так добры оставить нас, а-а? Оставьте меня наедине с господами Поло, дабы я мог покарать их за то, что они не выполнили взятых на себя обязательств.
Я вздрогнул от злости и, признаюсь, немного от страха. Так вот почему этот самодур заставил нас присутствовать на заседании ченга – чтобы мы тоже боялись и трепетали в ожидании того, какое решение он соизволил принять относительно нас. Неужели мы проделали весь этот утомительный путь лишь для того, чтобы понести какое-нибудь ужасное наказание?
Но Хубилай снова удивил меня. Когда Лин Нган вышел, великий хан, хихикнув, сказал:
– Вот так. Все хань печально известны своей слабостью мгновенно распространять сплетни, а Лин Нган – истинный сын своего народа. Весь двор знает о вашей миссии, и теперь станут говорить, что наша беседа касалась только священников и ничего больше. Однако давайте как раз обсудим это «ничего больше».
Дядя Маттео, улыбнувшись, сказал:
– Есть множество тем, на которые нам стоит поговорить, великий хан. Что интересует вас в первую очередь?
– Мне говорили, что путь привел вас прямо в руки моего двоюродного брата Хайду и что он сжал свой кулак, чтобы на время задержать братьев Поло.
– О, лишь на короткое время, великий хан, – сказал отец и показал в мою сторону. – Вот этот юноша, Марко, самым остроумным образом помог нам отделаться от вашего брата, но мы расскажем вам об этом в другой раз. Хайду пожелал незаконно присвоить дары, которые мы везли вам от ваших ленников: шаха Персии и султана Индийской Арияны. Если бы не Марко, ваш двоюродный брат мог бы все отобрать.
Великий хан снова слегка кивнул мне, а затем повернулся к отцу и дяде:
– Хайду ничего не взял у вас, а-а?
– Ничего, великий хан. Не прикажете ли позвать слуг, чтобы те внесли и продемонстрировали вам богатые дары, состоящие из золота, драгоценных камней и украшений?..
– Вах! – прервал его великий хан. – Эти безделушки не имеют значения. А что карты, а-а? Кроме жалких священников вы обещали привезти еще и карты. Вы их составили, а-а? Или Хайду украл их у вас, а-а? Я бы предпочел, чтобы он лучше украл что-нибудь другое, но не карты!
Только представьте, насколько меня изумил подобный поворот разговора. Великий хан не собирался наказывать нас, и его интересовали совсем не драгоценности. А вы бы сами не удивились, услышав, как человек презрительно говорит «вах!» и называет безделушками сокровища, на которые в Европе можно купить целое герцогство? Но еще сильнее я изумился, осознав, что отец с дядей все это время были вовлечены в миссию, более тайную и важную, чем поставка миссионеров.
– Карты в безопасности, великий хан, – сказал отец. – Хайду бы в жизни не додумался отнять их у нас. Мы с Маттео надеемся, что составили лучшие на Западе карты центральных территорий этого континента – особенно земель, которыми правит ильхан Хайду.
– Хорошо… просто прекрасно… – пробормотал Хубилай. – Хань делают непревзойденные карты, но они всегда ограничиваются лишь своими собственными землями. Те карты, которые мы захватили у них раньше, сильно помогли монголам завоевать Китай, и они будут также полезны, когда мы отправимся на юг и выступим против династии Сун. Но хань всегда считали то, что находится за границами их земель, недостойным внимания. И если вы сделали свою работу как следует, тогда на первое время у нас будут карты центральных участков Шелкового пути на отдаленных рубежах моей империи.
Радостно улыбаясь, Хубилай огляделся, и его взгляд упал на меня. Возможно, великий хан принял меня за скучного остолопа, которого мучает совесть, потому что он улыбнулся еще шире и сказал:
– Я уже пообещал, молодой Поло, никогда не использовать этих карт, если монголы однажды начнут войну против дожа Венеции.
Затем, вновь повернувшись к отцу и дяде, он произнес:
– Позже я устрою закрытый прием, чтобы мы могли посидеть вместе и изучить карты. Ну а пока каждому из вас будут предоставлены отдельные помещения и штат прислуги, вы будете жить неподалеку от моей собственной резиденции во дворце. – И добавил, словно в раздумье: – Ваш племянник может жить в комнатах, которые вы выберете.
(Забавно, но при всем своем незаурядном уме Хубилай за все те годы, что мы были знакомы, так никогда и не смог запомнить, кому из старших Поло я прихожусь сыном, а кому – племянником.)
– Сегодня вечером, – продолжил великий хан, – я приказал устроить в честь вашего приезда пир, на котором вы встретитесь с двумя другими пришельцами с Запада и мы все вместе обсудим неприятный вопрос о моем непокорном брате Хайду. Теперь же Лин Нган ожидает вас снаружи, чтобы сопроводить к вашему новому месту жительства.
Мы трое начали было делать «ko-tou», и снова – так продолжалось и впоследствии – Хубилай приказал нам подняться, прежде чем мы распростерлись в глубоком поклоне, сказав:
– До вечера, друзья Поло. И мы вышли.
Глава 2
Как я уже говорил, в тот день я впервые понял, что отец и дядя, усердно составлявшие карты, работали, по крайней мере, частично на Хубилай-хана. А сейчас я впервые предаю сей факт гласности. Я не упоминал об этом в своих ранних хрониках, описывающих наши совместные путешествия, поскольку тогда мой отец был еще жив и я боялся, что его заподозрят в служении монгольской орде, враждебной нашему христианскому Западу. Тем не менее, как все теперь знают, монголы больше никогда не предпринимали попыток покорить Запад. Нашими злейшими врагами долгие годы продолжали оставаться мусульмане-сарацины, а монголы же, напротив, частенько выступали вместе с нами против них в качестве союзников.
Я хочу, чтобы мои читатели поняли: отец и дядя все время старались, чтобы Венеция и остальная Европа получали прибыль от растущей торговли с Востоком, чему немало способствовали копии всех составленных нами, Поло, карт Шелкового пути. Таким образом, я больше не вижу необходимости поддерживать нелепую выдумку, что Никколо и Маттео Поло якобы исходили всю обширную Азию просто для того, чтобы пригнать монголам стадо священников. Признаюсь также, что ни в одной из моих прежних книг вы не найдете и намека на то, что я сам, Марко Поло, тоже работал на Хубилай-хана и составлял для него карты. В этой главе я расскажу о том, как великий хан начал оказывать мне расположение и доверил подобную миссию.
Это произошло в ту самую ночь, когда был дан пир в честь нашего приезда, тогда я впервые привлек его внимание. Однако вполне могло случиться – и, кстати, это чуть-чуть не произошло, – что первым и единственным знаком внимания со стороны Хубилая мог оказаться его приказ отдать меня, подобно той несчастной монголке, Ласкателю.
Пиршество устроили в самом большом зале главного здания дворца. Этот зал, как похвастался мне один из слуг, подававших на стол, мог вместить шесть тысяч гостей разом. Высокий потолок поддерживали колонны, которые, казалось, были сделаны из цельного куска золота, витые и изогнутые, с вставленными в них драгоценными камнями. Стены, покрытые чередующимися панелями резного дерева и прекрасно тисненной кожей, были увешаны персидскими qali и свитками с рисунками хань, а также охотничьими трофеями монголов. В число этих трофеев входили головы оскаливших пасти львов и пятнистых леопардов, увенчанные рогами головы архаров («баранов Марко»), а также головы больших, похожих на медведей созданий, которых называли da-mao-xiong: эти поразительные животные все сплошь снежно-белого цвета, за исключением черных ушей и масок на глазах.
Возможно, эти трофеи принадлежали самому великому хану, потому что он славился любовью к охоте и каждый свободный день проводил в лесу или в поле. Даже здесь, в пиршественном зале, страсть Хубилая к этому чисто мужскому увлечению была очевидна, потому что гости, которые сидели к нему ближе всего, были его любимыми товарищами по охоте. На каждом подлокотнике его похожего на трон кресла, как на жердочке, сидел охотничий сокол в колпачке, а к передним ножкам были привязаны охотничьи коты, которых называли chita. Этот кот напоминает пятнистого леопарда, но значительно меньше его по размерам и с гораздо более длинными лапами. Chita отличается от всех других котов тем, что не может лазить по деревьям, а также тем (это, на мой взгляд, просто поразительно), что он преследует и хватает дичь по приказу своего хозяина. Сейчас тем не менее и коты, и соколы сидели спокойно, время от времени вежливо принимая лакомые кусочки, которыми Хубилай кормил их прямо с руки.
В ту ночь в зале не набралось шести тысяч гостей, поэтому его поделили на части ширмами, покрытыми черным, золотым и красным лаком, чтобы создать более интимную обстановку. Все же нас, должно быть, было около двух сотен, да плюс еще множество слуг и постоянно сменяющих друг друга музыкантов и артистов. Все эти люди дышали и потели, а от горячего угощения поднимались пряные ароматы, которые ночью на исходе лета согревали даже этот огромный зал. Хотя рядом с нами стояла ширма, а наружные двери были закрыты, в зале таинственным образом дул прохладный легкий ветерок. И только гораздо позже я узнал, как остроумно и просто достигали здесь такой прохлады. Однако в этом пиршественном зале были и другие тайны, которые заставляли меня таращить глаза, испытывать нервную дрожь и изумление, причем для многих из них я так никогда и не нашел подходящих объяснений.
Вот, например, в самом центре стояло высокое искусственное дерево, сделанное из серебра; на его многочисленных суках, ветвях и веточках висели отчеканенные из серебра листочки, которые нежно подрагивали на искусственном ветерке. Вокруг серебряного ствола обвились кольцами четыре золотые змеи. Хвостами они крепились за верхние ветви, а головы их с раскрытыми пастями спускались вниз, словно змеи собирались кого-то ужалить, и оказывались прямо над четырьмя огромными фарфоровыми вазами. Вазы эти были вылеплены в форме фантастических львов: их головы были откинуты, а пасти широко распахнуты.
В комнате были и другие искусственные создания. На нескольких столах, включая и тот, за которым сидели и мы, Поло, стоял сделанный из золота в натуральную величину павлин, перья его хвоста были прекрасно выполнены и украшены мозаикой из эмали. Так вот, я упомянул про тайну, а тайна у этих вещей была такая. Когда Хубилай-хан требовал налить ему какой-либо напиток, эти металлические животные проделывали удивительные вещи, причем они повиновались только ему и никому другому. Я расскажу, что они делали, но не жду, что читатели мне поверят.
– Кумыс! – взревел Хубилай. И одна из золотых змей, обвивавших серебряное дерево, неожиданно выпустила изо рта поток жемчужной жидкости прямо в пасть стоявшей внизу вазы-льва.
Слуга поднес вазу к столу великого хана и налил напиток в его украшенный драгоценными камнями кубок и кубки других гостей. Гости сделали по глотку и, удостоверившись, что там и в самом деле был кумыс из молока кобылиц, захлопали в ладоши, приветствуя это чудо, после чего немедленно обнаружилась еще одна удивительная вещь. Золотой павлин на столе хана – как и все остальные павлины в комнате – тоже как будто зааплодировал: поднял свои золотые крылья и захлопал ими, а затем распустил веером свой роскошный хвост.
– Арха! – снова воскликнул великий хан, и вторая змея на дереве отрыгнула свою порцию в другую вазу в виде льва.
Слуга принес напиток, и мы все убедились, что это более вкусная и прекрасная разновидность кумыса под названием арха. Гости снова зааплодировали, так же поступили и павлины. Эти удивительные скульптуры животных, фонтанирующие змеи и яркие птицы работали без всякого видимого вмешательства человека. Я несколько раз приближался к ним вплотную и когда они работали, и когда стояли без движения, чтобы рассмотреть, но не обнаружил ни проволоки, ни веревок, ни рычагов, которые могли бы приводить механизмы в движение на расстоянии.
– Mao-tai! – в третий раз воскликнул великий хан, и все действо повторилось – от змеи, выпустившей струю в пасть льва, и до павлина, распустившего хвост.
Жидкость, которую выдала третья змея, mao-tai, оказалась для меня новой: желтоватая, слегка напоминающая сироп, пощипывающая язык. Монгольский гость, сидевший рядом, предостерег меня, ибо жидкость эта отличалась необыкновенной крепостью, что он и продемонстрировал. Монгол взял маленькую фарфоровую чашечку с напитком и поднес к ней пламя свечи, стоявшей на столе. Mao-tai загорелась синим пламенем и горела, подобно нефти, добрых пять минут, пока пламя полностью не уничтожило ее. Я так понял, что эта mao-tai – изобретение хань, каким-то образом получаемая ими из обычного проса. Да уж, воистину удивительный напиток – одинаково горючее вещество как для живота и мозгов, так и для открытого пламени.
– Pu-tao! – снова раздался приказ великого хана, обращенный к четвертой змее, висевшей на дереве.
Слово «pu-tao» означает виноградное вино. Но, к ужасу присутствующих, ничего не произошло. Четвертая змея просто свисала с дерева, зловеще сухая, а мы застыли, разинув рты, слегка напуганные, изумляясь тому, что произошло. Однако великий хан сидел, оскалившись в предвкушении, наслаждаясь напряженной атмосферой, и, выждав некоторое время, продемонстрировал нам последнее и самое удивительное чудо. Оказалось, что к «pu-tao» следовало добавить «hong!» или «bai!», после чего четвертая змея начинала фонтанировать, по приказу Хубилая извергая красное (hong) или белое (bai) вино. Разумеется, при виде этого мы, гости, разразились бурей восторженных возгласов и аплодисментов, а золотые павлины хлопали крыльями и распускали хвосты так сильно, что роняли пушинки со своих золотых перьев.
На пиру в ту ночь кроме прибывших с визитами присутствовало и множество благородных гостей – министров и придворных хана. Было здесь и несколько женщин, я решил, что это их жены. Благородные гости были различных национальностей и разного цвета кожи: арабы, персы, монголы и хань. Разумеется, присутствующие женщины не были мусульманками. Если у арабов и персов и имелись жены, то они не принимали участия в трапезе в столь смешанной компании. Все мужчины были превосходно одеты, в наряды из расшитого шелка, на некоторых, например на великом хане, монголах и местных хань, были халаты. На других красовались шелковые шаровары, по форме напоминающие персидские, и тюрбаны, на третьих – шелковые арабские абасы и кофии.
Однако спутницы мужчин были разодеты еще более роскошно. Все женщины-хань напудрили свои лица цвета слоновой кости до снежной белизны, их иссиня-черные волосы были зачесаны наверх и пришпилены длинными, украшенными драгоценными камнями приспособлениями, которые назывались «ложками для волос». Цвет лица у монголок был более темным, а кожа – слегка желтовато-коричневой, и мне было особенно приятно смотреть на этих женщин, чьи лица, в отличие от их живущих в степи сестер-кочевниц, не были грубы и обветрены на солнце и ветру, так же как и их тела не выглядели мускулистыми и грузными. Прически монголок были еще сложнее, чем у женщин-хань. Их волосы, рыжевато-черные вместо иссиня-черных, были обмотаны вокруг каркаса, который заставлял их спадать вниз в виде полумесяцев с обеих сторон головы, наподобие бараньих рогов. Эти полумесяцы были украшены гирляндами свисающих бриллиантов. И еще, хотя монголки и были одеты так же просто, как и женщины-хань, в струящиеся платья, вдобавок к этому у них на плечах красовались высокие ободки из уложенного шелка, которые стояли наподобие плавников.
За столом великого хана размещались члены его семьи. Пятеро или шестеро из двенадцати его законных сыновей сидели в ряд справа. По левую руку от Хубилая разместились: его первая и старшая жена, Джамбуи-хатун, его престарелая мать, вдовствующая хатун Соркуктани, а за ней – три его остальные жены. (У Хубилая было еще огромное количество постоянно сменяющих друг друга наложниц, все намного моложе его жен. Теперешние его фаворитки сидели за отдельным столом. От наложниц у Хубилая было еще двадцать пять сыновей, ну а дочерей, законных и незаконных, никто не считал.)
Пиршественный зал был устроен таким образом, что гости-мужчины занимали столы, располагавшиеся справа от Хубилая, а женщины – слева от него. Ближе всего к Хубилаю, так, чтобы можно было разговаривать, располагался стол, предназначенный для нас, Поло. С нами посадили какого-то монгольского сановника, чтобы переводить нам все, что необходимо, разъяснять, какие незнакомые блюда и напитки нам подавали, и тому подобное. Это был приятный молодой человек – как выяснилось, на десять лет старше меня, – который представился как Чимким. Как я понял, он работал в канцелярии вана Ханбалыка, то есть, по европейским понятиям, в мэрии или магистрате – на венецианском наречии это называется podest. Рассудив, что статус нашего соседа по столу невысок, я сделал вывод, что Хубилай считает нас не слишком почетными гостями.
Великий хан более официально представил нас остальным своим придворным и министрам, которые сидели за ближайшими столами. Даже не буду пытаться перечислить их всех, потому что там было невероятное количество всевозможных вельмож, многие из них носили титулы, которых я не встречал ни при одном дворе, например: мастер искусства черных чернил (не что иное, как придворный поэт), знаток мастиффов, ястребов и chitas (главный охотник великого хана), мастер мягких цветов (придворный художник), хранитель чудес и диковинок, летописец необычайного. Хочу упомянуть лишь нескольких вельмож, которые показались мне (и, полагаю, читатель с этим же согласится) до нелепости неуместными при монгольском дворе, – например, Лин Нган, которого мы уже знали, хотя и был представителем покоренного народа хань, но тем не менее занимал достаточно высокий пост придворного математика.
Молодой Чимким, как выяснилось, имел самый благородный титул, какой только Хубилай присваивал монголам, а между тем всего лишь работал в магистрате. И наоборот, главный министр великого хана, чья канцелярия называлась на языке ханей jing-siang, не был ни завоевателем-монголом, ни побежденным хань. Он оказался арабом по имени Ахмед-аз-Фенакет. Сам этот человек предпочитал, чтобы его величали арабским титулом: на его родном языке эта должность называлась wali. Однако, как бы почтительно к нему ни обращались – jing-siang, главный министр или wali, – по монгольской внутренней иерархии Ахмед был вторым самым влиятельным человеком, он подчинялся только самому великому хану. Поскольку он был также вице-правителем, то, образно говоря, араб правил империей вместо Хубилая, когда тот отсутствовал, занимаясь охотой, войной или чем-нибудь еще. А еще Ахмед занимал должность министра финансов: он следил за завязками имперского кошелька.
Еще более странным мне показалось, что в Монгольской империи военным министром (а ведь именно война была главным и излюбленным занятием монголов, радующим их сердца) был опять же не монгол, а хань по имени Чао Менг Фу. Придворным астрономом оказался перс по имени Джамаль-уд-Дин, который родился в далеком Исфахане. Придворный лекарь, хаким Гансуй, был византийцем из Константи-нополя. У Хубилая имелось еще немало придворных, которые не присутствовали на этом пиршестве; они оказались еще более странного происхождения, но все это я узнал лишь впоследствии.
Если помните, великий хан пообещал, что вечером познакомит нас «с двумя другими пришельцами с Запада». И они действительно сидели неподалеку за столом, который стоял в пределах слышимости от стола великого хана и нашего. Я думал, что эти «пришельцы с Запада» – европейцы, но они оказались простыми хань, и я узнал в них тех двоих, которые слезали с мулов во дворе дворца в тот самый вечер, когда мы приехали в Ханбалык. Меня не оставляло чувство, что я раньше их где-то встречал.
Столы, за которыми мы все сидели, были покрыты розовато-лавандовой мозаикой, которая, как мне показалось, была выполнена из драгоценных камней. Наш сотрапезник Чимким сказал, что так оно и есть.
– Аметист, – пояснил он мне. – Мы, монголы, многое узнали от хань. Их лекари пришли к выводу, что столы, сделанные из пурпурного аметиста, не дают напиваться тем, кто пирует за ними.
Я подумал, что это интересно, но мне также захотелось посмотреть, как много сможет выпить пьяная компания, лишенная целительного воздействия аметиста. Ведь Хубилай был не единственным, кто требовал кумыса, архи, mao-tai, pu-tao и поглощал огромное количество всех этих напитков. И даже присутствующие здесь арабы и персы пили вовсю, единственным, кто от начала и до конца соблюдал мусульманскую умеренность и трезвость, оказался wali Ахмед. Обжорство и неумеренность в питье относились не только к гостям-мужчинам. Монгольские женщины тоже не отставали от них и постепенно осипли и стали вульгарными. Женщины-хань пили только вино, и лишь маленькими глотками, чтобы сохранить свое женское достоинство.
Однако компания напилась не сразу, по крайней мере не вся сразу. Пир начался в тот час, который в Китае известен как час Петуха, а первые гости начали, пошатываясь, выходить из зала или соскальзывать без чувств под аметистовые столы, когда уже было далеко за час Тигра. Короче говоря, пиршество, разговоры и веселье продолжались с раннего вечера и до самого рассвета следующего дня, а значительное опьянение гостей стало заметно лишь ближе к полуночи.
– Оникс, – сказал мне Чимким и показал на открытую площадку на полу возле змеиного дерева, с которого наливалось питье. Там, к нашему изумлению, два чудовищно тучных и потных турецких борца старались разорвать друг друга. – Лекари-хань пришли к выводу, что черный оникс придает силы тому, кто его касается. Поэтому площадка для борьбы выложена ониксом, чтобы вдохновить сражающихся.
После того как, к удовлетворению собравшихся, турки нанесли друг другу травмы, перед гостями выступили молодые узбекские певицы, одетые в рубиново-красные, изумрудно-зеленые и сапфирово-синие одежды с золотой вышивкой. У девушек были довольно приятные, хотя и слишком плоские лица, словно их черты были лишь намечены пунктиром. Пронзительными голосами, напоминающими скрип отъезжающих повозок, они исполнили для нас какие-то непонятные бесконечные узбекские баллады. Затем музыканты-самоеды порадовали гостей больше похожей на какофонию музыкой на ручных барабанах, цимбалах и трубках, напоминающих европейские fagotto[177] и dulzaina[178].
После самоедов выступили жонглеры-хань, что оказалось гораздо занимательнее, потому что, во-первых, представление проходило в тишине, а во-вторых, проделывали они все с немыслимой ловкостью. Просто удивительно, что эти хань вытворяли с саблями, веревочными петлями и горящими факелами и как много таких предметов они могли одновременно удерживать, вращать и подвешивать в воздухе. Но самое поразительное началось, когда жонглеры стали подбрасывать в воздух и кидать друг другу чаши, полные вина, и при этом не пролили ни капли! Между этими представлениями по залу бродили tulholo – монгольские менестрели, которые играли на разновидности трехструнной viella и уныло завывали, повествуя о битвах, победах и героях прошлого.
А тем временем мы все ели. И как мы ели! С тонких, как бумага, фарфоровых блюд, чашей и тарелок; некоторые из них были окрашены в нежные коричневый и кремовый цвета, другие – в синий с темно-фиолетовыми разводами. Тогда я еще не знал, но впоследствии мне объяснили, что этот фарфор, который называют chi-zho и jen-ware, делают хань, и он считается настоящим сокровищем: даже императоры Китая не мечтали пользоваться им как простой столовой посудой. Но так как Хубилай предназначил эти произведения искусства для удобства гостей, он также обзавелся ими для дворцовых кухонь и поваров, превосходивших в приготовлении еды всех остальных в Китае. Этих поваров мы, гости, оценили даже больше, чемредкий фарфор. Когда нам подавали новое блюдо и мы пробовали его, весь зал единодушно выдыхал «ух!» и «ах!» в знак одобрения, и повар, приготовивший это лакомство, улыбаясь, появлялся из кухни и отвешивал гостям ko-tou, а все приветствовали его, щелкая палочками, звук которых напоминал стрекот кузнечика. Тут следует отметить, что у гостей были палочки для еды из покрытой резьбой слоновой кости, тогда как те палочки, которыми пользовался Хубилай, как мне сказал Чимким, были сделаны из предплечий гиббона и имели свойство чернеть, когда касались отравленной пищи.
Наш сотрапезник также вкратце рассказывал о каждом блюде, которое нам подавали, потому что почти все они принадлежали к кухне хань и имели названия, хоть и весьма замысловатые и интригующие, но не дававшие ни малейшего намека на их состав. Я, например, никак не мог определить, что я ем и чему аплодирую. Правда, в самом начале пиршества, когда подали первое блюдо, объявив его как «Молоко роз», я легко догадался, что это был просто белый и розовый виноград. (Трапеза у хань проходит совершенно иначе, чем наша. Она начинается с фруктов и орехов, а заканчивается супом.) Когда нам предложили блюдо под названием «Снежные дети», Чимкиму пришлось объяснить, что оно было приготовлено из соевого творога и лягушачьих лапок. Лакомство под названием «Красноклювый зеленый попугай с нефритом в золотистом обрамлении» оказалось разноцветным сладким кремом, содержащим отваренные и растертые листья персидского растения, называемого aspanakh, грибы в сметане и лепестки различных цветов.
Когда слуги поставили передо мной «Столетние яйца», я чуть было не отказался, потому что это были обыкновенные куриные и утиные яйца, сваренные вкрутую, но желтки у них оказались черными, белки – жуткого зеленого цвета, а пахли яйца так, словно им действительно было сто лет. Тем не менее Чимким заверил меня, что их просто замариновали, и не на сто лет, а всего лишь на шестьдесят дней. В конце концов я попробовал эти яйца и нашел их вкусными. Попадались там и совсем уж странные вещи – медвежьи лапы, губы рыб и бульон из слюны, с помощью которой некоторые птицы скрепляют свои гнезда, голубиные лапки в желе, маленький шарик из субстанции под названием go-ba: он представлял собой лишайник, растущий на стеблях риса, – но я храбро попробовал их все. Однако встречалась там и еда, которую можно было распознать, – паста min, разной формы и с различными подливками, клецки с начинкой, приготовленные на пару, знакомый баклажан с незнакомой рыбной подливкой.
На мой взгляд, сам праздник, так же как и гости, и пиршественный зал, со всей очевидностью демонстрировал, что монголы прошли большой путь от варварства к цивилизации, и проделали они его преимущественно благодаря тому, что приспособились к культуре хань, начиная от их пищи и одежды и до привычки мыться и архитектуры. Но главным угощением на пиру – piatanza di pima portata[179], – как сказал Чимким, было блюдо, много лет назад придуманное монголами. Оно лишь недавно, но счастливо прижилось у хань, которые назвали его «Утка на ветру». Чимким рассказал мне весьма запутанный способ приготовления этого деликатеса.
Только что вылупившегося из яйца утенка откармливают для кухни ровно сорок восемь дней, а затем требуется сорок восемь часов для правильного приготовления блюда. (Если не ошибаюсь, точно таким же способом у нас в Страсбурге, в Лотарингии, откармливают гусей.) Нагулявшую жир птицу убивают, потрошат и через отверстие в теле на дувают тушку и вывешивают ее на улице на южном ветру. «Только на южном», – подчеркнул Чимким. Затем ее надевают на шампур и коптят на огне. После этого обжаривают над обычным огнем, поливают вином и фаршируют чесноком, мелиссой и соусом из забродивших бобов. После этого утку нарезают и подают в виде небольших кусочков (при этом самыми вкусными считаются куски хрустящей черной кожи) с гарниром из перьев зеленого лука, водных каштанов и прозрачной вермишели min. Если что-то и способно примирить хань с их монгольскими завоевателями, то, по моему мнению, это должна быть «Утка на ветру».
После десерта из засахаренных лепестков лотоса и супа из дынь hami на всех столах появилось последнее блюдо – огромная супница отваренного риса. Это блюдо было чисто символическим, и никто не ел его.
Рис – это главная составляющая пищи хань – честно говоря, на юге Китая рис вообще является единственной пищей людей, – поэтому он заслужил честь оказаться на каждом столе. Но гости в богатых домах воздерживаются есть его, потому что в этом случае они обидят хозяина, намекая на то, что всех предшествующих блюд было недостаточно.
Затем, пока слуги убирали со столов для того, чтобы можно было приступить к серьезному делу – питью, Хубилай, отец с дядей и еще кое-кто приступили к беседе. (Как я уже говорил, традиционно мужчины-монголы не разговаривают во время еды, и все остальные мужчины в зале тоже соблюдали этот обычай. Однако это не удерживало монгольских женщин, которые без умолку кудахтали и пронзительно хохотали во время пира.)
Хубилай сказал отцу и дяде:
– Эти люди, Танг и Фу, – он показал на двух хань, которых я уже заметил, – они прибыли с Запада почти в то же время, что и вы. Они мои шпионы: умные, опытные и незаметные. Когда я услышал, что караван хань отправляется в земли моего двоюродного брата Хайду, чтобы привезти обратно трупы для захоронения, я приказал Тангу и Фу присоединиться к каравану.
«Ага, – подумал я, – теперь ясно, где я видел их раньше», – но промолчал.
Хубилай повернулся к хань:
– Расскажите нам, благородные шпионы, какие секреты вам удалось разведать в провинции Синьцзян?
Танг говорил так, словно читал написанное на бумаге, хотя никакими шпаргалками он не пользовался.
– Ильхан Хайду – orlok в bok, который включает внутренний tuk, он готов незамедлительно вывести оттуда в поле шесть toman.
На великого хана это произвело не слишком большое впечатление, но он перевел все сказанное отцу и дяде:
– Мой двоюродный брат командует лагерем, который состоит из ста тысяч воинов-всадников, из них шестьдесят тысяч всегда готовы к битве.
Меня, признаться, порядком удивило, зачем Хубилай-хану понадобилось посылать шпионов, чтобы получить подобные сведения. Я сам, например, узнал все это, просто разделив трапезу в юрте одного из монголов.






